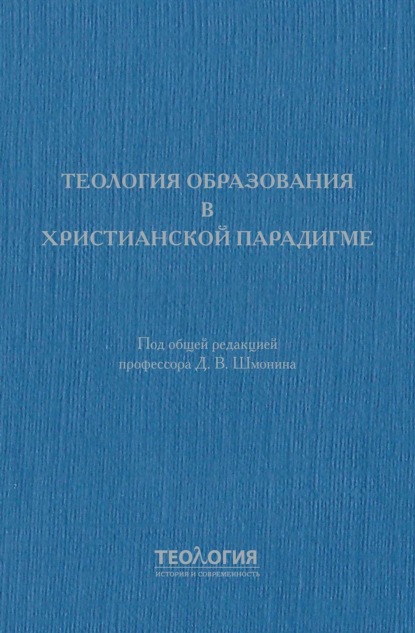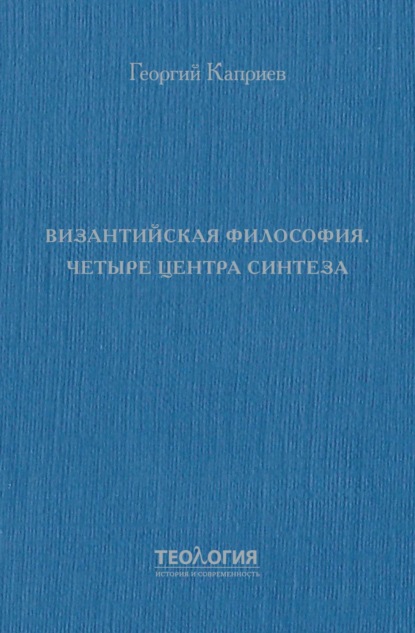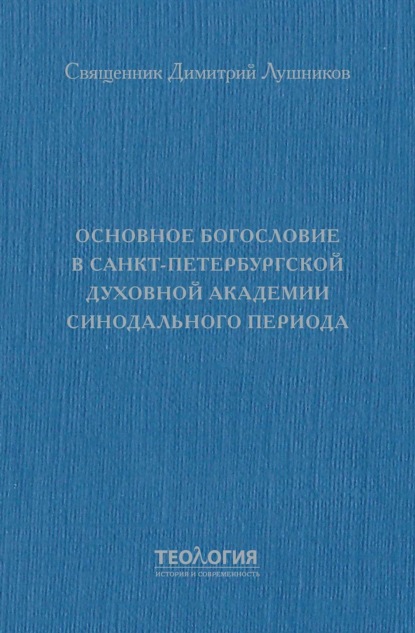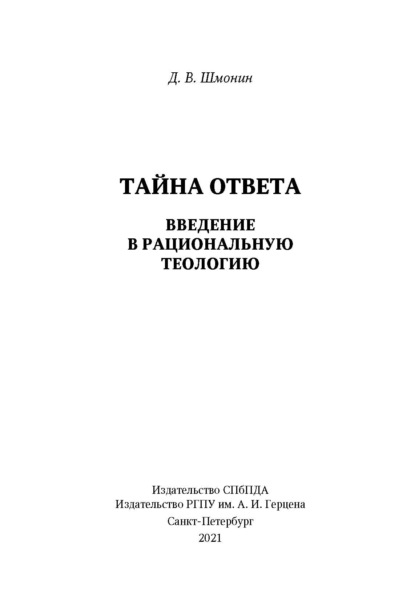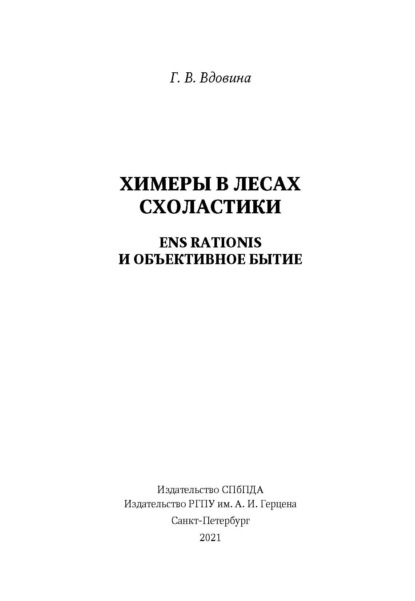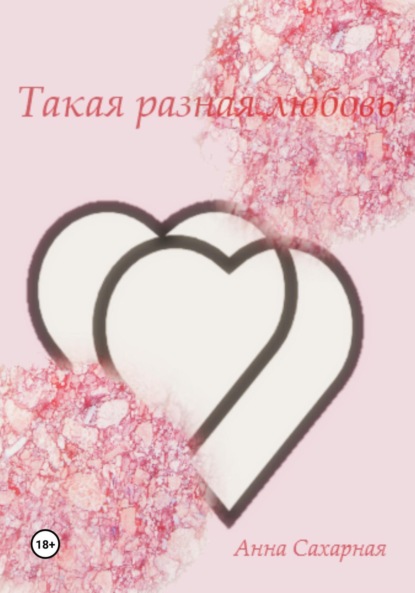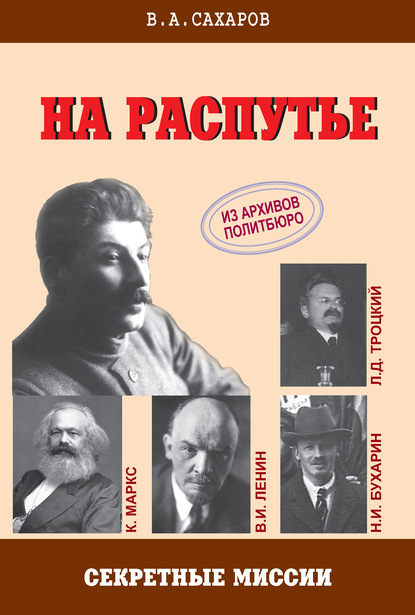Богословие истории в XX веке: Восток и Запад
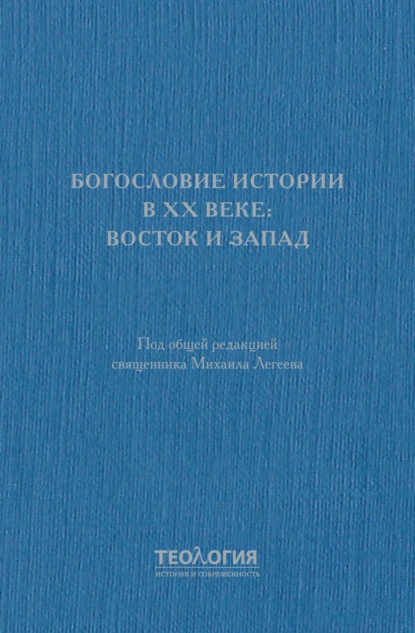
- -
- 100%
- +

© Коллектив авторов, 2023
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2023
Введение
XX век ознаменовался эпохальными сдвигами общеисторического характера. Эти процессы пробудили как в христианской, так и в секулярной среде острое внимание к самому феномену «истории», поиску её смыслов, характера, внутренних связей и отношений. На этом фоне формируется новое явление в научно-богословской мысли – особый историко-богословский дискурс, тесно интегрированный с целым комплексом направлений в современной богословской мысли – от экклезиологии до миссиологии и апологетики.
Однако корни современного богословия истории уходят в древность. Основанием для богословия истории, как и для всякого иного «богословия», является Священное Писание. Именно в нём можно обнаружить весь комплекс позднейших тем и векторов мысли, которые будут формировать контуры богословия истории как в святоотеческой письменности, так и в современной мысли. Вершиною и «квинтэссенцией» библейского богословского историзма выступают тексты ап. Иоанна Богослова, его Евангелие, послания и, особенно, Апокалипсис – откровение о будущей истории мира и Церкви в их отношениях с Богом.
Как активный научно-богословский дискурс богословие истории зарождается со времён раннехристианских апологетов и учителей Церкви кон. II – нач. III вв. Целый ряд как ранних, так и позднейших святых отцов уделяли богословию истории важное значение в своих трудах; особенно в этом отношении можно выделить имена свт. Мелитона Сардийского, сщмч. Иринея Лионского, Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, сщмч. Ипполита Римского, блж. Августина Иппонского, прп. Максима Исповедника. У всех них мы встречаем собственные акценты, связанные, как правило, с той тематикой, которая была для каждого из них ключевой.
Поздневизантийские авторы, такие как прп. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама и св. Николай Кавасила, оказываются сфокусированы на богословии человека – в их трудах ключевой становится тема христианского гуманизма, или, в современной терминологии, «теогуманизма»[1], «человека как Церкви»[2]. В фокусе такого внимания богословие истории (понимаемое как богословие всеобщей истории, занятое поиском её закономерностей и поиском связей Бога, Церкви и мира на путях истории) отходит на второй план или, вернее будет сказать, оно проявляет себя в специфической плоскости – аспекте личной истории, духовного развития отдельного человека, рассмотренного в самом себе. Сферы общественных процессов и всеобщей истории в целом остаются за кадром внимания этой эпохи[3].
Отдельный вклад вносит в развитие богословия истории русская церковная мысль. Уже свт. Иларион Киевский в XI в. предлагает оригинальный взгляд на исторический процесс; позднее, начиная с конца XV в., в русской церковной мысли появляются и развиваются историософские концепции, связанные с ролью в историческом процессе отдельного народа, отдельной общественно-государственной формации и, наконец, отдельной Поместной Церкви. Идеи «Третьего Рима», «Святой Руси», «государства как Церкви», отчасти сменяя друг друга, отчасти взаимодействуя, основываются на ключевой интенции – проблеме локальной истории, её собственного внутреннего развития и её отношения с историей всеобщей, с одной стороны, и историей отдельного человека, отдельной общины, отдельного «мира», с другой. Уже в конце этого периода в другой части православного мира греческие отцы-просветители XVIII в. своими трудами готовят почву для будущих евхаристических и эсхатологических концепций, – в церковной мысли, эпицентром которой становится «Константинополь», вызревает «эсхатологический» подход к истории.
В христианской среде за пределами Церкви намечаются собственные подходы к проблеме истории. В противовес рационализму и интеллектуализму эпохи Просвещения и под влиянием романтизма в католическом богословии XIX в. пробуждается интерес к истории и к новым веяниям философской мысли историософского характера; однако этот интерес во многом носит на себе отпечаток секулярных влияний. Почти одновременно с этим происходит зарождение и рост неосхоластики, не просто чуждой какому-либо историзму, но и практически подавлявшей инициативу историко-богословских изысканий. Борьба этих двух течений создает внутреннюю напряжённость, которая лишь ожидает своего выхода наружу. В это же время в протестантской среде набирает силу течение либеральной теологии с идеями исторического оптимизма, социального реформирования, земного прогресса, выхода христианства «навстречу миру» и проч. Определённое влияние идей либеральной теологии распространяется и за пределы протестантизма. Новый «тренд» повсеместного увлечения историзмом в XIX в. на Западе, равно как и сдерживающие его факторы[4], становятся важной составной частью той картины, которая предшествует грандиозному всплеску историко-богословской мысли, который произойдёт в 20–30-е гг. последующего XX столетия.
Именно тогда христианская мысль обратится к решительной интеграции тех областей научно-богословского знания, которые традиционно – в школьном, даже «схоластическом» богословии – рассматривались в некоторой изоляции друг от друга. Святая Троица, Христос, Церковь, мир… Богословами этой новой эпохи будет нащупываться поиск связи всех ключевых «компонентов» церковного учения. Подобное уже происходило в древности, и не раз[5], но здесь эпицентром внимания этого синтеза впервые является Церковь, вопрос о которой ставится с предельной остротой, а сам синтез учитывает специфику приближающегося конца истории, равно как и опыт прошедших тысячелетий. В этой «системе координат» именно история становится ключевым связующим звеном, а богословие истории, в свою очередь, – важнейшим инструментом в разрешении назревших вопросов.
На Востоке и на Западе, т. е. в Православной Церкви и за её пределами в христианском мире развитие этих подходов и решение этих общих задач проходило со своими особенностями. В настоящей монографии, представляющей плод коллективного труда, авторы постарались отобразить эти подходы, показав спектр и богатство исследуемых тем, глубину затрагиваемых проблем и многообразие путей, по которым шла историко-богословская мысль XX в.
В течение ушедшего столетия трудами ряда выдающихся богословов была сформирована почва для рождения богословия истории как совершенно самостоятельного и полноценного направления в научно-богословской мысли. Как достижения, так и ошибки их трудов послужили этому делу. Сегодня уже новое поколение систематизаторов их наследия и исследователей в области богословия истории приняло эстафету в этом процессе становления богословия истории как науки.
Настоящая монография принадлежит авторству членов кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, являясь самостоятельным проектом, завершающим работу над одноимённым двухгодичным грантом РФФИ (Российского Фонда Фундаментальных Исследований[6]). Одновременно с этим она продолжает ряд персональных монографий, посвящённых различным аспектам богословия истории, актуальным для современности и продолжающим развитие тех векторов исследовательской мысли, которые были намечены в XX в.[7]
При работе над монографией были использованы материалы, ранее опубликованные в рамках работы по данному гранту[8].
Раздел I. Православная научно-богословская мысль
1.1. Общие тенденции развития
1. Введение
В XX в. богословие истории становится важным направлением, представленным как в православной, так и в инославной богословской мысли. Причин к тому несколько, и они интегрально являют те коренные сдвиги, которые произошли в начале столетия в жизни Церкви и её отношениях с миром.
Каковы эти причины? В православной церковной мысли они имеют свой, особенный характер.
Обращаясь к истокам русской мысли, внесшей самый значительный вклад в богословие XX в., следует отметить, что таковая (как церковная, так и околоцерковная) ещё со времён свт. Илариона Киевского, особенно с конца XV – нач. XVI вв., была заметно насыщена вниманием к историософской проблематике. Идея полноты миссии Церкви в мире, его воцерковления, достигнутой в последних своих пределах на русском социуме, формирует корни особой историософской интенции русской богословской мысли в XI в.[9]; на этой почве, уже с падением Константинополя в 1453 г., зарождается идея трёх царств, характеризующих в своей последовательности отношение мира к Церкви[10]. Эта концепция на столетия вперёд давала почву для самых разных историософских интерпретаций мессианского, эсхатологического и хилиастического толков[11]. Последующие катаклизмы XX в., особенно революция 1917 г. и крах христианской империи, породили в общественном сознании чувство исторической катастрофы. Очевидно эсхатологический её характер и наступление новой эпохальной реальности требовали ответа на вопрос о глобальных судьбах истории перед церковным сознанием, воспитанным на плодах идеи «третьего Рима».

Насущность такого ответа совпала с рождением «экклезиологии кафоличности», характеризуемой радикальным переходом церковной мысли от локальных экклезиологических вопросов к предельно поставленным вопросам о полноте Церкви как таковой: «что есть Церковь?», «каково её внутреннее устройство?» и, наконец, «каковы её отношения с внешним, в том числе христианским, миром?»[12] Экклезиология кафоличности представляла собой явление общемирового масштаба, вызванное общими процессами мировой глобализации и связанной с ними нуждой самоидентификации Церкви на финальных путях истории.
В совокупности эти причины (сами по себе интегрально взаимосвязанные) и породили особый историко-богословский дискурс, вплетённый в экклезиологическую и эсхатологическую проблематику современного богословия.
Наиболее значительные богословы XX в., обращаясь к экклезиологическим вопросам, оставляли свой след и в осмыслении проблем богословия истории. Некоторые из них, как прот. Сергий Булгаков (1871–1944) или свт. Серафим (Соболев) (1881–1950), стояли у истоков этого пути, в значительной мере, каждый по-своему, неся в себе груз предшествующей эпохи и не без усилий преодолевая его[13]. При этом уже в трудах о. С. Булгакова можно обнаружить – пусть и не всегда в чётко дифференцированном и ясном виде – те тенденции развития историко-богословской мысли, которые впоследствии наберут силу у его последователей и оппонентов. Другие – молодое поколение богословов, таких как прот. Георгий Флоровский (1893–1979), В. Н. Лосский (1893–1958), протопр. Николай Афанасьев (1893–1966), прп. Иустин (Попович) (1894–1979), схиархим. Софроний (Сахаров) (1896–1993), прот. Думитру Станилое (1903–1993) – дали основной импульс развитию церковной мысли в XX в. Именно в их среде сформировались основные и конкурирующие друг с другом векторы развития современного богословия, такие как «неопатристический синтез» и «евхаристическая экклезиология»[14]. Следующее поколение богословов – среди которых можно выделить протопр. Александра Шмемана (1921–1983), протопр. Иоанна Мейендорфа (1926–1992), митр. Антония (Блюма; 1914–2003), митр. Каллиста (Уэра) (1934–2022) – будет следовать векторам курсов своих предшественников, продолжая их, а иногда и доводя до «логического конца», как митр. Иоанн (Зизиулас) (1931–2023) в отношении «отцов» своей богословской системы – оо. Н. Афанасьева и А. Шмемана.
Из всей этой плеяды церковных мыслителей, пожалуй, один лишь прот. Г. Флоровский уделял богословию истории почти систематическое внимание, что, возможно, объясняется исключительно напряжённым и балансирующим противоречием его внутренних интенций между ясно им осознаваемой и привлекающей его исторической диалектикой и особым пиететом перед свободою человека, сопряжённым с почти патологическим страхом её ограничения и умаления.
Русская богословская мысль, пребывавшая в границах советского государства, касаясь вопросов экклезиологии[15], по известным политическим причинам не способна была рассуждать об истории.
2. Перелом истории и реакция на него
Итак, ожидания реставрации христианской экумены в рамках «третьего Рима»[16] бесповоротно рухнули на пределе своего напряжения. Торжество Церкви в истории внезапно рассеялось. В среде православной мысли – прежде всего, именно русской мысли, – испытавшей «исторический шок» и получившей грандиозный толчок своего развития крушением воцерковлённого социума русского православного мира, наметились три пути решения этой проблемы[17]:
1. Путь «тоски об утраченном», – поиска путей к утраченному и горячего желания возврата к нему. Тенденции такого подхода, не просто осмысляющего историю как череду трагических ошибок мира, но ошибок в принципе исторически преодолимых, можно обнаружить, например, у свт. Серафима (Соболева), представляющего его наиболее яркий, талантливый и последовательный вариант[18].
2. Путь «разочарования в истории», вдохновляемый мироощущением земного трагизма, выражаемого в известной максиме: «нет правды на земле». Представителями таких взглядов всё земное – а значит, по их мысли, и историческое – объявлялось чуждым христианскому духу человека, взыскующего Небесного Града, а «византийский опыт» торжества Церкви на земле, перенятый некогда и Русской Церковью, – трагической и опасной ошибкой и духовной слепотой. Вставшие на этот путь представители русской богословской мысли, такие как оо. Н. Афанасьев и А. Шмеман, нашли себе благодатную почву в эсхатологических устремлениях константинопольской традиции, взращенных на давно пережитом опыте существования Церкви в условиях апостасии и враждебного ей мира. На их основе возросли уже собственные представители греческой мысли, такие как митр. Иоанн (Зизиулас) и его ученики. Их подход характеризуется порою крайним пренебрежением к истории, отождествлением её путей с путями исключительно мира, противопоставлением её жизни Церкви, идентифицируемой исключительно в качестве проекции эсхатологических реалий. Мысль о том, что «историческая реальность… в самой своей природе содержит зло»[19], является крайним выражением подобной позиции. Всё это направление мысли получило именование «евхаристической экклезиологии»[20].

3. Приход к осмыслению диалектического значения истории для вечности. Осмысление и переосмысление истории как вызревающей вечности для человека и человечества. Как поворот назад («тоска об утраченном»), так и слишком радикальное устремление вперёд («разочарование в истории») представляли собой крайние позиции на пути решения проблемы смысла истории. Срединный путь – т. е. взгляд на историю как на путь диалектического развития, имеющего свой глубокий и закономерный смысл – задавал подлинное позитивное развитие историко-богословской и, вместе с тем, экклезиологической мысли. Большинство богословов XX в., начиная от о. Сергия Булгакова и заканчивая его учениками и оппонентами, вместе составившими направление «неопатристического синтеза», пошло именно по такому пути. Неслучайно лозунгом этого направления становится парадоксально выражающий идею исторической диалектики призыв прот. Г. Флоровского: «Вперёд к отцам!»[21]
Исходя из этой, наиболее общей, тенденции в «распределении сил» на поле богословия истории в XX в., определяются те или иные задачи для каждого из направлений.
3. Свобода и необходимость как проблема
Прежде всего именно в рамках подхода к истории как к вызревающей вечности поднимается другая важнейшая историко-богословская тема, уходящая корнями к пелагианским спорам и даже антиоригенистической полемике III в., но обретающая отныне новые проблемные области – тема отношения свободы и необходимости в истории.
Уже у старейшего из русских богословов зарубежья прот. С. Булгакова, этого «Оригена XX века»[22], ей уделено достаточно внимания[23]. Для о. Сергия, собственно, не существует проблемы «примирения» свободы и необходимости, так остро ощущаемой некоторыми другими богословами; отношения между свободой человека и законосообразностью истории он мыслит синергийными отношениями Божественной и человеческой природных воль, сплетающимися в единый свободный процесс. Его законосообразность и непреложность – в выражении самого о. Сергия даже «детерминированность», определённость, понимаемая исключительно в положительном смысле[24], – задаваемая волей Бога, не нарушает свободу человека, поскольку последняя, являясь «модальной свободой»[25], даже в своём противлении Богу просто не способна выйти за пределы премудрых законов истории, определяемых Им, так что человек способен выступать лишь сотворцом, но никак не творцом истории[26].
С критикой прот. С. Булгакова в этом вопросе выступает В. Н. Лосский, указывая на то, что его «софианская система заменяет личную (курсив В. Н. Лосского. – авт.) связь Бога и человека природно-космическим[27] отношением Софии Божественной и Софии тварной»[28]. Ещё большим антиподом о. Сергия Булгакова в данном вопросе выступает прот. Г. Флоровский. В его творчестве тема свободы и необходимости обретает максимальную напряжённость, а за подходом о. Сергия ему мерещится призрак пантеизма и умаления свободы человека чрезмерно акцентуированным природным аспектом синергийных отношений Бога и человека, как бы превращённых в диалог Бога «с Самим Собой»[29]. Для прот. Г. Флоровского история не законосообразна, а лишь поступательно дискретна в своём продвижении к определённому Богом телосу. Эта дискретность образуется «событиями» – опорными точками истории[30], которые выступают местом встречи свободы и необходимости, т. е. свободы человека и свободы Бога. Как события прелагаются в саму историю – при неприятии идеи её законосообразности, – для прот. Г. Флоровского остаётся мучительной загадкой, ответ на которую им так и не был предложен[31].
Несмотря на серьёзную критику идей о. Сергия Булгакова, его продолжателями выступают другие представители поколения прот. Г. Флоровского и В. Н. Лосского – схиархим. Софроний (Сахаров) и прот. Думитру Станилое. Они идут дальше своего предшественника, не только освобождая его богословие от сомнительной терминологии и рудиментов влияния Владимира Соловьёва и русской религиозной философии в целом, но и решительно смещая акценты его синергийного богословия в область персонального.
Если для о. Сергия таинственная жизнь Божественной природы есть образ жизни человека и его истории, то для о. Думитру прежде всего свободным взаимодействием ипостасей – Бога и человека – созидается исторический процесс, а его законосообразность обеспечивается тем, что внутренние отношения между Божественными Лицами становятся как ориентиром (на пути с Богом), так и своеобразными ограничительными рамками (на пути богопротивления) для событий, происходящих в Церкви и мире[32]. Схиархим. Софроний преимущественно развивает и акцентирует иной аспект – аспект прообразовательного значения кенотических синергийных внутритроических отношений Божественных Лиц; они, по его мысли, созидают историю, отображаясь внутри каждой персоны, каждого человека, задавая векторы его внутренних движений, амплитудно сочетающих в себе восхождение к Богу и удаление от Него[33].
Несмотря на обозначенные различия, как оппоненты, так и последователи о. Сергия во взгляде на свободу и необходимость могут быть в целом отнесены к одному «богословскому лагерю», – сам факт внимания к этой тематике свидетельствует о попытках осмысления истории в качестве вызревающей вечности. Напротив, эсхатологический подход «разочарования в истории» не склонен уделять внимания этой проблеме, своеобразно разрубая сей «гордиев узел»: например, митр. Иоанном (Зизиуласом) сама история объявляется связанной узами необходимости, понимаемыми, впрочем, не как область действия Божественной воли, но как область детерминированного тварной природой человека; лишь эсхатон, прорывающийся в историю, наделяется чертами свободы – Бога и человека, – в гармоническом сочетании которых автоматически снимаются всякие противоречия, необходимо присущие историческому процессу[34]. Особенно контрастным выглядит на фоне такого богословия позиция прп. Иустина (Поповича), для которого сама необходимость мыслится не антитезой, но аспектом свободы человека и Церкви[35], которая есть Христос, «продолженный (в истории) во все века»[36].
4. Историческое и надисторическое
Уже из сказанного очевидно, что тематика свободы и необходимости тесно связана с другой историософской проблемой – прообразовательного отношения исторического и надисторического, истории и эсхатона.
В основе этой проблемы лежит типология жизни Бога, Святой Троицы, и жизни человека. Едва ли не все значимые богословы XX в. так или иначе затрагивают в своих трудах этот аспект, хотя и не все пролонгируют его в область историко-богословскую.
Если о. С. Булгаков прямо объявляет непознаваемую жизнь Бога прообразом истории человека, то представители неопатристического синтеза пытаются, сгладив категоричность его мысли, наметить те конкретные «отправные точки», на основе которых можно было бы говорить о типологической связи Святой Троицы и Церкви, Бога и мира. Так, например, о. Д. Станилое, обращаясь преимущественно к святоотеческому богословию XIII–XIV вв., рассматривает ипостасные внутритроические отношения в качестве двунаправленного вневременного движения «от Отца через Сына к Духу» и «от Духа через Сына к Отцу»[37]. Это вневременное движение становится основанием и первообразом триипостасного выхода Бога к миру, а затем и ответных образов бытия и действия самого мира[38].
Другой представитель неопатристического синтеза, прп. Иустин (Попович), мыслит отношения исторического и надисторического, истории и вечности заключёнными внутри Церкви[39], – через её преемство подвигу Христа; так Церковь и даже каждый её член «отроичеваются» и даже становятся «частью Святой Троицы»[40], – мысль, выраженная намеренно провокативным образом, которую, очевидно, нельзя понимать буквально. Это единство истории и вечности внутри Церкви прп. Иустином мыслится в качестве богословской антиномии: единства со Христом и одновременно возрастания в Него; обе составляющие церковного бытия имеют лично-соборный характер[41]. Подобные мысли высказывают и многие другие богословы – как представители неопатристического синтеза[42], так и стоящие на стыке различных школ[43].
Совершенно иное направление мы находим у представителей евхаристической экклезиологии и эсхатологического подхода. В этом направлении мысли отношение Бога, Церкви и остального человечества постепенно выстраиваются в чётко заданную схему: «Бог, Церковь, эсхатон», с одной стороны, и «Бог, мир, история», с другой[44]. Отношения внутри Церкви мыслятся здесь подобными внутритроическим отношениям именно за счёт выведения Церкви из активного исторического процесса, полагания её не в этом процессе, а именно над ним. Церковь как бы лишается своего собственного исторического развития; допускаются лишь исторические случайности, вносящие временное искажение в её жизнь, но никак не закономерный ход развития её собственной исторической жизни.
Исключение в этой традиции составляет лишь один о. А. Шмеман. Его боязнь «зависания в истории», оборачивания вспять исторического процесса[45] свидетельствует о важности для него исторической динамики как таковой. Сохраняя общие посылки противопоставления истории и эсхатона, он мыслит их взаимное отношение не статично, но, полагая само это отношение внутрь истории, наделяет Церковь способностью и даже необходимостью исторического развития. Церковь и мир, символизируя в его изображении соответственно эсхатон и историю, способны входить в определённое синергийное взаимодействие, что порождает своеобразное «общение свойств» – историчность развития Церкви, с одной стороны, и эсхатологизацию – оцерковление мира, с другой. Этот процесс в его изображении имеет типологический и поступенный характер.
В рамках неопатристического синтеза типология внутриисторического особенно выраженно оказывается представлена у схиархим. Софрония (Сахарова)[46], порождаясь здесь типологией надисторического и исторического. У него она имеет своим предметом сопоставление историй различных масштабов человеческого бытия – от отдельной персоны до всего человеческого[47].
5. Христос, Церковь и мир на путях истории
Идею исторического развития Церкви так или иначе выражают все представители направления неопатристического синтеза. Стоящие у его истоков прот. Г. Флоровский, В. Н. Лосский и прп. Иустин (Попович) и др., каждый по-своему, изображают Церковь стержнем истории.