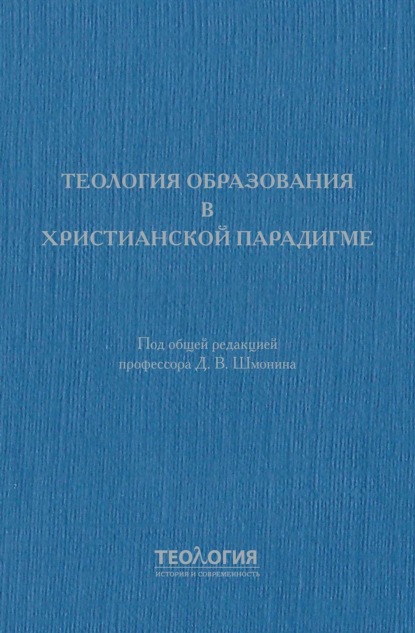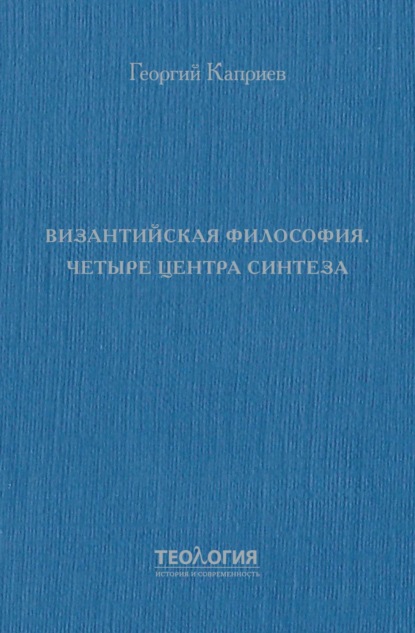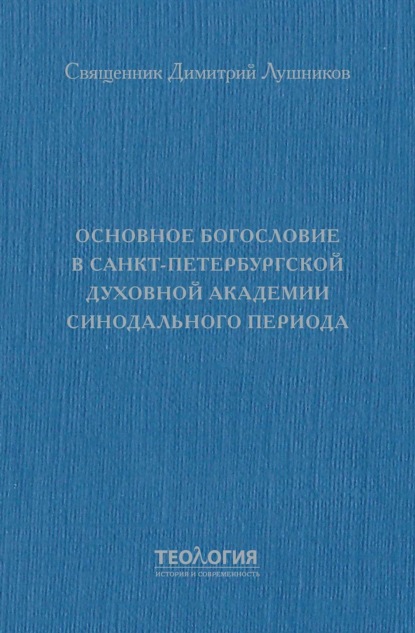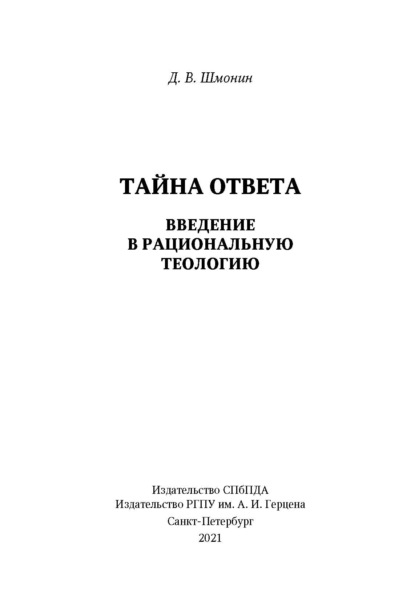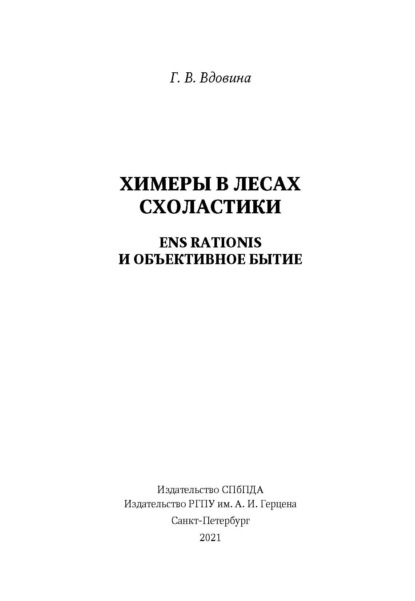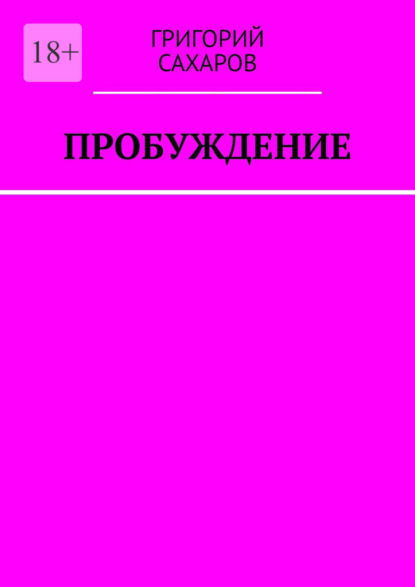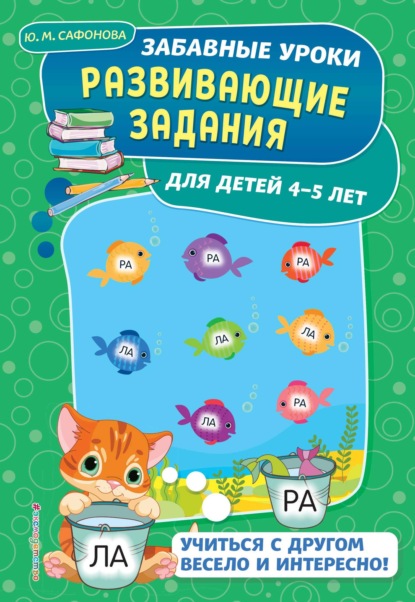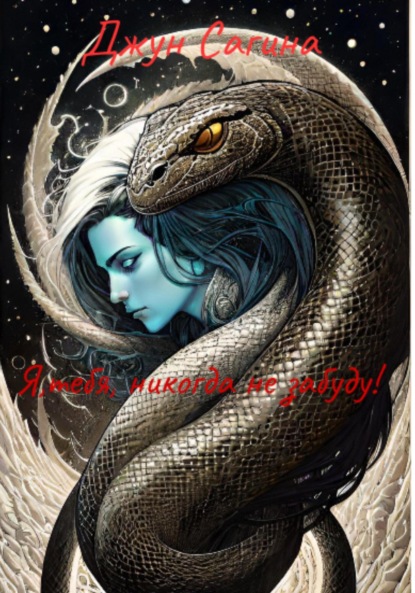Богословие истории в XX веке: Восток и Запад
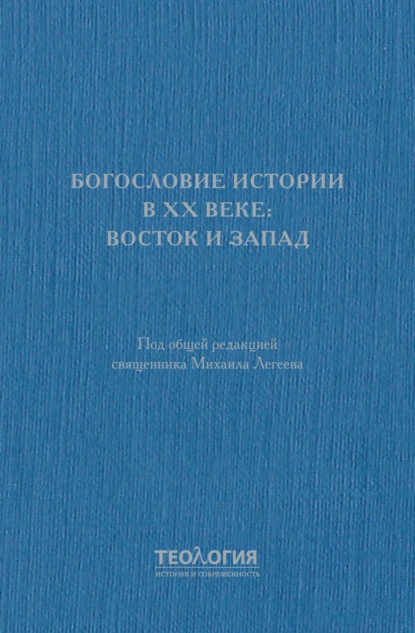
- -
- 100%
- +
Согласно мысли о. Г. Флоровского, Церковь связывает историю, преодолевает существующую в ней разрозненность, присущую миру. Для него именно «в полноте истории, то есть в Церкви»[48], осуществляется спасение, принесённое Христом. Сам путь Христа, завершаемый Его смертью и Воскресением, выступает парадигмой как линейного, так и перманентного пути истории. Прп. Иустин, во многом близкий позициям о. Георгия, утверждает идею подлинного прогресса истории, который оказывается возможен лишь начиная с отправной точки – Воскресения Христа[49].
Регресс мира многими богословами XX в. – причем в этом сходятся представители самых разных направлений мысли – изображается под видом и обликом ложного или эфемерного «прогресса», наделяется чертами механизации, дурного детерминизма и обезличивания человека[50]. При этом развитие и прогресс Церкви, выраженные в её жизни и Предании, оказываются некоторым онтологическим образом взаимосвязаны с угасанием и регрессом мира. Как подчёркивает В. Н. Лосский, «мир стареет и ветшает, тогда как Церковь постоянно молодеет… Когда Церковь достигнет полноты своего роста, предустановленного волею Божией, внешний мир, истощив свои жизненные силы, умрёт»[51].
Ветшание мира и истощение его сил, однако, парадоксальным образом сопряжено с планомерным умножением зла на земле, отмечает свт. Серафим (Соболев)[52]. Совсем иной взгляд выражает не только его «антипод» митр. Иоанн (Зизиулас)[53], но даже и прот. С. Булгаков. Согласно в целом сходному для них взгляду – по крайней мере, в плане общих выводов, – отпавший от Церкви христианский мир будет возвращён в лоно Церкви в пределах истории, что окажется в определённом смысле ослаблением зла на земле ещё до наступления эсхатона. «Бог сильнее „законов истории“», – защищает такую позицию протопр. И. Мейендорф[54]. Однако она будет справедливо отвергнута учеником прот. С. Булгакова архим. Софронием[55].
Идеи о. Г. Флоровского и прп. Иустина о дополнении боговоплощения Церковью находят своё более глубокое и настойчивое выражение у о. Софрония, утверждавшего значение каждой человеческой персоны для взаимного соискупления мира со Христом всей полнотой Церкви. Эта глубина уподобления Христу на каждом масштабе церковного бытия, согласно его мысли, вызревает постепенно и призвана в конечном итоге достичь тождества с мерой Самого Христа; вместе с тем образ бытия человечества, явленный в Церкви и её членах, призван актуально и всецело достичь совершенного подобия образу бытия Святой Троицы[56].
Подобное достижение представителями евхаристической экклезиологии – протопр. Николаем Афанасьевым, протопр. Александром Шмеманом и митр. Иоанном (Зизиуласом) – мыслится уже совершённым через евхаристическое единение Церкви со Христом[57], причем именно в этом проявляется их глубокий неисторизм, нечувствие значение истории для жизни самой Церкви. Закономерным итогом такого подхода оказывается радикальное противопоставление истории и эсхатона в богословской системе митр. Иоанна (Зизиуласа), отождествляемого им с противопоставлением мира и Церкви; последняя фактически объявляется здесь явлением исключительно эсхатологическим, – чуждым истории, хотя и присутствующим в ней[58].
Ценность каждой исторической эпохи жизни Церкви и её отношений с миром, независимо от их характера (торжествующего или, напротив, кенотического для Церкви) подчёркивают В. Н. Лосский, прп. Иустин (Попович) и даже отчасти о. Г. Флоровский. В целом такой подход характерен для неопатристического синтеза, утверждающего значение непрерывной преемственности церковного опыта[59]. Прот. С. Булгаков расширяет границы этого опыта ещё дальше, в метаисторию, фокусируясь на стержнеобразующем значении Церкви для исторического процесса[60]. Напротив, такие богословы, как свт. Серафим (Соболев) или протопр. Н. Афанасьев – представители полярных направлений в отношении к истории, – преимущественно фокусируют внимание на историческом торжестве Церкви (свт. Серафим и всё направление «тоски об утраченном») или, напротив, её кенозисе (о. Н. Афанасьев, а отчасти и его наследники по концепции евхаристической экклезиологии), подчёркивая объективное значение лишь одного из компонентов истории.
6. Конечные судьбы человечества
Целый ряд богословов XX в., таких как оо. С. Булгаков, Д. Станилое, Софроний (Сахаров), балансируют на грани идеи апокатастасиса[61]. Отрицая оригеновский подход, утверждавший безоговорочное всеобщее спасение, они мыслят проблему конечных судеб человечества в формате богословской антиномии[62] (у последнего из них она достигает максимального напряжения):
• призванного к онтологическому единству всего человечества, «всего Адама»;
• неустранимой свободы каждой человеческой персоны, избирающей себе в этом всеединстве «всего Адама» своё место через напряжение или ослабление собственных духовных усилий.
Два вектора движений – к Богу или от Бога – характеризуют как историю отдельных персон, так и историю всего человечества, взятую во взаимном взаимодействии всех в целом. Эта двунаправленность проявляет себя как в Церкви, так и в мире, но различным образом, по подобию отношений Христа с миром. Если в Церкви она проявляет себя в качестве нарастающей полярности[63] её благодатного торжества и кенотического схождения во «ад богооставленности» навстречу миру, то в самом мире – в качестве затухающей полярности остатка богодарованных сил и всё более и более бессильного богоборческого напряжения[64]. Смысл христоподобного подвига Церкви в этом историческом процессе состоит в соискуплении человечества – в напряжении ею всех собственных сил ради спасения всех, даже при том условии, что «ни откровение, ни опыт не дают нам полагать, что все спасутся»[65].
У целого ряда других богословов[66] эсхатология не находит столь глубокого переживания, а рост полярности в историческом процессе мыслится исключительно в отношении всё более и более разбегающихся полюсов Церкви и мира.
Отдельно стоит отметить богословские изыскания о. А. Шмемана, которые наводят на мысль об эсхатологическом процессе, ведущем «ставку на повышение» в отношении предшествующей истории (личное обращение ко Христу персон, обращение народов…), ставящем целостность мира перед жизненным вопросом принятия / непринятия Христа. Впрочем, ни мысль об окончательном и бесповоротном расколе мира на два полюса, ни, напротив, идея всеобщего спасения не противоречат такому пониманию.
Несмотря на различие в позициях и обилии акцентов по данному вопросу, у всех без исключения православных богословов XX в. мы находим мысль о тайне вечности, которую не способен познать человек вплоть до её наступления.
7. Заключение
Итак, уже в 20–30-х гг. XX в. в православной богословской мысли формируется ряд направлений, характеризуемых отношением к истории, к её богословскому осмыслению. Зачастую это отношение оказывается сопряжено с определённым набором интенций развития экклезиологической мысли, что в конечном итоге порождает два наиболее значимых направления в богословской мысли столетия – неопатристический синтез и евхаристическую экклезиологию[67]. Каждое из них имело свой особый взгляд на историю, перед которым меркли все внутренние противоречия, присущие богословам внутри каждого из направлений[68]. «Иметь или не иметь истории онтологический статус „пространства“ церковного бытия?» – на этот вопрос нанизывались все остальные историософские вопросы, связанные с отношениями Святой Троицы, Христа, Церкви и мира.
Уже в следующем столетии напряжение между подходами «за» и «против» истории подойдёт к порогу непримиримого противостояния.
В настоящей вводной главе мы отметили лишь некоторые, наиболее важные тенденции историко-богословского дискурса у богословов XX в., оставляя за кадром множество дополнительных ценных задач, поднимаемых и решаемых ими в своём творчестве.
1.2. Протоиерей Сергий Булгаков. У истоков
«Человеческая история есть прежде всего история Церкви»[69].
«(История есть) становящаяся вечность»[70].
«История есть процесс положительного содержания, в котором… совершается прогресс, хотя и трагический»[71].
«(Между историей и метаисторией), с одной стороны… проходит… акт „нового творения“, хотя и на основе изначального, а с другой, между ними существует и некое онтологическое тождество»[72].

1. Введение
Отношение прот. Сергия Булгакова к истории и её богословскому осмыслению вытекает из общих внутренних интенций его богословской системы, в эпицентре которой стоит понятие софии (греч. σοφία, премудрость) – премудрости Божией.
Сформировавшись как мыслитель на почве русской религиозной философии под влиянием идей В. Соловьёва и свящ. Павла Флоренского, на протяжении всего своего дальнейшего жизненного и творческого пути прот. С. Булгаков претерпевал эволюцию от внешнецерковной мысли к церковному богословию, постепенно и не без труда стряхивая с себя груз прошлого. Этот груз составляли как идеи, привнесённые из внешней философии – архетипы мысли, устойчивые образы и т. п., – так и терминология, понятийный аппарат.
При этом следует отметить, что наиболее общие интенции мысли прот. С. Булгакова им были сохранены; постепенно он, выражая их во всё более и более церковном виде, пытался решать те же самые задачи, которые ставил себе, если и не в начале, то, по крайней мере, в середине своего творческого пути[73].
Каковы же были эти задачи, эти изначальные установки булгаковского богословия?
Идея потенциально сущего в Боге и осуществляемого в истории всеединства, премудрой связи Божественного и тварного выступает такой отправной точкой. Ключевое понятие «софия» выступает для прот. С. Булгакова критерием этого всеединства и этой связи[74]. Понимая её как особую ипостась[75], затем ипостасность[76], о. Сергий наконец приходит к более или менее адекватному корреляту данного понятия с церковным учением: «софия» отождествляется им с природным компонентом как таковым (с одной стороны, природы Божественной и, с другой, – её образом, природой человеческой, шире – вообще тварной)[77]. Взаимодействием природ – неизменной, Божественной, и становящейся, тварной – являет себя премудрость Божия[78]. На эту «ось» булгаковского богословия оказывается нанизана вся прочая проблематика.
Прот. С. Булгаков оставил после себя немалое число трудов. Уже в ранних из них, таких как «Основные проблемы теории прогресса» (1902), «Церковь и социальный вопрос» (1906), «Апокалиптика и социализм» (1910), «Философия хозяйства» (1912) активно затрагивается проблематика философско-богословского осмысления истории. Среди произведений «среднего», переходного периода следует отметить ключевой труд «Свет невечерний» (1917) и небольшое знаковое произведение «На пиру богов» (1918), характеризующее тонкий и взвешенный взгляд о. Сергия на эпохальные и переломные события XX в., породившие среди некоторых представителей церковной мысли радикальное отношение к истории того или иного характера[79], а среди зрелых произведений – наиболее важные из них части «большой трилогии»: «Агнец Божий» (1933) и «Невеста Агнца» (опубл. 1945). Именно в них совокупляется богословское учение о. С. Булгакова об истории, находя наиболее законченный и оформленный вид. Иные работы о. Сергия, в том числе такие, как «Святой Грааль» (1932), «Una Sancta» (1938), «Христос в мире» (1940) и др., служат дополнением к этому основному объёму.
2. История и метаистория в их взаимном отношении
Отношение истории и вечности у прот. С. Булгакова прямо вытекает из его наиболее общей посылки о всеединстве и софийности мира, представляющего собой тварный образ нетварного.
Так, Божественной и тварной (человеческой) природам в богословской системе о. Сергия соответствуют категории вечности и времени, неизменности и становления. Согласно его мысли, «время и вечность, неизменность и становление… имеют… свою норму взаимоотношения, которая одинаково не допускает ни их совмещения в одной онтологической плоскости, ни их смешения или чередования»[80]. Пытаясь осмыслить эту норму взаимоотношения, о. Сергий использует целый ряд понятий, противопоставлений, антиномий и образов, некоторые из которых очевидно переходят границы дозволенного в богословской науке, некоторые же, напротив, представляют собой ценный импульс для будущего развития богословской мысли.
Порой прот. С. Булгаков доходит почти до грани пантеизма, пытаясь выразить идею неслучайности мира и его истории для Бога[81]: «Творческий акт Божий… есть общее отношение Бога к Самому Себе как Творцу, или отношение к Своей собственной жизни в Себе и в творении, в творческом акте[82]», «творение его (мира) должно быть понято, как ее (Божественной свободы) действие, внутрибожественное отношение Бога к Себе самому, а отсюда уже к миру в творении»[83]. И даже: «Мир… необходим для Бога, однако не… механической, принудительной необходимостью… но абсолютно свободным самораскрытием Божества»[84].
Мысль о радикальном подобии Богу мира (прежде всего, взятого в человеческом бытии), столь важная для прот. С. Булгакова, выражается им также чрезмерно резко: «В творении мира Бог, становясь Творцом (и выходя из Себя), как бы повторяет или удвояет Свое собственное бытие за пределы Софии Божественной в Софии тварной»[85]. Мысль о том, что «Бог в Софии Божественной соотносится как бы с самим Собою в Софии тварной, в творении, которое реально этой божественной реальностью»[86], звучит ещё более провокационно, однако ниже мы покажем, что мысль прот. С. Булгакова не столь однозначна и уделяет немалое внимание проблеме свободы человека. И тем не менее в сопоставлении творения и Творца у о. Сергия порой стирается – или, по крайней мере, затушёвывается – грань между энергиями Бога и человека («вся положительная сила бытия тварного мира божественна, есть София в тварном ее образе, ибо „ничто“ в себе самом никакой силы бытийственности не имеет»[87]), если не сказать больше.
В рамках проблемы отношения истории и метаистории о. Сергий рассуждает о самой «природе» времени, так сказать, составляющего ткань истории. Прежде всего, время мыслится им не в качестве самостоятельного и онтологически существующего «субстрата» (подобная мысль им категорически отрицается), но как «субъективная форма»[88], как «отношение внутри становящегося, тварного бытия»[89].
Само творение мира, утверждает прот. С. Булгаков, есть «акт вечности», а не времени[90], «извечное самоопределение Бога»[91], – время, таким образом, является не продолжением вечности, как и вечность, напротив, не есть «предвремя»[92]; они имеют отношение между собою не как начало и конец, а как две реальности, типологически соотносящиеся друг с другом[93]. Так, в отношении к вечности время представляет собой её образ, как и сама история. Они соотносятся друг с другом образом теснейшей онтологической связи: «Временное в основании своем вечно, и вечное открывается во временности»[94], что представляет собой своеобразную «антиномику тварности»[95]. Так, время и вечность обретают своего рода «общение свойств»: время обладает «вечным содержанием»[96] и есть «реализация надвременности»[97], тогда как вечность уже «имеет в себе всё содержание времени»[98] и даже «во времени нет и не может быть ничего, что не имело бы для себя основания в вечности»[99].

Такое подобие истории по отношению к метаистории, как и времени по отношению к вечности, содержит в себе ряд аспектов. Так, по образу цельности и единства Божественной вечности также и время (простирающееся как на всю историю, так и на какую-либо её часть), будучи отображением вечности, цельно и едино в самом себе[100]. Однако, с другой стороны, «в тварном мире временного бытия мы имеем единство времени и вечности, (или уже) становящуюся вечность». Это состояние становления и заключённого в нём единства времени и вечности отображает в себе, по мысли о. Сергия, предвечно заключённое в Боге «единство софии Божественной и тварной»[101]. Таким образом, само время, как и история, наделяется до известной степени антиномическими свойствами: недробимой цельности, с одной стороны, и становления, с другой.
Эти свойства, однако, оказываются неравнозначны. Именно характер становления отличает по преимуществу время и историю, противополагая их, соответственно вечности как сущему и неизменному: «Что в небесах есть сущее (неизменное)… то (же самое) в тварном мире, на земле, находится в становлении»[102]. Такова и история – по образу времени она «есть известное состояние становящегося бытия»[103].

Наконец, рассмотренная теснейшая связь времени и вечности, а вместе с ними истории и метаистории, по мысли прот. С. Булгакова, может быть выражена в категории «онтологического тождества»[104] (это единство с вечностью имеет именно история как целое, подчёркивает он[105]). Таковое он мыслит по отношению к софийности как сверхонтологической категории[106]: тварное и нетварное, а, следовательно, история и метаистория, отождествляясь в своём софийном единстве, различаются «лишь образом своего бытия»[107]. Богословская некорректность такого взгляда (и, соответственно, идеи антиномии тождества и различия истории и метаистории, времени и вечности[108]) очевидна: понятие образ бытия (греч. τρόπος τῆς ὐπάρξεως), подобно понятию «ипостась» (греч. ὑπόστασις)[109], может быть употреблено в отношении конкретной природы (либо Божественной, либо тварной), хотя и не сводясь к ней; утверждение некоего общего единства по отношению к различным образам бытия с необходимостью будет означать некую общую реальность природного или же сверхприродного характера.
3. История как становление богочеловечества
3.1. Субъекты истории: человечество и человек
Тема осуществления человечества в истории достаточно подробно раскрывается уже в книге «Свет Невечерний» (1917), которая, по оценкам исследователей, свидетельствует о переходе автора от религиозно-философского к богословскому творчеству. Прот. С. Булгаков определяет историю как «рождение человечества, осуществление первоначального творческого замысла о человеке как роде, совмещающем в себе множество индивидов»[110]. Он подчеркивает, что человечество – это не просто совокупность индивидуальностей, но некоторое иерархическое единство, состоящее из семей, племен, народов: «каждый индивид врастает в человечество в определенном „материнском месте“, занимая в нем иерархически определенную точку, поскольку он есть сын и отец, мать и дочь, принадлежит к своей эпохе, народу и т. д.»[111]. Соответственно, исторический процесс как «чередование людей во времени, смена поколений, народов» для о. Сергия не является чем-то стихийным, случайным, но определяется «духовной структурой умопостигаемого человечества». Таким образом, история осуществляется с определенным внутренним планом и последовательностью.
В более поздних своих трудах (и ключевую роль здесь играют части его «большой трилогии»: «Агнец Божий» (1933) и «Невеста Агнца» (опубл. 1945)) он подходит к истории преимущественно антиномически, мысля её одновременно как становление и как цельный акт.
Эта цельность истории включает в себя также и «все стороны единой всечеловеческой жизни»[112], различные аспекты человеческой деятельности и культуры[113], форматы творчества[114], времена[115], народы[116] и, наконец, всю полноту творения, содействующую человеку[117]. Всё это свидетельствует о своего рода «кафоличности» истории, отражающей в себе перихорестическую «кафоличность» бытия Святой Троицы. С другой стороны, её, истории, дискретность, процессуальность, бытие как становление выражается конкретным многообразием этих сторон тварной жизни, их, так сказать, ипостасной составляющей.
Единство истории означает для прот. С. Булгакова также и то, что един и целен субъект истории – человечество («существует… единый действующий субъект… (выражающий) общее действие человека в мире»[118]). Но этот субъект одновременно и многообразен, дискретен, конкретен в личном бытии отдельного человека, творца истории. В этом отношении, по мысли о. Сергия, человечество как субъект истории уподоблено Богу: по метаисторическому образу Святой Троицы, антиномически сочетающей в Себе единство триипостасной жизни, мыслимое о. Сергием в качестве единого субъекта[119], и бытие трёх отдельных Ипостасей, также и в поле истории мы обнаруживаем антиномическое сочетание единого субъекта целостного человечества («всего Адама»[120]) и множества конкретных человеческих ипостасей, выступающих субъектами «малого плана» во всецелом историческом процессе: «Субъектом истории является все человечество, и как множественность личностей, из которых каждая имеет свое самостоятельное бытие и судьбы, и как род, многоединство»[121]. Именно прот. С. Булгаков, кажется, впервые среди православных богословов ставит вопрос о сверхипостасной субъектности – о единстве ипостасной реальности целого: Святой Троицы, Церкви, наконец, всего человечества, хотя зачатки такого понимания можно обнаружить уже у блж. Августина[122]. Впрочем, не всегда корректные ответы о. Сергия на этот вопрос не устраняют ценность самого вопроса[123].
Эта двойственность исторического субъекта (человек и человечество, личность и целое) простирается также и на область метаистории, прообразовательную в отношении к историческому процессу: «Человечество, – говорит о. Сергий, – сверхвременно сотворено также все целиком, единым творческим актом, при участии тварного самополагания. (Также) к этому надвременному бытию принадлежит личное самоопределение каждого человека, как в отношении к самому себе, т. е. своей собственной теме, так и к первородному греху, к человечеству и ко всему миру»[124]. К сверхвременному аспекту единства человечества о. Сергий относит также Боговоплощение и искупление, совершаемые в истории, но уже замысленные и как бы «предсовершённые» в метаистории Божественного замысла о человеке[125].
В эсхатоне эта историческая двойственность также сохранится, но и обретёт новое содержание, пребывающее за гранью истории. С одной стороны, прот. С. Булгаков утверждает мысль о «едином и связном суде» для «единого трансцендентального субъекта»[126] в «единстве общей истории» человечества[127], о всеобщем воскресении как о «синтезирующем, действительно восстановляющем единое человечество, в качестве субъекта достижений истории, хотя уже и в другом измерении бытия»[128]. С другой стороны, для него важна идея значения и сохранения конкретных личных дел для вечности, человечество будет судимо как целое… «во всем его общем деле, (однако) сообразно личному каждого в нем участию»[129].
Рассматривая проблему действующих начал в истории, попутно прот. С. Булгаков замечает, что субъекты истории выступают одновременно и её объектами[130], соответственно, богословское осмысление и изучение истории должно опираться не только на конкретику отдельных событий и явлений, но, в ещё большей степени, на осмысление общего – «интегрального синтеза всечеловеческого труда к очеловечению мира»[131].
В рамках своей концепции о субъектах-объектах истории прот. С. Булгаков весьма оригинально рассуждает о конкретности, измеримости и конечности истории и её субъектов. В его понимании ограниченность частного парадоксальным образом является одновременно и свидетелем финальной (эсхатологической) полноты целого. В частности, эта ограниченность выражается в идее «законченного числа»[132] человеческих ипостасей на «пространстве» всецелой истории, утверждаемой о. Сергием в противовес секулярным и прогрессистским представлениям о «дурной бесконечности» истории, человечества и прогресса[133]. «Исчерпывающая полнота реализуется не в дурной бесконечности, в которой она является неосуществима, – утверждает он, – но в определенном числе ипостасных центров»[134], в конкретном и определённом, хотя и ныне неизвестном числе людей. Именно в конечности и определённости исторического числа людей, её субъектов, реализуется подобие человечества Святой Троице, имеющей конечное и определённое число Ипостасей. Подобно тому конечно и определённо также и число ангелов[135]. Подобно тому определённа и конкретно-конечна и сама история[136].
Типология вечного и временного, метаистории и истории, в конечном итоге для прот. С. Булгакова распространяется и на внутреннее содержание самого исторического процесса – человек и человечество с их историями оказываются неразрывно связаны, а потому и онтологически тождественны, «онтологически равны» друг другу. Такой подход[137] является характерной чертой его софиологической доктрины[138].