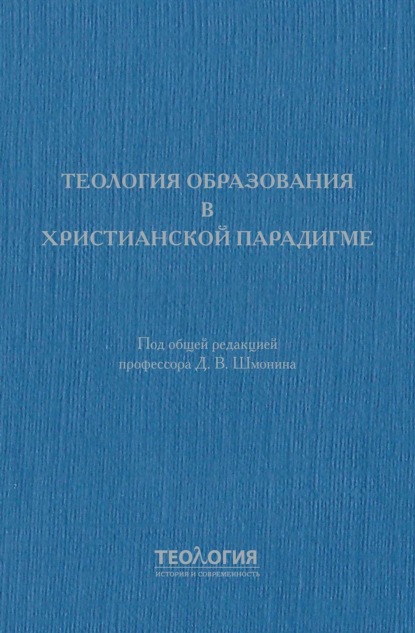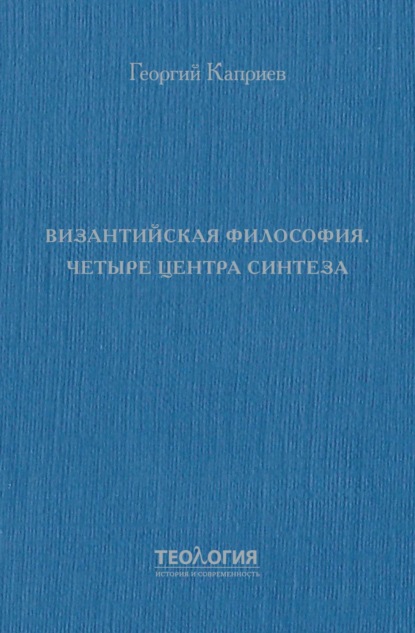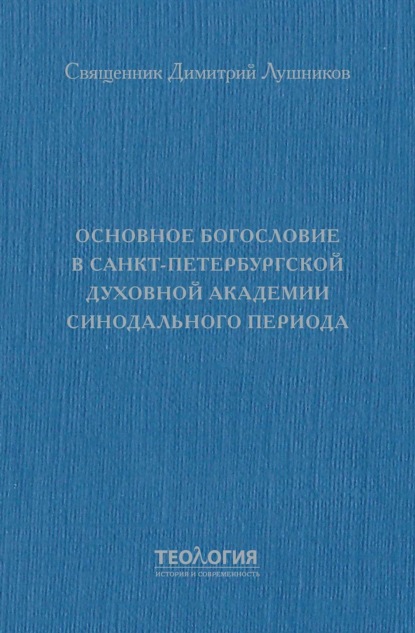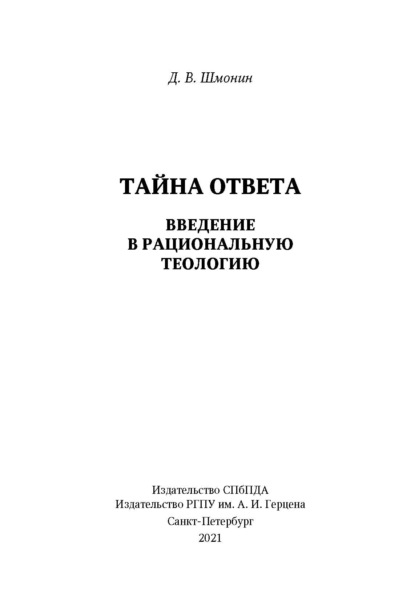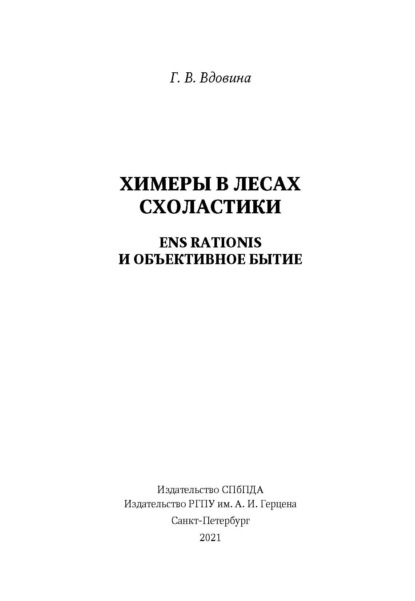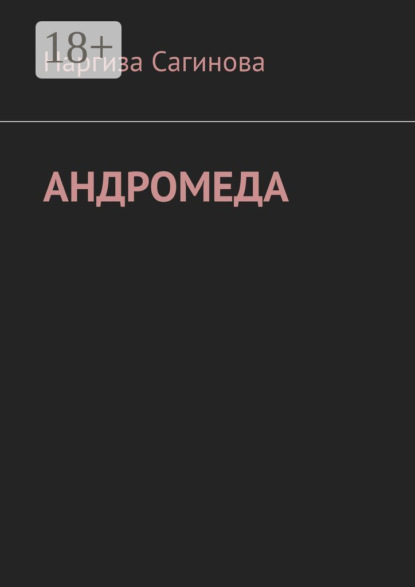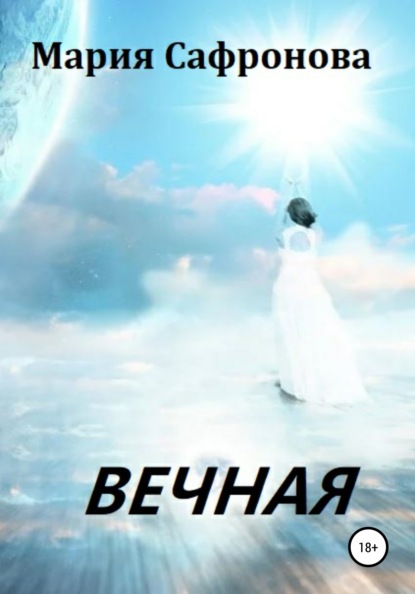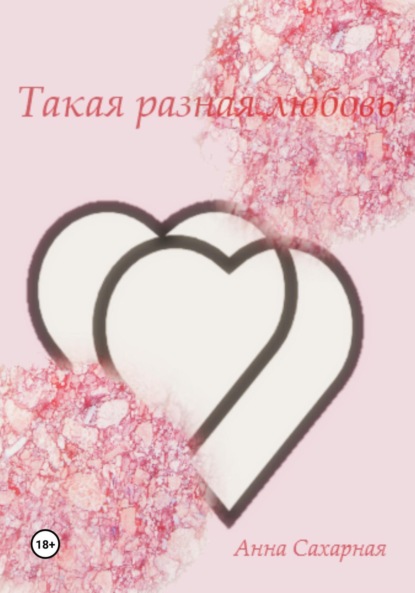Богословие истории в XX веке: Восток и Запад
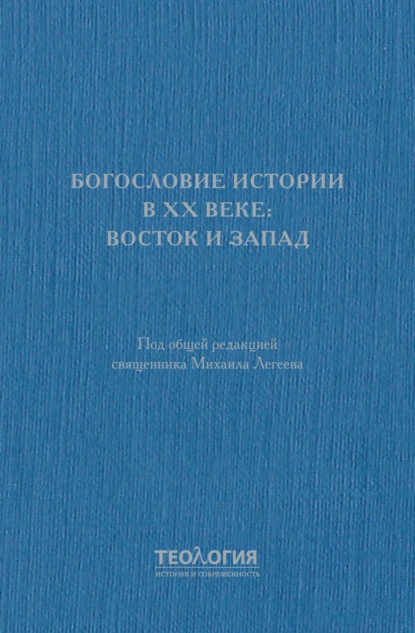
- -
- 100%
- +
3.2. Христос и история
Цельность и единство исторического субъекта – человечества, «всего Адама» – различным образом выявляется и осуществляется в процессе истории.
Имея, можно сказать, «врождённый», природный характер[139], это «природное единство человечества в Адаме, которое уже само по себе устанавливает единство его истории с ее закономерностью и целеустремлённостью»[140], обретает совершенно иное и новое качество с момента Боговоплощения. Становясь во Христе, «Новом Адаме», уже «единством богочеловеческим», оно, тем не менее, сохраняет свой природный характер; однако Христос «даёт человечеству как бы новую природу»[141], – о. Сергий акцентирует внимание на том, что «действие Христа не исчерпывается личным христианством и личной жизнью во Христе отдельного человека, но включает в себя и природную жизнь человечества, ибо все оно изменилось в судьбах своих, стало иным самого себя вследствие боговоплощения»[142].
Христос, воплотившись, принимает человеческую природу «не в частной обособленности, но в целостной всеобщности, как Новый Адам»[143]. Этот факт становится основанием того, что именно через Христа совершается «интегрирование своеличных и как будто самозаконных, человеческих дел в единое целое, в историю»[144]. Это целое «ощутительно меняется после боговоплощения, (теперь) совершаемое уже не только извне, как бы трансцендентно, над человеком, но и изнутри, имманентно, в самом человеке, как действие Христа, живущего в человечестве»[145]. Христос связывает историю – отныне, по совершению Им Своего подвига, «дела этого человечества, разрозненные и противоречивые, в синтезе своем включаются в дело Христово»[146], универсализируются в своём характере. В дальнейшем, одухотворяясь «Христовой силой, совершаемой Духом Святым»[147], вся история становится Откровением Христовым, пространством «последних времён», а «единое всечеловечество становится все более видимым на исторической поверхности» с приближением к концу истории[148].
Так, «Богочеловек… в Богочеловечестве Своем есть двигатель, сила и содержание истории»[149]. Это «динамическое присутствие Христа» в истории и мире многоаспектно[150], оно «распространяет свое влияние и за пределы христианского человечества, на всё человечество»[151].
Однако, согласно мысли о. Сергия, Христос не просто изменяет характер истории. Он утверждает, что и после Вознесения сохраняется активная, исторически-реальная роль Самого Христа в истории – в жизни Церкви и мира[152]. Уже в эпоху христианства продолжается и совершается Его «царское служение», Его «воцарение… совершается во всей истории… (и) увенчивается эсхатологией»[153]:
«Царское служение Господа Иисуса Христа… совершается в истории, – и не только как внутреннее выявление силы совершившегося искупления, но и как новое, активное действие „как бы закланного Агнца“ … Эта трагедия заполняет при этом всю историю, от восшествия Господа на небо и до самого ее конца. Воцарение Христово совершается длительной и напряженной борьбой, – следовательно, оно является продолжающимся и до самого конца истории еще не завершающимся Его служением, именно Царским служением Христа на земле… Так как борьба продолжается с растущим напряжением до самого конца истории, то отсюда следует, что и царское служение Христа является тоже еще продолжающимся и не оконченным»[154].
По Воплощении «вся человечность», природа человеческая принадлежит Христу[155]. «Он действует в человечестве не только впечатлением Своего учения и Своего Образа, силою убеждения, но и сам, Своей непосредственной силой… Христос живет в Своем человечестве, в нем и чрез него воцаряясь, в царском Своем служении»[156].
Это дело Христа после Вознесения, согласно мысли прот. С. Булгакова, кенотично, как и подвиг Его земной жизни, хотя и в ином смысле и плане[157]. Сама эта мысль не находит подтверждения в Предании Церкви и даже, скорее, им опровергается[158]; однако, будучи применённой к Церкви, возглавляемой Христом (соответственно же, и непосредственно ко Христу как Главе Церкви), и истолкованной в этом ракурсе, она имеет ценную перспективу своего развития, которую и продолжили ученики о. Сергия[159]. Сам он косвенно свидетельствует об этом: «соучастие (в Царском служении Христа) сливается нераздельно и с его исторически-апокалиптическим значением, как дела Божия на земле и в истории чрез людей… Этим указуется всеобщее участие человечества в делах Божиих»[160].
Следует отметить и то, что прот. С. Булгаков, подчёркивая природный характер дела и присутствия Христа в мире и истории, соотносит его с парным ему аспектом ипостасного, личного, творческого дела отдельных людей и даже «единой многоликой ипостаси» человеческого мира[161], усвояющего и творчески продолжающего подвиг Христов содействием Святого Духа. В таком понимании он смыкается с позицией своего критика В. Н. Лосского, ставившего подобное разделение среди ключевых компонентов собственной богословской системы[162]. Указанное разделение на личный и природный характер истории важно для о. Сергия, и мы его ещё коснёмся ниже, в контексте проблемы соотношения свободы и необходимости в историческом процессе.
3.3. Церковь – стержень истории
Церковь в истории, осуществляя дело Христа, подобно Ему Самому «действует в истории, как творящая сила»[163]. Однако прот. С. Булгаков мыслит Церковь шире, нежели как только Церковь Христову, исторически возникшую в определённый момент истории с сошествием Святого Духа на апостолов. Для него она есть «вечное во временном»[164], «внутренняя сила и, так сказать, субстанция истории»[165].
На этой точке его экклезиология смыкается с софиологией – ведь именно софия, согласно мысли о. Сергия, является «творящей и движущей силой» истории[166]. Именно она «имеет определенную положительную сущность, которая и определяет собою содержание исторического процесса»[167]. София тварная, понимаемая прот. С. Булгаковым как природа человека[168], в истории осуществляет себя как Церковь, – осуществляет себя в таком ипостасном выражении. Церковь есть человечество, осуществляющее себя в истории, выступающее в отношении к космосу и истории «душой мира»[169], его солью и закваской[170]. Вместе с тем Церковь есть и богочеловечество, являющее в себе единство синергийного общения Бога и человека[171].
Закономерно, что предназначение Церкви о. Сергий не ограничивает сотериологическими задачами и отрицает, что Боговоплощение объясняется исключительно грехопадением Адама и, таким образом, носит причинный, а значит, случайный характер[172]. Когда о. Сергий говорит, что Церковь является «основой творения, внутренней его целепричиной», то он исходит из ключевой посылки своей софиологии: будучи сотворенным, мир призван преодолеть разрыв между Богом-Творцом и своей тварностью. Именно в становлении Церкви как Богочеловечества достигается «дальнейшая задача в творении мира – преодолеть и саму его тварность, сделать творение уже не-творением или сверх-творением, его обожить»[173]. Эта задача реализуется, когда в Боговоплощении «Бог… решает Собою восполнить недостающее в тварности, обожить сотворенное, дать вечность становящемуся»[174]. Так, становление Церкви в истории прот. С. Булгаков определяет как творческий и космический процесс: «Мир должен быть так оформлен и детерминирован человеком, что Бог сможет в нем жить»[175].
Всецелая история, согласно такому пониманию, становится «священной историей»: «Если история избранного народа до пришествия Христова является для нас „священной историей“, то после боговоплощения область эта не ограничивается одним народом, но простирается на весь мир, уже принадлежащий Христу и принявший сошествие Св. Духа, ставший богочеловеческим. На Страшном Суде… обнаружится эта церковная пронизанность всей человеческой истории, как подлежащей суду Христову»[176]. Вся человеческая история является, таким образом, «историей Церкви»[177], а всё происходящее в мире оказывается «привязано» к церковной жизни и её действию в мире. «В „последние времена“, – утверждает прот. С. Булгаков, – то есть после Вознесения и до Парусии, в мире уже нет ничего нейтрального, что бы оставалось вне действия Церкви, хотя этот действующий во времени процесс оцерковления мира (положительный или отрицательный, с плюсом или с минусом (прим. прот. С. Булгакова). – авт.) проявляется в сложных и многообразных формах»[178].

Рассматривая Церковь в контексте истории, прот. С. Булгаков выделяет ряд аспектов её бытия, которые в совокупности представляют собой своеобразное «трёхмерное» определение Церкви. Эти аспекты таковы:
1. Вертикальное измерение Церкви. Таковым является её «причастность к Божественной жизни», в которой Церковь есть «ее (Божественной жизни) самооткровение»[179].
2. Горизонтальное измерение Церкви. Вместе в «вертикальным аспектом» оно объединяется в «онтологическое», или «мистическое» измерение[180]. Церковь расширяет свои границы до границ творения и за его пределы так, что «границы Церкви мистически или онтологически совпадают с границами силы боговоплощения и Пятидесятницы, каковых вообще не существует»[181]. Прот. С. Булгаков утверждает, что в этом измерении, коренящемся в замысле Божием о человеке, Церковь потенциально распространяется на все человечество: «все люди принадлежат к человечеству Христову, и… в этом смысле и все человечество принадлежит Церкви»[182], и, более того, «Церкви принадлежит все мироздание, которое есть ее периферия, космический лик»[183], в этом смысле – смысле потенции и действия силы воплотившегося Христа – она как «тело Христово, есть не только „общество верующих“, но и вся вселенная в Боге»[184].
3. Временно́е, или историческое, измерение Церкви. В пределах доисторического времени Церковь проявляет себя в образе райском, в историческом времени – в образах ветхозаветной и новозаветной Церкви, в эсхатологическом – стремится к завершению и претворению Себя в Божественную полноту, когда «Бог будет все во всем» (1 Кор 15: 28).
Богословское «согласование» этих аспектов бытия Церкви друг с другом у прот. С. Булгакова представляет собой скорее поставленную задачу, чем её разрешение. Для него Церковь в своём историческом проявлении не лишена своего мистического содержания, хотя ещё и не являет его во всей полноте: «Церковь как общество, установление, организация – „видимая“ или эмпирическая Церковь, не вполне совпадает с Церковью как Богочеловечеством, ее ноуменальной глубиной, хотя с нею и связана, ею обосновывается, ею проникается»[185]; такая мысль порождает собой антиномию совпадения-несовпадения «исторической» и «эсхатологической» Церкви, совершенное отождествление которых и снятие данной антиномии, по мысли о. Сергия, принадлежит не истории, а эсхатону[186]. Впрочем, прот. С. Булгаков подчёркивает, что исторический облик Церкви не есть что-то чуждое её становящейся полноте, наносное, то, что должно быть отторгнуто в конце истории. Так, проблема исторического бытия Церкви смыкается у о. Сергия с проблемой отношения истории и эсхатологии.
4. Свобода и необходимость в истории
Одним из ключевых вопросов для прот. С. Булгакова, интегрированных с основными положениями его богословской системы, выступает вопрос отношения человеческой свободы и необходимости, понимаемой в качестве законосообразности истории; о. Сергий традиционно рассматривает его в контексте синергийных отношений Бога и человека.
По большому счёту, для него не существует проблемы этого соотношения[187]. Его богословская система без труда разрешает этот вопрос, исходя из собственных посылок и в рамках собственной «системы координат». Софийное, как область прежде всего природного – при этом же и соотносительного у Бога и человека, – выступает основанием законосообразности истории. Пребывающее в Боге за гранью каких-либо антиномий свободы и необходимости, само являющееся и законом всего, и самоопределением – «Божественная София» (в терминологии о. Сергия), – отображает себя в природе тварного, природе человека. Это отображение непреложного в рамках истории являет себя в виде «границ реальных возможностей»[188], некоего органического диапазона проявления сил человека[189]. Лишь в этих природных рамках оказывается и способен действовать человек, лично осуществляя свою свободу «как модальность в отношении к данной для нее реальности»[190]. Так, свобода человека, имеющая ипостасный характер, оказывается «не субстанциальна, но модальна»[191], «ограничена своим модальным характером»[192], «есть только модус бытия, но не его содержание»[193] – «каковы бы ни были ее (твари) собственные самоопределения, к добру или злу… как попущение, так и направление событий остается в руке Божией и совершается премудростию Божественной»[194].
В этом смысле свобода человека оказывается всегда «соотносительна с необходимостью»[195] (и сама необходимость объявляется имеющей природный характер[196]), соотносительна с нею как с ограничивающим фактором её возможностей. История объявляется о. Сергием онтологически «детерминированной» этим природным и софийным фактором, каковая детерминация должна быть понята в положительном смысле и не упраздняет (но, совершенно напротив, выявляет) человеческую свободу, лежащую в совершенно иной – ипостасной – плоскости бытия человека[197].
Именно поэтому, утверждает прот. С. Булгаков, свобода человека не творит из ничего, но формирует заданное. Она «не может внести в мир чего-либо онтологически нового», хотя ей и «присуща известная оригинальность, свойственная всякой личной жизни»[198]. Так, согласно его мысли, творение из ничего, как и дальнейшее его совершенное историческое выявление во Христе, имеет софийно-природный характер (вместе Божественный и человеческий[199]), тогда как дело личного бытия – образование, формирование, моделирование, совершаемое в рамках онтологически заданной реальности: «тварная свобода, как модальная, не творит мир в его данности, но его образует, осуществляя его задание, так или иначе, теми или иными путями, при наличии непреложных и неотменных основ бытия»[200].
Исходя из такого отношения между свободой и необходимостью, прот. С. Булгаков объясняет и всеведение Божие: «Чтобы соединить тварную свободу с Божественным всеведением, нужно сказать не то, что Бог предвидел и, следовательно, предопределил падение человека… но что Бог, ведая Свое творение со всеми заключенными в нем возможностями, ведает и возможность падения, которая, однако, могла и не осуществиться и осуществима лишь человеческой свободой»[201].
Несмотря на сказанное, исторический путь человека парадоксально оказывается новизной для Бога. Даже более того, прот. С. Булгаков утверждает идею «обоюдного самоопределения» Бога и человека в синергийном взаимодействии исторического процесса, – ипостасный облик истории представляет творческий вклад этого «нового» в «старом» и как бы принадлежащем Самому Богу[202].
Таковой, свободной, человечески-личной оказывается вся история – её начало[203], простирание[204] и окончание[205]:
«Человеческая история силою Христовою движется в направлении к своему концу… (Но) второе пришествие Христа есть акт не односторонний, но обоюдосторонний, каким было и первое пришествие Христа в мире. Для него должно наступить мировое время чрез мировое свершение. И это время, в числе других условий, определяется и человеческой свободой, в зависимости от нее оно может сократиться и удлиниться… История не есть пустой коридор, который надо как-нибудь пройти… она есть… богочеловеческое дело на земле»[206].
Именно в свободном и творческом процессе осуществляется её, истории, созревание, созревание и всего человечества[207]. «История, – утверждает о. Сергий, – не может произвольно или случайно оборваться в любой точке, она должна внутренне закончиться, созреть для своего конца»[208]. История, таким образом, мыслится им хотя и богочеловеческим процессом[209], но, по преимуществу, всё же «делом человеческим»[210], и даже более того – «самооткровением» Человека[211].
Наконец, с проблематикой свободы и необходимости у прот. С. Булгакова коррелирует тема отношения «единого творческого акта» человечества и «собственной (исторической) темы»[212], задачи творчества отдельного человека. «Личное дело спасения вплетается в общее дело человечества, и из этих нитей субъективной свободы и объективной данности получается пёстрая ткань истории с её узором»[213]. Эти отношения «темы» и всецелой истории осмысляются им под разными углами зрения:
• «части» и неделимого целого;
• творчески-личного и природного;
• модального и непреложного.
Осуществляясь под знаком «общего» и «особенного», они в определённом отношении оказываются эквивалентны паре «природное – ипостасное» со всеми вытекающими из вышесказанного следствиями, относящимися к законосообразности природного, с одной стороны, и свободного модального творчества личного бытия, с другой.
Однако не следует забывать об особом отношении прот. С. Булгакова к теме единства – целое человечество представляет собой в его глазах не только собственную природу, но и само выступает особым видом ипостасного – многоипостасного – бытия[214]. «Единому творческому акту» Бога[215], не только непреложно создающего мир как отображение в потенции своей природы, но и прилагающему к этому личное – триипостасное – участие в созидании мира как определённого «образа бытия»[216], его дальнейшем водительстве и спасении, в истории соответствует, в качестве его отображения, «единый творческий акт» всецелого человечества, понимаемый именно как объект совокупных исторических усилий единого же субъекта истории[217], осуществляемый синергийно с «единым актом» Бога, Святой Троицы.
5. Созидательный характер исторического процесса
5.1. Значение труда
В ранних работах прот. С. Булгаков разрабатывает концепцию «богословия труда». Хотя тематика труда, христианской аскезы весьма характерна для церковной письменности, однако научный и многоаспектно-систематический подход к ней представляет собой явление сравнительно редкое.
Отталкиваясь от той мысли, что с момента грехопадения «хозяйственная забота изнуряет дух человека, а хозяйственный труд напрягает его силы», о. Сергий ставит вопрос: означает ли это, что одной из задач человеческой истории должно стать освобождение от «хозяйственной неволи», достижение «сверх-хозяйственного или внехозяйственного состояния»[218]? Если такая задача и может быть поставлена, то путь освобождения от хозяйственной необходимости может пролегать лишь в двух направлениях: как освобождение духовное, достигаемое через напряжение духовных сил (по примеру аскетов-подвижников), и как освобождение чисто хозяйственное, через развитие т. н. производительных сил. Так в общих чертах формируются два подхода к хозяйственной истории развития человечества: «религиозный» и «прогрессивный»[219].
Религиозный путь освобождения от хозяйственной необходимости может лежать через аскетическое бесстрастие, когда «нужда изгоняется из сердца, хотя и сохраняет силу над телом»[220]. Такому бесстрастию как умиранию для мира учит, например, буддизм. Христианское подвижничество призывает к бо́льшему – это не просто умирание для мира, но победа над миром. В основе христианского аскетизма лежит постоянное переживание присутствия в мире Божественной любви и заботы как следствия преображения человеческого естества: «насколько герои веры, святые подвижники, уже в нынешнем веке дышат воздухом воскресения, будущего века, для них теряют частично силу и законы этого мира, у них иная физиология»[221]. К этому пути освобождения, который идет как бы поверх хозяйства, призван каждый христианин – «сохранять духовную свободу от хозяйства, не отдавать себя всего и до конца хозяйственной работе»[222]. Эту духовную свободу не дадут человеку никакие хозяйственные реформы, но только сам человек, если он будет «чувствовать в себе Сына Божия»[223]. Более того, «развитие производительных сил, экономический расцвет может сопровождаться таким порабощением человека хозяйственной стихии, таким духовным его пленением, какое не наблюдается и при крайней бедности»[224].
С другой стороны, христианство не снимает с человека всеобщей повинности труда, возложенной заповедью Божией, согласно которой весь мир есть творение Божие, а человек призван его хранить и возделывать: «христианство знает свободу в хозяйстве, но не обещает свободы от хозяйства и через хозяйство»[225]. Безусловной заслугой христианства, по мнению прот. С. Булгакова, является его положительное влияние на «хозяйственную историю человечества», в результате которого оно «безмерно подняло сознание достоинства труда, не признававшегося в древнем мире»: христианские монастыри образовали очаги хозяйственной культуры, аскеты явились подвижниками труда, в обществе зародилось переживание «морального авторитета труда»[226].
Однако, замечает о. Сергий, христианское уважение к труду не имеет ничего общего с «превозношением труда и самопревозношением рабочего класса»[227], который мнит труд всесильным и ставит своей целью самоутверждение человека. Критикуя «социалистические мечтания» – например, сделать природу послушной человеку и избавить его от тяготы хозяйственной заботы, – прот. С. Булгаков предлагает человеку «духовно дорасти» до сокращения рабочего дня и освободившегося досуга, иначе «короткий рабочий день станет источником духовной деморализации и вырождения рабочего класса… оставленного вдруг наедине со своими страстями, пороками и слабостями»[228]. Закон «не хлебом единым живет человек» неумолимо вступает в силу именно потому, что человек имеет духовные основания своего бытия.
5.2. Активная роль Церкви в истории
Еще на этапе своих религиозно-философских исканий в статье «Церковь и социальный вопрос» (1906) в качестве «религиозной нормы отношения к миру» прот. С. Булгаков отчетливо обозначает задачу человека как его «сознательного участия в историческом творчестве». Он считает, что христиане должны не только «охранять и поддерживать жизнь, но быть и творцами истории, творить культуру, не уподобляясь ленивым и лукавым рабам, зарывшим свой талант в глубокое варварство»[229].
В своей докторской диссертации «Философия хозяйства» (1912) взаимоотношения человека (человечества) с миром прот. С. Булгаков рассматривает как хозяйствование в космическом масштабе, которое не сводится к исключительно экономической и материальной деятельности, но включает в себя социальную, культурообразующую, психологическую и, что особенно важно, религиозную составляющие. Отношение человека к миру имеет духовный корень; в своей основе хозяйствование – это духовная деятельность, направленная на развитие Божьего замысла о мире. Хозяйственную деятельность о. Сергий понимает как «очеловечивание природы»[230].
Уже в более зрелый период своей деятельности прот. С. Булгаков сосредоточивается на экклезиологической тематике. Рассматривая аспект творчества в истории, он возводит начало творческой активности человека к райскому периоду жизни человечества[231]. Грехопадение внесло в историю трагический оттенок, лишило ее гармоничности, но не творческого основания. С тех пор, как задача оформления мира как творческого сослужения Богу в акте творения встала перед человеком еще в раю, она до сих пор у него не отнята[232]. Именно Церковь – стержень истории – призвана осуществить эту задачу.
В этом отношении важно, что прот. С. Булгаков не просто констатировал, что Церковь «существенно исторична, тварным своим ликом она принадлежит истории»[233], но считал, что Церковь определяется историей: «Церковь будучи Богочеловечеством в истории, развивается посредством истории и является неотделимой от жизни человечества во времени»[234]. Целью существования Церкви в истории является «оцерковление мира»[235], оцерковление и вовлечение в орбиту церковной жизни всех сторон деятельности человека, его творчества, составляющего сферу культуры, социальных отношений и проч.[236] Прот. С. Булгаков верил, что Церковь имеет достаточную силу не просто освятить мир своим присутствием, но и вовлечь мир в историю спасения. Эти его взгляды разделял прот. Василий Зеньковский (1881–1962), считавший, что «задача Церкви заключается в том, чтобы освящать плоть истории, в которую она входит, как начало света и правды»[237]. Данная позиция контрастирует с позицией протопр. Николая Афанасьева, который считал, что «Церковь пребывает в истории мира, но только пребывает, не участвуя в ней»[238]. Такое пребывание Церкви на фоне истории о. Николай считает «срединным решением» между двумя историческими неудачами Церкви: «монашеской», когда Церковь отделила себя от мира как «грешной силы», и «теократической», когда Церковь действовала как «историческая сила». Отрицание участия Церкви в историческом процессе у о. Николая обосновано его отказом признавать Церковь историческим институтом, исторической силой, которая может действовать политическими методами. Он настаивает, что в историческом процессе «участвует не Церковь, а только сами христиане»[239].