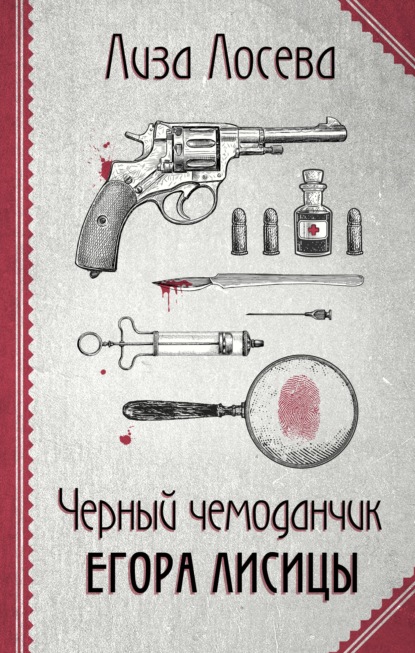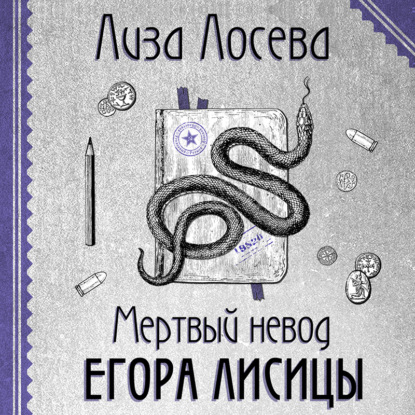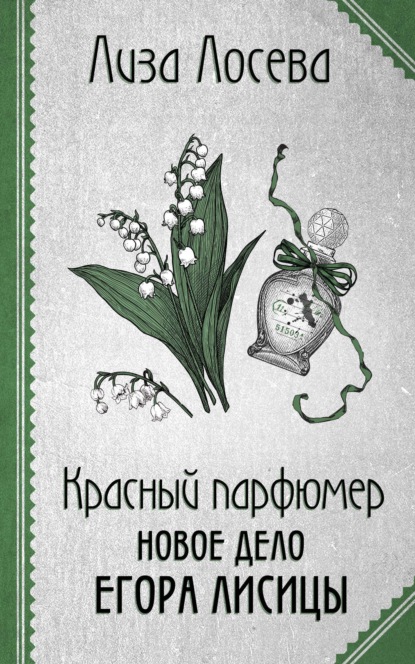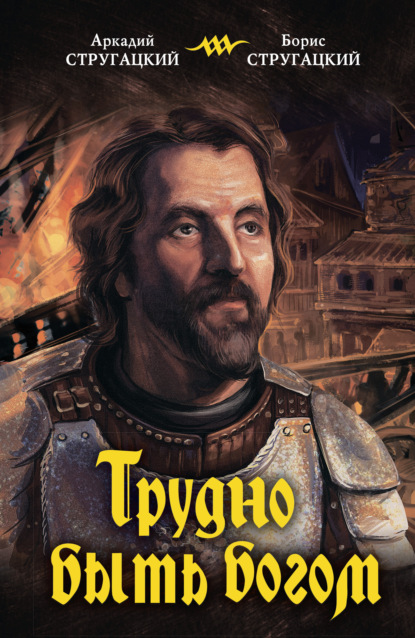Мертвый невод Егора Лисицы
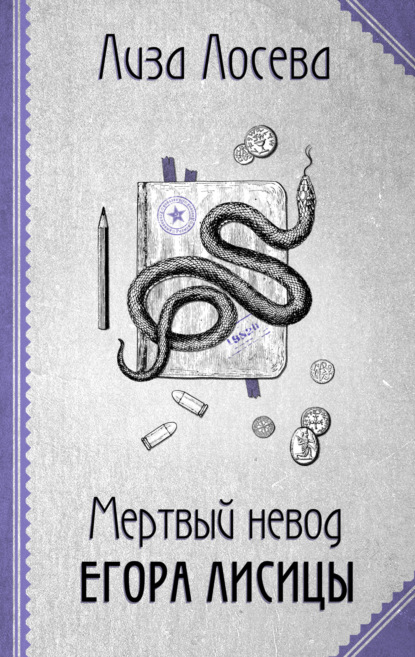
- -
- 100%
- +
Уходя, я задержался, заглянул на склад, в бывшие комнаты прислуги. У стены, под наброшенным мешком, нашлась пара банок с белой краской.
* * *Турщ дожидался меня на крыльце:
– Теперь у нас запланирован месячник борьбы с религиозными суевериями.
Наша задача – разрушить темноту и фанатизм.
Черт, а я уж было решил, что агитпросвет окончен. Спускаясь с крыльца, поинтересовался:
– Рудина, кстати сказать, активно вела работу по разрушению суеверий?
– Этого сейчас вся обстановка повелительно требует. Вот взять того же попа. Он провоцирует истории о явлениях, которые мы будем изживать.
– Отец Магдарий.
– Он. – Турщ помахал, разгоняя папиросный дым. В нем явно прослеживалась смесь жеманных манер и прямо земельной мужественности. Да, зеркальце у Рудиной – подарок в его вкусе.
– Спокойного времени нет. Вот еще напасть, сейчас мне нужно быть в станичном ревкоме. Разбирательство. Местные хотят выжить партию энтузиастов-краеведов. Обвиняют в том, что те якобы тревожат змея.
– Слышал у Рогинского. Любопытное суеверие.
– Да нет, эти краеведы в самом деле зачем-то к нему полезли. Копают прямо по-над хребтом. Хотя я предупреждал этого не делать! Однако это, так скажем, потустороннее. – Мы шли к пристани. Турщ продолжил: – В Ряженом и в округе творятся другие дела. Вполне телесные. Главная цель, я уже говорил, боремся с контрабандой. Рядом морской порт на Азовском море.
Порт Таганрога по-прежнему принимал турецкие и другие суда. А так как новая, Советская страна производила мало предметов «буржуазной роскоши», появился «дефицит» – контрабанда процветала. Спиртное, табак, кофе привозили на заграничных судах. Само собой, нелегально. Контрабандный товар не досматривался, пошлину платить не нужно.
– При досмотре парохода «Декрет» нашли в перекинутом за борт кранце сахарный песок. Задержали турецкоподданных, оштрафовали – да и отпустили! А вот кто у них подельники на берегу?! Это вопрос. Понятно, строится просто: к судну подходит лодка, контрабанду снимают и доставляют на берег. Однако не можем поймать на горячем.
Турщ добавил, что вывозят за границу тем же способом украшения, иконы, а бывает, и оружие. Продают матросам рыбу.
У пристани нас ожидал знакомый милиционер, он пожаловался, что ночь не спал – сторожил Австрияка и отца Магдария. Хорошо, что Турщ с нами не поехал – удалось отвязаться.
* * *На островке, по пути к церкви, я заглянул на кладбище. Шел, рассматривая надгробия, читая эпитафии. Поселения и города в этой местности моложе, чем в бывшей империи. Однако уже зацепились корнями. Фамилии все повторялись. Ограды, рыдающие ангелы, следы воды на изъеденных ветром и влагой мраморных крыльях. Наконец я нашел то, что искал. Могила Любови Рудиной выделялась светлым деревом креста, на нем были затейливо выведены цифры. За спиной послышались шаги, меня окликнул священник. Круглая шляпа, простое русское лицо, вьющаяся светлая бородка – природа его огладила, пожадничала дать прямых линий.
– Толком не познакомились – отец Магдарий Сериков. – Руки в земле, он вытер их платком, протянул ладонь. – Убираем по весне каждый год, повсюду выпалываем.
Мы пожали друг другу руки. Я еще раз извинился, что пришлось прервать погребение.
Отец Магдарий покачался на носках, потом кивнул:
– Хотите, покажу наш храм?
Он пошел по дорожке, на ходу говоря:
– Погост у нас старый. Как начали тут селиться, так и погребаем. Там вот, – он показал на заросший диким виноградом приземистый домик, – лепрозорий был. Больные с проказой содержались, из казаков и так.
Стены лепрозория съедала трава. За ними виднелась церковь. Отец Магдарий рассказывал об устройстве прихода, звонарнях и колокольне. Мы обошли храм кругом. На задках, над костром, – навешанное ведерко в пятнах воска.
– Делаем свечи, – пояснил Магдарий.
При входе он остановился, перекрестился на купола. Потянул медную ручку двери. В сереньком полумраке луч света ударил по глазам святого на темном дереве, уткнулся в желтые бумажные цветы у алтаря. Под куполом захлопотали, забились голуби. Пыль, мелкие перья полетели вниз. Остановившись, я рассматривал роспись деревянных хоров. Страшный суд. Пламя, пожирающее безучастных грешников. Красно-черный кольчатый змей, искушающий Еву, смотрел на нее как на свое отражение. В чертах змея и Евы мне почудилось что-то знакомое.
Отец Магдарий щепотью поправил свечи перед образом.
– Вот, икона святого Георгия, победителя змея, обновилась[39]. Ваш ангел-хранитель. Вы же Георгий?
– Егор, – ответил. – Но крестили Георгием.
Дерево темное, а краски действительно светлее, ярче. На фигурах застывшие потеки.
– Скандал, конечно, для большевиков необыкновенный. – Священник мотнул головой, всплеснул руками. – Сын секретаря ячейки, узрев сие, хотел из комсомола выйти.
– По нам же, – продолжал он, – щеточкой прошлись. Комиссия работала неделю.
Мне было ясно, о какой комиссии говорит Магдарий. Кампания за разоблачение религии и святых чудес в газетах призывала произвести полную ликвидацию мощей, «избегая при этом всякой нерешительности и двусмысленности». В Ростове комсомольцы и коммунисты собирали подписи за взрыв храма на площади перед бывшим государственным банком.
– Комиссия вскрыла ковчежец с мощами, – говорил священник. – Пробовал я противостоять. Но повсюду изымают церковные ценности. Вот и нам все драгоценные оклады пришлось, конечно, отдать.
В свечном неверном свете с доски икон осуждающе смотрели святые.
– Да что я, роптать грех, сказано же, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. – Священник вздохнул и перекрестился. – А вот что колокольный звон запретили, это уже обида. Ведь это небесный призыв выражает. А в праздник как человеку без колоколов?
Я промолчал.
– Однако же новые мощи они собрали. – Он снова дернул плечом.
«Новыми мощами» в советской прессе называли построенный в Москве после резкого выступления Троцкого мавзолей.
– Собрали и уложили. В капище, чуть ли не в пирамиде. Не по-христиански это. Вы вот веруете?
Магдарий спрашивал доброжелательно. И, задавая вопрос, смотрел спокойно, прямо. Говорить о таких вещах я не умел и не любил, разговор выходил неловким, но и обижать его не стоило. Очевидно было, что он много знает о здешних делах и человек неглупый.
– Tres physici – duo athei, среди трех врачей двое всегда атеисты, – ответил я уклончиво.
Священник покивал – понимаю.
– Я вас не о вере хотел расспросить, а, напротив, о суевериях, – сказал я. – К кому и прийти, если не к вам. Девушка погибла, с телом поступили демонстративно. Нужно разобраться.
– Помогу чем смогу, но вряд ли многим. Видел ее не раз в поселке, но здесь она не бывала.
– Вы же присутствовали, когда привезли тело.
– Да, отслужили шестой час, стало быть, полдень, – отец Магдарий говорил медленно, чуть нараспев. – Ну вот дверь нараспашку и…
Священник был хорошим рассказчиком, и я живо представил, как распахнулась дверь, человек навалился на нее всем телом. Руки же его были заняты, на руках – девушка, запеленатая в красное. Старуха, церковная приживалка, шарахнулась, уронила ком свечного воска…
– Кинулся ко мне, – говорил все так же нараспев Магдарий, словно читая псалтирь. – Шептал, что она мертвая, а вода кругом красная. А потом как закричит: «…и упала в реку большая звезда, имя той звезде «полынь», и многие из людей умерли от вод…» Кричал, можно сказать, в аффектации. Мы его вывели на двор, как могли угомонили. А здесь как раз окаянная комиссия эта… Вызвали товарища Турща, сделали снимки. С ними был постоянно фотограф, он и сделал.
Мы помолчали.
– А что вы скажете о местном суеверии, о змее? – Я коротко пересказал бормотание Терпилихи, пытаясь придать истории хоть сколько-то весу. – Может тут быть какая-то изнанка?
Признаюсь, насчет обряда я сомневался. Жест с саваном из транспаранта казался чересчур нарочитым. Скорее демонстрация злобы, идеологического несогласия, чем ритуал. Но здесь, в Ряженом, где все начинающиеся было формироваться выводы ускользали, словно змея в воду, зыбкое виделось возможным.
– Старые верования приживчивы. Опять же, приход красных вод…
– Вы тоже считаете это знамением, не природным явлением?
– Природа суть Бог, а значит, любое явление может быть знамением.
В богословских спорах я против отца Магдария был легковесом, поэтому промолчал.
– Знаете, – Магдарий снова задумался, глядя на лукавого аспида с лицом Евы. – Змей изображаем в облике человеческом, чтобы мы могли увидеть и узнать наши грехи. Грешат ведь люди. А сетуют на Бога.
Магдарий достал платок и вытер лицо:
– Ведь вы человека ищете? Его и ищите. Не зверя.
– А какого человека искать?
– Не знаю. Но Якоб, тот, что ее нашел и принес, он ни при чем. Видите, – священник снова кивнул на хоры, где змей кружил вокруг белокожей Евы. – Его работа. Подмалевывает, подновляет фрески. Душа у него тонкая. Рвется. Вы уж будьте деликатнее.
Якоб Мозер, или Австрияк, был из числа взятых в плен в Первую мировую. Многие из них остались после войны на Дону, не хватало рабочих рук, аккуратные и честные пригодились. Некоторые женились на казачках.
– Почему вы так уверены, что он ни при чем? Мог убить или поспособствовать, а потом осознал, что натворил, вот и сорвался.
– Я уже говорил товарищу Турщу, что Якоб весь день накануне и ночь был здесь. Это скажу вам не я один. С нами были несколько прихожан – они помогают в разлив. Убрали кладбище, укрепили пристань, потом повечеряли да и легли. Лодки наперечет, и все были здесь.
Священник добавил, что Якоба я найду у пристани.
Пристань – просто настил на сваях, листы нагретого весенним солнцем железа. Рядом на берегу, подоткнув подолы, возились женщины. Собирали раковины для производства пуговиц – за мешок ракушек государство платит пятьдесят рублей. На мостках подростки, парни и девушки. На мешках рядом – раковины в песке и водорослях. Вьется мошкара. Сырой запах.
Я подошел ближе и увидел, что подростки кидают в змей в рогозе камушки.
– Этот год много гадюк.
– Это потому, что антихрист.
– Э! брось, я в ячейке за такие слова… Сторонись, харя!
Согнутая спина, обтянутая выцветшей, вылинявшей черной рубашкой, – тот, кого назвали харей. Разбирает в лодке сети. Несколько камешков полетело в его сторону. Он обернулся. Слыша об Австрияке, я был готов увидеть какое-то увечье, но его лицо, точнее то, чем оно было, поразило. Вся нижняя часть содрана и вывернута, вздернута к носу. Торчат зубы.

Он крикнул детям и махнул на них рукой. Подростки отступили, но не ушли. Тот, что кидал камешки, спросил меня:
– Ты же милиценер с города?
– Да.
– А я вот что видел! В щель смотрел и видел, как харя этот Любку за руку повел, круг чертил и ставил ее в этот круг, а она совсем голая! – Это слово парень внезапно выкрикнул.
* * *Парни, кто посмелее, подошли ко мне ближе. Девочки остались в сторонке.
– Не слушайте, что бает попович. Он все лазает, подсматривает, ему наблазнится![40]
– Видел! Ведьмачит! – выкрикнул тот, кого назвали поповичем.
– Ты правда это видел? – Я подошел к парнишке. Не раз убеждался, что дети и подростки неплохие свидетели – всюду лезут и видят то, что не замечают взрослые. – Только не лги. Советская милиция обязывает оказывать содействие и давать правдивые показания. Как на духу.
Замолчали. Один помладше соскочил с мостков и припустил в сторону женщин на берегу. Я надеялся, что их потряс официальный тон моей речи, но, скорее они просто не поняли.
– Это что же значит?
– Все очень просто – закон запрещает врать и выдумывать.
– Какой же закон?
– Самый главный.
Пользуясь тем, что удалось озадачить мальчишек, я достал из кармана монетки, поднял одну из раковин.
– Сыграем?
С помощью игры Кима[41] я часто тренировал память. Принцип предельно прост: водящий показывает остальным несколько предметов, потом накрывает их ладонью. Убирает один и снова показывает. Надо восстановить, что было до того, как один из предметов убрали.
– Зачем это? – спросил мальчишка.
– Вот, проверим бдительность твою. Сможешь ли ты в милиционеры пойти?
Как я и ожидал, подростки заинтересовались. Угадывали предметы на ладони с хохотом. Между делом я показал и монетку-амулет, что нашел у Рудиной. Но никто не проявил особого интереса. Разговорились. Тот, кто говорил про ячейку, угадав снова верно, хохотнул, уселся. Говорил, задрав голову:
– Попович брешет. А Любу мы знали, – он оглянулся на остальных, – по ячейке при школе колхозной молодежи. Она там учила в вечерней школе. По истории интересно рассказывала. Вот про Марата, как зарезали его. Читальню хотела наладить.
Австрияк то застывал, прислушиваясь к нашей беседе, то оживал, снова начиная работать.
– Она нам помогала на работе по утечке рыбы. Мы смотрим на берегу за рыбаками, чтобы не воровали колхозное. Если видим, что кто-то спрятал рыбу и несет домой, бежим в ячейку. Это задание такое, и эта работа нам засчитывается.
– А родители ваши что говорят на это?
– Ругают. А то и за вихры.
– А Люба за нас заступалась.
– И за меня заступилась!
– А было, я книгу библиотечную в воду упустил, думал, она заругает, а она…
Поднялся гам, каждый спешил сказать о Любе что-то свое, хорошее. На мои вопросы о реакции папки-мамки отвечали уклончиво, тушевались, своих не сдавали. Я напрямую спросил, с кем ругалась Рудина. Указали на Австрияка.
– С Австрияком вон.
– С харей.
Под предлогом проигрыша очередным пацаном в Кима я прервал игру, обозвав ребят раззявами и посоветовав тренировать внимательность. Мальчишки пофыркали, но расползлись. Потерять их интерес к себе я не боялся, любопытство подростка-мальчишки обратно пропорционально задетому самолюбию.
Якоб бросил сети. Пошел к мосткам. Он сместился, солнце било ему в лицо. На правой стороне несколько шрамов. А левую будто стесали рубанком. Глаз сполз. Перекошенная верхняя губа задрана к носу. Нос – видно, что был крупный, – раздроблен и тоже в шрамах.
– Смотрите вот сюда – в точку у плеча, – сказал он. – В лицо не смотрите.
По-русски он говорил медленно, очень правильно подбирая слова, но с сильным акцентом. Из-за травмы звуки с присвистом выходили из торчащих из вывернутой плоти, как растопыренные пальцы, зубов.
– Я врач, меня не смущает. – Я смотрел ему прямо в глаза. – Простите, но ведь это у вас пластическая хирургия была? Я только читал о применении, но на… практике видеть не доводилось.
– Вы первый, кто догадался, что мне сделали операцию, – ответил он. – Глаза спасли.
Первые такие операции стали делать после мировой войны. Приживляли к лицу кожу руки, больной был вынужден неделями жить так. Процесс был мучителен, а результат непредсказуем.
– После операции я жил в госпитале. Хорошие врачи. Я помогал. Но тяжело было, много страданий. Носил резиновую маску. Вызвался сюда. На стройку. Людей не так много. Меньше смотрят. Думал, это будет лучше.
– А как вышло?
– Плохо вышло. Остаться бы мне там, но я… дурак.
Усмехнулся, получился звук, похожий на фырканье лошади.
– Мальчиков не слушайте, – продолжил он. – Что круг чертил или другое. Я просил ее позировать, для рисунка.
Тут я понял, что общего в чертах Евы и змея.
– Вам рассказали, думаю, о ней. Сказали, может, что распущенна, не блюла себя, только это обман. Она красивая. Очень красивая. А они все вокруг нее.
– Кто же все?
– Все они. Один все смотрел, не подходил. – По описанию я узнал Нахимана Бродского. – А этот kommissar не стеснялся. Обсуждали ее, осуждали, а все к ней таскались. Но она не всерьез. Ничего им.
– А кто всерьез? Она ждала ребенка, знаете?
– Знаю, – помрачнел, – вы ведь ищете, кто виноват? Я! Kommissar верно меня взял в кутузку, – выговорил с присвистом.
Я напрягся, нахмурился, сел так, чтобы удобнее вскочить, если Якоб вздумает бежать.
– Вы отец? Это вы ее напугали?
– Нет, – ответил он просто. – Не я. Но я отпустил, не смог удержать. Она хотела, чтобы мы сошлись. Вот таким меня хотела. Говорила, что общество теперь новое, время новое, все равные. Ребенка родить можно и что я – муж.
Искала «гавань», подумал я. Но можно ли ему верить? Такая травма не могла не отразиться на психике. Опять же налицо экзальтация и зацикленность на погибшей.
– А потом передумала, – продолжил он. – Сказала, что не хочет ребенка. И уехала.
– Вы поспорили. Свидетели видели, как вы ругались, – сказал я.
– Она ругалась. – Он подернул губой. – Я не могу. Не говорю громко. Это мне тяжело.
– Допустим, я верю вам. Но кто мог напугать ее? Преследовать, может, ударить. Это важно. Если любили ее, помогите найти.
– Она ничего не говорила. Мало говорила со мной. Знала, я, – произнес он с трудом, – ich liebe sie[42]. Я следил. Мне было мучительно, когда она с другими. Но Любаша злилась, и я перестал.
– Вы упомянули других мужчин, кто мог сделать ей такой подарок? – Я вынул из кармана зеркало, протянул ему. Он рассмотрел, провел пальцем по крышке. Я почти не сомневался в том, чье имя он назовет. Но Якоб неожиданно равнодушно пожал плечами, сунул мне зеркало и ответил, что «Любаша могла купить это сама». Я понял, что подарок задел его. И что теперь он зол и решил отмалчиваться. Но раз зол, значит, можно вывести на откровенность.
– Странное совпадение, что именно вы ее и нашли? – я заговорил напористее, сменил тон. Он вспыхнул.
– Я искал, беспокоился. Вот и на-шел!
– А почему искали?
– Хотел убедить оставить ребенка. Всю ночь я думал. Ваш kommissar считает – я убил! Пусть. Ему доказывать как закапывать землю.
Якоб с усилием потянул лодку, кинул канатик.
– Можете меня взять. Все равно.
– Опишите поточнее, как выглядело место, когда вы ее нашли?
– Не знаю. Красная вода у берега, я подумал, Вlut – кровь.
– Вы разворачивали ткань?
– Нет. Только открыл лицо. И все, больше не трогал.
Якоб спрыгнул с мостков, завозился в лодке. До знакомства я подумывал о возможном психическом расстройстве. Травма, тоска одиночества, поступок в порыве извращенной страсти? Что же, я не специалист, но половая психопатия вряд ли имеет место. Следов насилия на теле Рудиной не было… И все же мотив у него есть – злоба, ревность, месть. А вот физической возможности загнать человека, как зверя, через кустарник маловато. Разбирая снасти, Якоб дышал тяжело, с присвистом. Подойдя, я принялся помогать, тянул веревки он слабо, руки подрагивали. Общая конституция – почти астения. Я спросил, в какой одежде он был в тот день. Якоб ответил неприязненно, что в этой же рубахе.
– Глаза вы ей закрыли?
Он только посмотрел недоуменно.
– А цветы на теле?
– Она любила цветы. Я положил.
Устроившись на мостках, я добавил в свои записи то, что рассказал Якоб Мозер. Попросил подписать.
– Я плохо пишу по-русски, – сказал он, однако подписал. Толкнул лодку, бросив: – Найдете меня, я не прячусь, если нужен.
Он отплыл, не оборачиваясь. Я поднял брошенный причальный канатик, покрутил, кое-где темнели пятна – воск. Как и на рубашке Якоба. Привирают или откровенно врут все. Кто от страха, а кто и так. Может быть, связанный саном, отец Магдарий не стал бы откровенно врать, но утаить мог и он.
* * *– На лошади верхом удержитесь? Найдем вам клячу посмирнее.
Турщ с порога бранился: чертовски досадно, выехать получится поздновато. Костерил кого-то шельмой. Солнце уже припекало всерьез. Он до последнего долго тянул, ждал сопровождающих. Вернувшись с острова, я заглянул в хату к лодочнику. Думал наскоро перекусить. Тут Турщ меня и застал.
– Я хочу поговорить с немецкими колонистами, – сказал я. – Может, получится по дороге?
Немецкие колонисты жили в нескольких селах и на хуторах. Держались обособленно. Ближайшее поселение называлось Руэнталь. Долина покоя.
– Каждый день новая выдумка. К чему вам туда?
Он стоял, не проходя в комнату, хмурился, постукивал носком сапога. Под глазами мешки, видно, эти дни тоже не спал толком. Усталость, понятно. Но какого черта эти выкрутасы? Сначала мы действовали заодно, и вдруг я стал чуть не врагом. Чем я так насолил за время своего пока очень короткого пребывания, что он хочет побыстрее сбыть «товарища из города» обратно? Впрочем, уверен, что уже написан и переписан начисто отчет для краевого начальства, утверждающий, что в Ряженом под начальством Турща тишь да гладь, сплошная «долина покоя».
– Так далеко это? – переспросил я, не отвечая на его выпад. Колонистов упоминали, говоря о вечере возвращения Рудиной. Но уверен, он и сам об этом помнил.
– По дороге можно, свернем. Но зря время потеряем. Установили причину смерти, зачем округу баламутить? – Турщ пошел на попятную.
– Раньше с ними бывали стычки? Конфликты.
– При царском режиме они эксплуатировали народ на уборке своих полей. Тогда бывало, стакнутся из-за выплат. Сейчас мы этого не допускаем. Работают сами. Шельмуют их больше потому, что живут замкнуто, иначе, чем здешние.
Наконец явился, смущенно оправдываясь, уже знакомый молодой парнишка-милиционер.
По пути к станицам, выше по реке, мы свернули в сторону от берега. Вода стояла в оврагах, но лошади шли справно. Шпиль кирхи был заметен издали. В Долине покоя строили по образцу европейских городков. Площадь. Дома длинные, одноэтажные, с огромными крышами, конюшнями и коровниками – все под одной крышей. Живущие общинами на Дону немцы в основном были заняты земледелием и скотоводством. Держали коров особой «красной породы». Во дворах накрытое сено и деревянные амбары. Перед крыльцом – цветник.
Турщ направился сразу к дому старосты, тот быстро собрал людей, обратился с короткой речью. И без этого уже наученные общением с властью колонисты, не колеблясь, открывали амбары, показывали дворы. Я как раз разглядывал лодки в сарае, когда раздался крик. Милиционер окликал меня, продираясь через звучащие фоном голоса женщин. Небольшая толпа – мужчины в плоских шляпах, женщины в светлых платках – стала расходиться, едва я подошел. Мужчины увели женщин по знаку старосты. Остался он сам да еще пара человек. В центре – высокий, стриженый, в длинном фартуке. С достоинством, хоть и немного трясущимися рукамии протянул мне листовку, напечатанную на дрянной бумаге.
– Вот, девушка отдала. Она отдала сама. Моей дочери.
Дочь стояла рядом. В городском платье, гладко причесана, загорелые щеки. Прямые ровные брови. Одернула завернувшийся край серого фартука, руки с пушком на виду.
– Девушка, которая отдала, – я описал Любу Рудину. – Она? Где вы ее видели?
Колонистка молчала, снова посмотрела на отца. Тот заметно волновался. Я сказал как можно мягче:
– Мы вас ни в чем не виним. Нам нужно узнать, где вы ее видели и когда. Только и всего.
– Мы возвращались из города. Встретили ее. Мой отец и я, мы ехали вместе, – она еще раз обернулась, отец шагнул ближе, – в кузове были еще вещи, почта. Она попросилась сесть в кабине, рядом с шофером. Жакет хороший, она красивая. Я запомнила. А мы сели в кузов, на мешки, взяли корм птице. Поехали, а потом сломалось колесо. Отец помогал с починкой, а мы с девушкой стояли, ждали. И вот она дала мне это, – подняла руку с листовкой. – Говорила, что в клубе будет диспут и есть книги.
– Что еще говорила? Может, должна была встретиться с кем-то?
– Она говорила мало. В дороге сильно трясло, и ей стало плохо. Она бледная была. Морщилась – вот так, – колонистка наморщила лоб. – И сказала, что ждать не будет, лучше пойдет пешком. Взяла сверток, чемодан оставила.
– И куда она пошла?
– Я мешки поправляла, не углядела, но показалось, в сторону балки.
– Вы уверены?
Девушка долго раздумывала.
– Нет, господин следователь, не смогу поклясться на книге, но мне показалось, что туда.
После находки листовки проверили дворы еще раз. Искали мелкие вещицы, которые могли принадлежать Рудиной. Наш милиционер даже полез ворошить вилами сено. С диким визгом из амбара выскочили поросята. Но больше ничего не нашли.
* * *– Еще с полчаса, и будет станица. Галки! – милиционер приостановился, натягивая поводья.
Ехали мы от хутора Руэнталь, по моим прикидкам, уже больше часа. Овраги, мелькает море. Небо слишком широко – ни домов, ни людей, только небо и вода, и фазаны выбегают на дорогу из зарослей, трясут хвостом.
– Так нам ведь не туда нужно, мы в Митякинскую едем! – Я встрепенулся. Коняга вздумала потянуться в заросли, мотала головой.
– А! Приедем куда задумали. Галки – это я назвал по привычке. У их Галка – «г» у казака выходило с гачком – на кресте удушилась.
– Это что же значит?
Турщ равнодушно слушал, как парень травит байки.