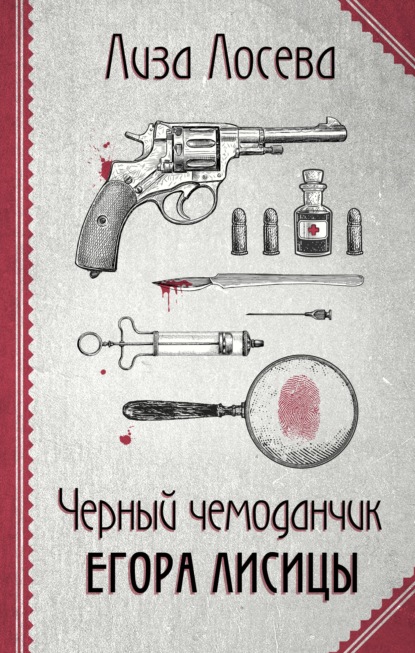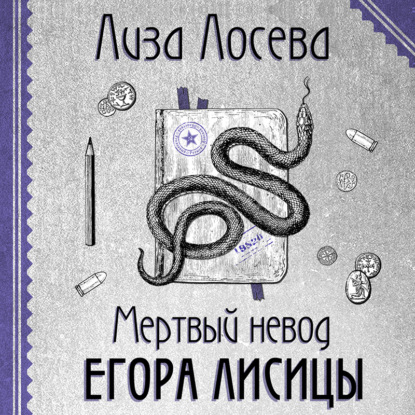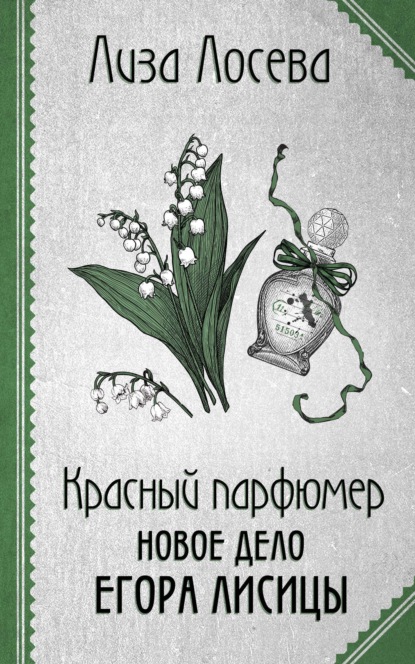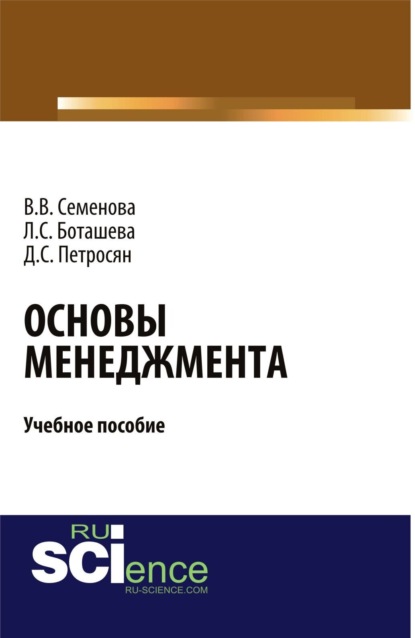Мертвый невод Егора Лисицы
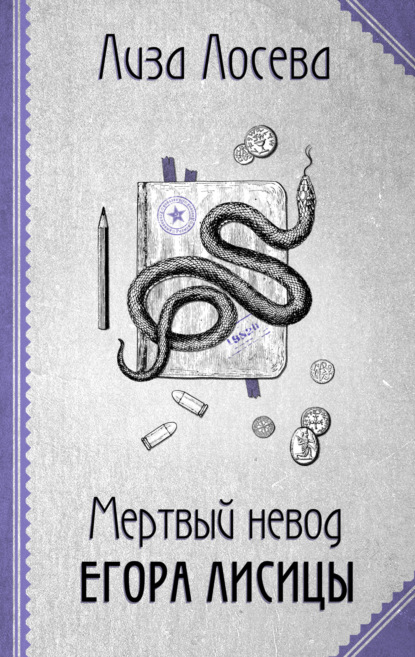
- -
- 100%
- +
– Дражним[43] их. Тут повелось клички станичничкам давать по разным случаям. От, Богаевская – «Лапшу в самоваре сварили». А одну станицу сом ославил – на паперти ощенятился. Дон пришел… – Я заметил, что местные говорят о реке как о человеке: Дон пришел, Дон ушел.
– …и стало быть, георгицкая вода зашла, в самую весну, на Георгия. Поднялась. Колокольню не колокольню, а паперть подпирало. Сом и заплыл. Куцая ишо станица есть, где кобель хвост сломил, – говорил милиционер.
Посматривая на Турща и видя, что начальство не запрещает трепаться, продолжил погромче.
– А то Голубицкая станица – капуста! Эх, – покрутил головой, подмигнул, намекая на соленость истории. – Казак, значит, с походу вез жене ботинки. Ох! блестят, как жар. На ходу рыпу не оберешься. Скрипять, чисто гутарят! По дороге остановился у хате, ну и…
Мигая уже двумя глазами, изложил продолжение: хозяйка хаты, каза`чка, очарованная ботинками, которые «вот те крест, на стол не стыдно выставить», согласилась на обмен. Ботинки на ласку. Сметливый казак, однако, пристроил в кровати кочан капусты.
– Значится, они того самого, проводят время сладко… а она-то все спрашивает: а ботиночки иде? А казак ей: да у тебе в головах! Нажмет казачка затылком подушку, а капуста под ней: ри-ипь!
– Не слишком-то честно, – сказал я.
– Ну, чего уж… а капуста ри-ип! – Посмеиваясь, он смаковал послевкусие анекдота.
Турщ крикнул нам, чтобы подстегнули коней. Вернуться из станиц лучше до темноты. Его опасения были понятны. Малым числом туда соваться рискованно, новая власть с казаками не сошлась, хотя на момент начала революции многие казаки сохраняли нейтралитет – устали от четвертый год идущей империалистической войны, да и власти осторожничали с казачеством.
Но вскоре Советы «сняли с казаков лампасы»[44], а те в ответ «сняли решета с плетней и перелили на пули». Понеслась по степи тачанка банды с красным знаменем и надписью крупными буквами: «Сыны разграбленных батьков». Костяком ее были офицеры царской армии, уроженцы одной из казачьих станиц. Разгромить их не удавалось несколько лет. Было и восстание казачьих станиц на севере края, его жестоко, пулеметами, подавили. Теперь, по словам Турща, «взят другой курс», однако и он не совсем прямой, случаются стычки, о которых осторожно пишут ростовские газеты.
Я чуть нажал на бока моей смирной лошадки, чтобы шла быстрее. Поравнялся с Турщем. Но зайти нужно было аккуратно. Турщу, как всякому самоуверенному человеку, лучше всего дать «хлеб» – признать его правоту – и добавить масла, спросив совета.
– Забавные тут истории. Да, кстати, вы оказались правы. Фельдшер действительно мечтательный и склонен сочинить. Наслушался я вчера. Не разберешь, где зерно, – я старался говорить как можно простодушнее.
– Я вас предупреждал. Средоточие сплетен. Его эта шатия на примете давно. Мутят воду.
Вспомнив определения, которые «шатия» дала самому Турщу, я подумал, что редко встретишь чувства столь искренне взаимные.
– О Рудиной говорили наверняка, – продолжил он ровным тоном, старательно не показывая интереса.
– Да, обсудили, не без того. Рудина едва ли не Мессалина. Но ведь и девушку понять можно. Свободная.
Турщ бормотнул: «Сволочной народ, им все языками чесать!» – подстегнул лошадь. Наш милиционер свистнул, махнул рукой. Свернули. Улицы станицы неуловимо отличались от Ряженого. Много саманных хат, крыши из камыша. Но есть и крытые железом, жестью зажиточно. Ставни, двери, выкрашенные синькой, разведенной в молоке. Запахи жареных зерен кофе, близкой воды, а от местной лавки тянет керосином, стоят бидончики, но у крыльца народу немного.
– Здешние бабы об эту пору кохфий гоняют – традиция от турков, – сказал милиционер. – От, бывало, стук идет, когда толкут, а нет, так и ячмень жарят заместо. С мамонами[45], ох! А то с рыбой.
Прямолинейные улицы пересекали станицу вдоль и поперек. У плетней шумели гладкие, крупные, как курица, воробьи.
– Тут все фамилием, родом живут, – пояснил парень. – Улица – семья все с одной стороны. От тама болдыри, Болдыревы. Значитца, от ясырки с казаком дети пошли.
Я переспросил – ясырками называли турчанок, привезенных из военных походов. Низовые казаки отличались от тех, что живут в верховьях Дона. В их жилах смешалась кровь не только турок, но и горцев, татар. Мужчины высокие, статные, но ноги кривые, типично для человека, слившегося с седлом.
– А ваши-то, Рудины, они вон, – махнул рукой. В конце улицы я увидел крепкий дом, чистый, ровный, светлый, подновленный плетень. – Сам Рудин арчажник[46].
* * *– Хозяева, здорова дневали! Есть кто дома-то?
Отец Любови Рудиной – как из железа. Копченый, темный, сухой. Младший сын Стефан – Стешка – черный, верткий и узкий. Длинные, под скобку подстриженные волосы, намазанные деревянным маслом, и взбитые – чуб. В ухе серьга, что означает – он последний в роду. Чуть позади держится мать. Я сразу узнал ее тяжелый, недоверчивый взгляд. У двери мелькнула фигура в чем-то пестром. Устинья, вдова старшего брата. В семье Рудиных было трое детей. Два брата и сестра Люба. Старший сын погиб в Гражданскую. Младший жил с родителями.
– Чиво мне тут ляскать[47] с вами, – отец говорил неприязненно. Стояли мы у плетня, во двор он нас не пустил. За его спиной негромко переговаривались Стешка и его мать, но на говоре, и я ничего не понимал из быстрых, торопливых их слов.
– Зачем же пожаловали? Твое начальство хоронить Любу не отдавало. Чего ищо нужно? – выступила мать.
– Нам нужно забрать чемодан, который был при вашей дочери. Я осмотрю содержимое, и мы все вернем, можете не волноваться, – успокаивал я, но мать только фыркнула и припустила – «ииить». – Еще я хотел спросить, с кем она ссорилась? Может, кого-то боялась?
– Кого это ей тут пугаться!
Мать говорила смело, брат помалкивал. Твердила одно: не видели дочь, не знаемся. Кивнула презрительно на Турща:
– Его и спроси. Он ее все на общественную работу ставил! Ишь, работник!
Я сделал Турщу знак промолчать, но тот не сдержался:
– Надо оказывать содействие! А вы не во всем. Не доверяете!
– А чего мне тебе доверять? И власти твоей? – вступил отец. – Вот зараз про себя скажу. Когда из отступа я вернулся, все у моря бросил! Коней, все добро. С энтих пор спину гну! А что же стало? Продразверсткой первый раз сильно обидели, пришли товарищи, под гребло забрали все зерно! А налог? Снова обида, да как сдирают, чуть не со шкурой всей. Я этим обидам и счет потерял!
– Вижу, как потерял! – обозлился Турщ. Молодой милиционер чуть поправил винтовку, насторожился. – Станичная власть все дает казакам после революции – права, средства, работай на страну, а вы саботируете!
– Езжай, люцинер[48], мы ничого не знаем, – снова вмешалась мать, осторожно трогая мужа за рукав, отстраняя.
– Это ты мужикам балабонь! А мы казаки. Вы с-под нас землю вынимаете – вот это как, по-твоему!
Возмущение отца Рудиной было понятно. Если крестьянам новая власть дала землю, то у казаков только забирала.
– Детей совратили против родителей, – продолжал возмущаться он. – Чтоб бегали к вам, докладали! Первое счастье, коли стыда в глазах нет.
Я встал между ними:
– Мы сейчас уедем. Ответьте только: когда вы видели Любу в последний раз? Я ведь хочу найти того, кто ее обидел. – Я старался смотреть на мать.
– Сыщете аль нет, на все божья воля.
Брат Рудиной подвинулся ближе, встал против солнца, и тут-то я и узнал силуэт человека, который видел на Гадючьем куте в день приезда, хоть и мельком исо спины, но срисовал, как выражается Репин.
– Место, где ее нашли, Гадючий кут. Бывали там недавно? – я обращался только к нему.
– Не был, все скажут!
– Ничого мы не видели. И не знаем! – Мать снова замахала на нас руками. – Вам вещи Любы надобны, Стешка, иди, дай. И пусть едут.
Брат довольно быстро вернулся, неся небольшой фанерный чемодан. Я поблагодарил:
– Спасибо.
– За спасибо мужичок в Москву сходил, да еще полспасиба домой принес, – буркнула мать Рудиной.
– Спрошу еще, последнее. Жаловалась ли Люба на сердце? Или что вот в груди, – я показал, – вот здесь болит? Давит или, может, жжет, как огонь?
– Вещи дали мы, езжайте с богом, – Рудин махнул рукой, уводя жену и сына.
Поудобнее перехватив чемодан, я пошел было искать своих попутчиков и лошадей. Турщ с милиционером куда-то делись. Мать догнала меня уже за плетнем.
– Казака мово не суди, что он бает супротив власти. Горе, оно только одного рака красит. Ты спрашивал, хворала ли Люба. Было, в груди у ей кололо. Нюта, фелдшериха, ей давала пить траву.
Я спросил, что за трава, но она не знала.
* * *Я прошелся по станице и вышел к реке. Куры клевали что-то у самой воды. У берега брала рыбу из ведра та самая вдова старшего брата, которую я заметил в доме. Руки ее покраснели от холодной воды. Чешуйки серебром блестели в ее волосах, на голых руках, на коже. И сама она была светлая, ладная. Теперь я рассмотрел ее лучше. Невысокая, неправильные черты, широковатый вздернутый нос, низкий круглый лоб – но все вместе создавало впечатление единственно возможной, удивительной гармонии. Крупные завитки волос, каштан с красноватым блеском из-под черного кружевного платка – неудивительно, вдова – смотрелись кокетливо. Победительно здоровая, яркие белки глаз, на скуле золотая кожа. Вся она – ладно собранный механизм, яркое украшение, уверенная, похожая на балованного ребенка, животное ласочку или пеструю уточку. Все делала быстро, легко. Поднимала ведро с рыбой, переступала ножками в ярких чириках без каблука. Отмахнулась от моей помощи с насмешкой – рази ты разбираешься? Я настоял.
– Ты из-за Любы до них приехал? Они не скажут. Люба ушла, так и отрезало.
– Вы иначе говорите.
– А я ведь с-под Кагальника. Муж меня от родителей увез. Жили под Врангелями – отец черного барона, – дачи там их да поля.
Вскинула глаза, они у нее как у козы – круглые, темные, а зрачок светлый. Кокетничала. Я откровенно любовался ею.
– Ох, муж любил меня! А сам высокий, огроменный. На ладони меня носил. Женой меня взять он против матери пошел, это у них тут как навроде против Бога. Бывало, мать его распекает – а он на лодку и – на реку! Так и рыбалит. Она умолкнет, он и возвернется, – говорила, посмеиваясь. Потом нахмурилась.
– А как казак нам фураньку[49] привез, убили мово мужа, значит, они в дом с ней прошли под божничку положить, так свекровь меня и не пустила спросить, как и что, я уж потом узнала.
Бросила рыбу, прищурилась.
– А мне вот сон был. Что я навроде поднялась и смотрю. На луну смотрю. И вижу, строй казаков идет чрез месяц. И все они радостные. А мово все нет. А потом вижу, идет позади, черный весь. Так и вышло. Убили. Я правдивые сны вижу. Ты сторожнее со мной говори, – добавила насмешливо.
– Чего ж так? – поинтересовался я.
– Моя бабка ведь, когда померла, крышу поднимали. Ведьмой была.
Покрутила серебряный перстенек с бирюзой.
– Красивое у тебя колечко.
– Это тоски камень. А венчальное кольцо с фуранькой привезли, так мне не отдали.
– Кто же не отдал, почему?
– Они, – кивнула в сторону дома, понятно, что говорит о свекре и свекрови. – Забрала Сама, с ключами на поясе. Дочка у меня была, померла. Так она и рада была.
– Что ты так, мужа ведь семья?
– А что же, ведь правда. Дочка это что же – шифоньер, то да се, на приданое расходы. И из семьи уйдет. А ведь сами богатые, деньга шелестит, чего жаться?
– Сейчас сложно небось им стало?
– Не бедствуют. Хотя и забрали у них много. Даже машинку швейную хотели взять, да мы ее в подпол спустили, забросали. Коня жалко, весь белый был, на лбу только пятнышко. Я его Дружочек звала, а отец ажно плакал, когда коней сводили. А когда мужа мово… так не плакал.
– Что же, все они тебя обижают? И Люба обижала?
– Люба – нет, с пониманием была. Я в клуб раз пошла. Она меня все уговаривала надеть красную косынку, но не по мне это. Они там про Бога, что, мол, его нету. Что мне душу марать? А как цари жили, это мне интересно. Я и пошла. Свекровь меня пыталась удержать, но теперь не старые времена. А не то, бывает, ей навроде покорюсь, а сама хамиль-хамиль, и утекла сторожненько.
– Тебя, пожалуй, и в старые времена было не удержать.
Уставилась нагловатыми темными глазами, пока я не почувствовал, как покраснели скулы. Усмехнулась, отвела взгляд. Ловко собрала рыбу. Взяла ведерко. Я перехватил, хотел помочь.
– Ни к чему, сил довольно. У нас тока Любаша хворая была. Слышала, ты спрашивал? Так было, поднимет тяжелое, аж задохнется. Я сподмогала.
– Жалко ее. Видно, хорошая была. Узнать бы, с кем она еще дружбу водила. Может, ты расскажешь? Или кто обидеть ее мог?
Устинья поставила ведерко, затянула платок.
– В Ряженом жадных-то псов, мужиков много. Може, кто и обидел.
– У Любы ребенок должен был родиться. Ты знала?
– А если и было. Дело-то нехитрое. – Она снова посмотрела мне прямо в глаза. – Но я за другими не слежу. А ты, верно, знаешь, от кого она в тягости была?
– Догадываюсь. Но хочу твердо узнать.
– Говорят, к девкам в Ряженом змей ходит. Да може, и так, – она поправила платочек, бросила на меня взгляд украдкой, искоса, – одиноким маетно. Пойду уже. Свекровь заругает.
* * *Уже у двери был слышен громкий баритон лодочника Данилы и мягкий, певучий голос его жены Марины. Пока мы были в станицах, он, разыскивая пропавшую скотину, угодил в яму. Земля в овраге осыпалась прямо под ногами. Серьезно расшибся, да еще и «пустая» нога его подвела, не чувствуя ею предметов, запнулся о камень, ботинок застрял в яме. Несколько часов не мог выбраться. Наконец его крики услышали, а когда вытаскивали, то сильнее повредили ногу. Из-за этого лодочник был вынужден лежать. Ругался, изводил жену и упорствовал, что яму вырыли нарочно.
– Кто же вырыл, по-вашему? Лежите. – Осмотрел его ссадины, которые Марина чисто и аккуратно промыла и приложила к ним корпию, щедро сдобренную карболкой, за неимением ничего другого.
– Загоится[50] само! Бугровщики чертовни окаянные. Камни это они нарочно! Рыли, да и бросили. Как снег сошел, так в округе копает кто-то, шарится. Узнаю, кто… Я!..
Кряхтя, непрестанно ругаясь, злясь на свою беспомощность и жалея пропавших овец, он рассказал, что в округе идут слухи, будто «ищут навроде что-то крупное, клад им опять блазнится».
Он и Марина упрашивали меня помочь собрать людей, чтобы разыскать овец, пришлось согласиться. Турщ отговорился занятостью – прямо накануне испортили лебедку, скрутили детали. Очередная порча имущества артели. Но дал милиционера и еще пару человек из местных. Неожиданно с нами вызвался пойти и фельдшер Рогинский.
Пропавших овец лодочника мы разыскали только к вечеру. На плоском берегу, укрытом рыжей вылинявшей прошлогодней травой с пятнами темной зелени, виднелись темные кучи, над которыми вились мухи и слепни. В небе кружили птицы. Вдалеке поблескивало займище, залитое водой. Фельдшер пнул одну из туш носком сапога, чтобы перевернуть. Остальные овцы, абсолютно здоровые на вид, отыскались неподалеку в овражке, тревожно и жалобно мекая. На месте, где Данила угодил в яму, я с трудом угадал в неровном каменном круге и кучке земли древний курган, едва не по пояс поросший чабрецом и пыреем. Неподалеку поднял втоптанную в землю помятую жестянку, завернутую в тряпку. В ней болтался комочек кукурузной муки. Милиционер тем временем устроил подводу. Он помог нам с Рогинским перетащить овец. Фельдшер удивил и поддержал меня, настояв на том, чтобы не бросать павших животных.
– Ведь может быть ящур… Падаль растащат…
На самом въезде в поселок маячила черная фигура – отец Магдарий. Вокруг уже собиралась толпа. Один из местных шепнул, что его позвали специально – падеж скота, мол, это небесная кара. Логичное продолжение красных вод и других бедствий. Я, однако, был склонен усматривать не божью десницу, а руку человека. Животных загнали в сарай, где они теснились, повернув ко мне почти человечьи бледные лица. Рогинский объяснил мне, что перед падежом у овец дергаются мышцы крупа. Они отказываются от корма. Пьют мало воды. Слюна становится пенистой. Ничего подобного не наблюдалось.
Рогинский тем временем готовился вскрыть падшее животное.
– А что такого? Человека мне не доверят, а тут я – пожалуйста. – Он быстро подготовил все нужное.
Аутопсия овцы. Такого в моей практике еще не было, но принцип понятен и очевиден. Слизистые оболочки ротовой и носовой полостей синюшные. Как и расширенные зрачки, это у всех млекопитающих – признаки отравления мышьяком. Наличие этого яда в организме хоть человека, хоть овцы можно подтвердить методом Марша. В известном деле французской полиции об отравлении с его помощью провели анализ волос. Они накапливают яд, значит, возьмем шерсть. Но метод Марша трудоемкий, займет несколько часов. А вот метод Шееле, шведского аптекаря, проще. Не примут на суде, но мне и не идти в суд. Суть метода сводилась к двум последовательным химическим реакциям. Они, а главное – появляющийся при выделении газа характерный чесночный запах – вполне наглядное доказательство присутствия мышьяка в пробе. Вот он, эксперимент-фокус, которого жаждал от меня Турщ. Теперь неплохо бы понять, откуда мышьяк взялся там, где паслись овцы. Выйдя в прихожую, я вытащил из кармана жестянку, которую подобрал на поле. Комок муки в жестянке был пропитан 10 %-ным растворомVert de Paris – парижской зеленью, что содержит мышьяк. Ее повсеместно используют против мышей, крыс и насекомых. Такую банку я видел в кладовке клуба. Падшие овцы, скорее всего, подъели муку с травы.
– Сильное средство, говорят, саранчу и порохом жгли, и вытаптывали, но зелень лучше всего берет, – заметил фельдшер, с интересом наблюдавший за моими манипуляциями. – И мы держим дома, от крыс-с. Конечно, с предосторожностями!
За всеми этими событиями чемоданом я смог заняться только поздним вечером. Решил, что оставлю его в комнате больницы, так надежнее. Здесь был шкаф с крепко запирающейся нижней дверцей, в нем хранили сильные средства. Наверху слышались голоса Рогинского и Анны. Я зажег еще одну лампу и открыл чемодан Рудиной. Поверхность сильно захватана. Сам чемодан почти пуст. Шарфик, брошюрки на тему новой жизни. Фотокарточки звезд кино. Среди брошюр томик стихов в ярком переплете. Отложил его в сторону. В обивке нашелся незатейливый тайник, вшитый карман. Оттуда я вытащил несколько исписанных чернильным карандашом листков, смятых, закапанных, в кляксах.
В чернильном карандаше используют закись железа с анилиновой краской. Чернила очень стойкие, жидкие и легко проникают внутрь бумаги. Проявятся равномерно, если смочить раствором танина. Достал сильную лупу на подставке – техническая новинка, удобно, руки свободны. Через пару часов возни удалось разобрать, что написано. Я потер лоб. Сравнил особенности почерка, угол наклона и силу нажима с надписью на форзаце одной из книг в чемодане, сделанной Любиной рукой. Любовь Рудина писала, очевидно, жалобу краевому начальству. На отца ребенка. Имени в тексте не было, я разобрал «отговаривается препятствиями между нами», «пускай не хочет записаться со мной, но ребенка должен признать», «не желает», «решение вопроса в утвердительном смысле».
Закончив, отложил личные вещицы. Их можно, пожалуй, вернуть родителям. Поколебавшись, личные вещи Любы я сунул в карман и прихватил с собой, чтобы передать Турщу – пусть отправит кого-нибудь в станицу.
Удалось зайти к нему уже поздним утром, на следующий день. Солнце быстро нагревало землю, от воды поднималось марево. За силуэтом приземистой мельницы чайки расхаживали на черном поле. В селе меня, казалось, уже хорошо знали, и каждый встречный здоровался запросто. Турщ занимал небольшую хату с широким крыльцом. Комната в два окна с диваном и столом оказалась причудливо обставленной, но для жилища холостяка довольно опрятной. Столешница и солидные ножки стола служили, очевидно, для упражнений в дни скуки: все изрезаны сабельными ударами. На столе вперемешку газеты, книги, бумаги. И тут же граммофон и – чудо – все целые пластинки, есть и заграничные, сложены стопкой. Одно окно в плюшевых шторах, второе голое. В углу приткнули полированную вешалку, на ней серая барашковая папаха, брезентовое пальто, еще вещи. Самые простые стулья и лампа бронзовая, абажур цветного стекла. Диван деревянный, отполированный задами посетителей, как в присутственном месте.
– Я не сплю на мягком. Тифозных навидался. Мелкая дрянь эта матрасы любит. Или стулья, если конским волосом набитые. – Турщ убрал с дивана шерстяной плед. – Ничтожное насекомое, а запросто с ним жизни лишиться. Ну, что там в чемодане?
Я отдал вещицы, отговорился, что нашел записку, но испорченную.
– А что в записке, узнали?
– Вы мне и скажите.
– С какой это стати? Почерк, что ли, мой? – Он порылся, сунул мне исписанный лист – «сравни». – А, впрочем, могла быть у нее моя записка. Я давал поручения часто.
– Вы подумайте вот о чем: если у вас была связь, то, выходит, затея с транспарантом – плевок не власти, а вам. Личный мотив.
– Это фельдшер вам навешал? Вы не ту компанию себе выбрали. Из них один планирует бежать, знали?
– Псеков? Почему же бежать. Он ждет официальные бумаги. От бывшего владельца завода, надеется на них вполне твердо.
– Твердо, – Турщ постучал пальцем по столешнице, – ничего тут нет твердого, земля под ногами плывет. Рогинский ваш, думаете, зазря языком мелет? Брошюры по гигиене он лично Любе приносил, будто это такая уж тяжесть. Да все под вечер.
Поднявшись, он взял сверток с вещами Рудиной, сунул в тумбу у окна. Быстро навел порядок на столе. Отодвинув штору, снял с подоконника рюмки, достал вилки с вензелем. Настроение у него снова переменилось. Еще с утра он был зол, отстранен, затянут, откусывал слова, белки глаз совсем желтые. Сейчас говорил охотно, ни дать ни взять гостеприимный хозяин встретил нежданного, но вполне приятного гостя. Некоторое объяснение нашлось. Выйдя, он вернулся с круглой бутылкой. Щелкнул ее по боку, выставляя на стол.
– Ого! – Желтая с черной вязью заграничная этикетка, мадера, сорт Tinta Negra. – Хорошее вино.
Неужто контрабандное? Выходит, одной рукой сажаем, а другой берем?
– Подарок Гросса, руководителя партии краеведов. Поспособствовал им с местным населением. А ведь форменная буча была! Народ собрался и с попом Магдарием. Крики, рекламации.
Он откупорил бутылку.
– Мало мне головной боли с нападениями на артель и прочим! Еле угомонили. Вот Гросс выразил благодарность. К слову, о попе Магдарии. Ловок шельмец, не ухватишь, но и с ним будет поставлен вопрос. Он уже говорил вам, верно, о «чудесной иконе»? Перетаскивает население в ложное болото. Мы готовим празднование Первомая. Маевка выпадает на Пасху, опять стоит ожидать беспорядков.
Довольно скоро глаза Турща заблестели. Плечи опустились. Сидя у стола, он перебирал пластинки.
– Эта выходка с телом Любы Рудиной сильно качнула людей к церкви, а нам это, сами понимаете, не с руки. Вся эта чертовщина.
Занятый мыслью о записке в чемодане, я ответил рассеянно, что черт как раз наоборот, враг церкви.
– Вы все понимаете прекрасно! – Турщ разошелся. – Религиозный туман есть продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Религия – дурманящий опиум для населения.
– Скажу вам как врач, действие опиума еще и в облегчении боли. Допустим, религию вы изживете, а взамен дадите нового «бога» – революцию и ее вождей?
Зачем я его дразнил? Все моя вспыльчивость! Но Турщ, окончательно придя в самое благодушное настроение, ответил неожиданно спокойно:
– Дадим! И посильнее, чем старый! Для этого нужно только подготовить почву. Вот вам, как ученому, поле для научного эксперимента. Развенчание «чуда иконы». Магдарий наш утверждает, что после обновления образ в его церкви мироточит.
– А что, на самом деле не мироточит?
– А если бы и так? Допустим, есть на рисунке некоторые следы. Да тут земля такая гнилая, что, если взяться, столько чудес накопаешь!
«Разоблачать чудеса» да и вообще обижать отца Магдария мне категорически не хотелось.
– Не ожидал, что здесь, далеко от города, жизнь так кипит. Ряженое – чу́дное место, вы правы. А что же за события, о которых все говорят?
– Нападения на артель. Они бывали и раньше, но так, без огонька. А теперь черти с рогами. – Турщ вроде бы принял поворот в разговоре. – Может, хари сажей намазали, а народ всерьез испуган.
– Черти, значит, новинка?
– Началось с месяц назад, нет, раньше, может, тому месяца два. Нет сомнений, что бандиты местные, уж больно ловко от нас уходят. Знают тут все тропинки, а где-то и норы. И, главное, артельщики еще и покрывают их!
– Любопытно. Я бы осмотрелся тут подробнее. Возле Гадючьего кута и в целом. Карта неточна в разлив, местные лучше знают. Выделите мне сопровождающего. – Я добавил, что, мол, в кабинете ростовской милиции мне обещали содействие.