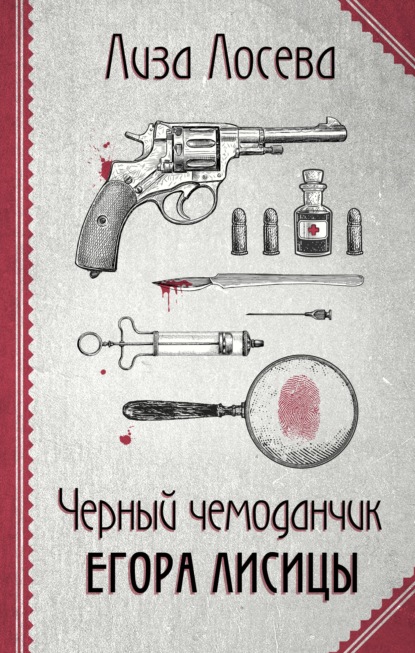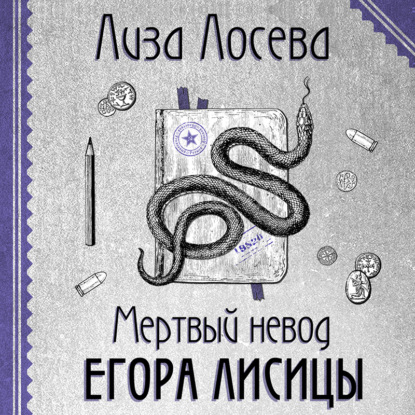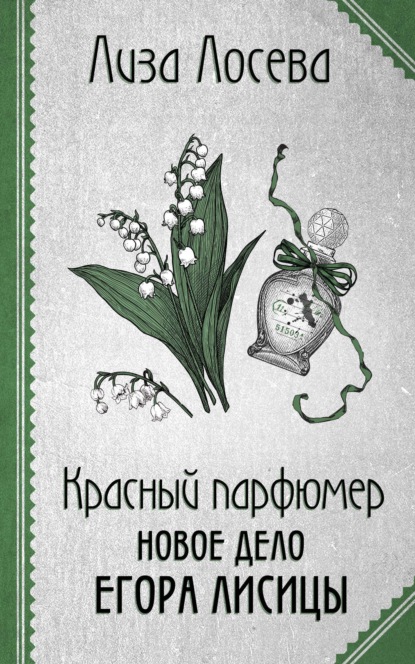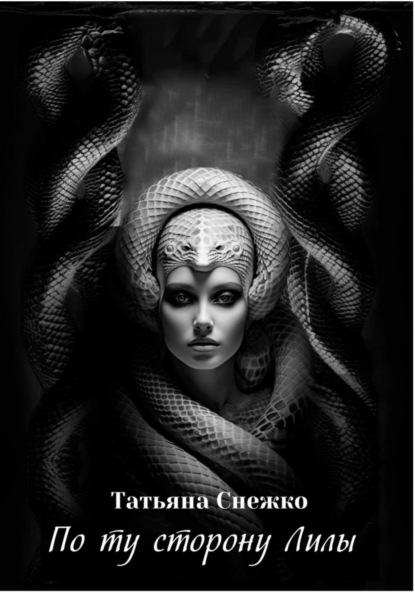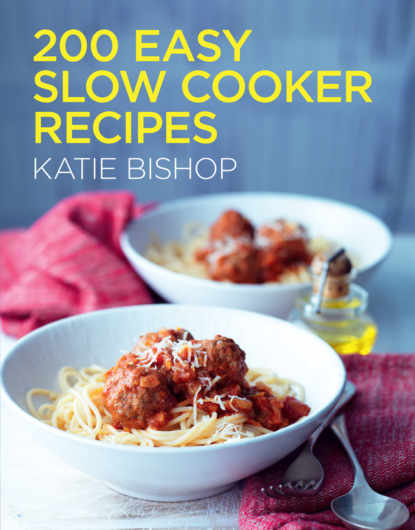Мертвый невод Егора Лисицы
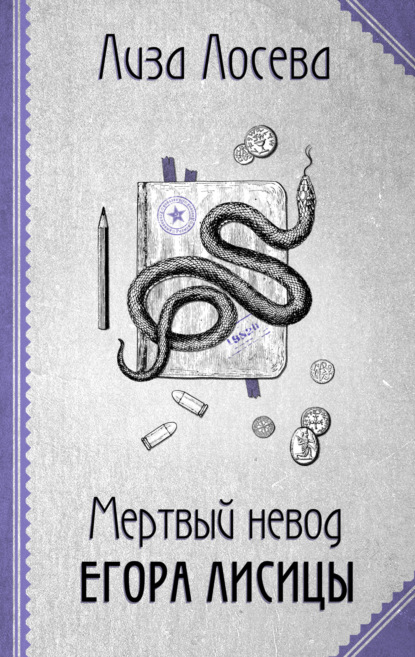
- -
- 100%
- +
Турщ ухмыльнулся, снова разлил мадеру.
– Несомненно! Поможем. А вы, в рамках ответной помощи, проведете лекцию о ложном чуде. Насчет иконы. Товарищи из ячейки выступят с речами. Следом вы.
– Что же я должен сказать? – Снова он о своем! Пристал как сапожный клей.
– Обрисуете вопрос в целом. В печати сейчас клеймят такие явления, думаю, слова найдете. Представите, положим, в противовес религиозному научное чудо! Эксперимент. Как может из двух разных жидкостей получиться красная, или в этом духе.
– Я вызван в Ряженое с другой целью. Опыта выступлений перед публикой у меня мало. Допущу ошибку, не сумею пояснить авторитетно, слушатели решат, что я не уверен в общей позиции. Могу обмишулиться, сорвать мероприятие. К тому же, боюсь, ни эксперимента, ни убедительного фокуса не смогу показать. Не химик.
– Ну-ну. – Турщ прищелкнул языком, со звоном сдвинул посуду. – Однако я, товарищ, удивляюсь вашей несознательности. – Он смотрел на меня в упор, пустыми, как дуло маузера, глазами.
Я неопределенно пожал плечами. Турщ махнул рюмку, резко поднялся.
– Пойдемте. Я вам покажу чудо получше церковных! – Он схватил с вешалки шапку.
Турщ привел меня на небольшое поле на окраине. Здесь стояли коровники, а за ними тянулась земля, еще не съеденная водой. «Трактор в поле конец божьей воли», – лаконично сообщал плакат на двери в здание коровника.
– У нас своя – красная обрядовость! – сказал Турщ, скрываясь внутри, и оттуда донеслось: – Вот, запустим демонстрацию на маевке!
Через несколько минут послышалось тарахтенье мотора. Коробка как у авто и несоразмерно крупные колеса. За рулем сидел Турщ.
– Кинут клич на индустриализацию страны. И вот – получили передовую машину, – объявил он, заглушив мотор и вылезая. – Трактор и семена привезли американцы[51]. Был и их агроном, и механизатор.
Он провел рукой по колесу.
– Понимают в технике, хотя и граждане из капиталистической страны, отсталой политически. Местные встретили машину, конечно, недоверчиво. Но ведь зверь. Сила! Увидят всю полезность трактора. Будем обучать обращению! Вырастим своих специалистов. Будет и артель, и колхозная коммуна. Впечатляет?
– Несомненно.
– Сами убедились. Мы наступаем прогрессом на деревню. А кто не принимает нашу тактику, тот… – Турщ не закончил фразу, потянулся, нажал на клаксон. Гудок распугал домашнюю птицу. В стойле замычали коровы. – Так что же, согласны на лекцию?
– Мои резоны вы слышали.
– Тогда, выходит, и дела у вас тут больше нет? Родителей Рудиной мы расспросили, сено у колонистов разворошили, чего еще? Разлив, конечно, силен. Но ветер стихает. В ближайшие дни устрою вам лодку. А там до города на перекладных.
Ругая себя на чем свет стоит за то, что не сумел сыграть в поддавки насчет лекции, я ответил, что благодарю, но не стоит беспокоиться.
– Остаетесь, значит. – Турщ раздражен, потирает шею, трогает кобуру. Готов всерьез вспыхнуть. Но вряд ли, конечно, краевое начальство обрадуется, если мы начистим друг другу рожу – мордобой не то, чего ждет краевое начальство от сотрудничества с местной милицией.
– Остаюсь. Места здесь красивые.
* * *Я решил, что потрачу день на тщательный по возможности осмотр округи. Но, пожалуй, успею еще побывать на почте. Предлог выбрал формальный – узнать, могу ли отправить в город отчет, дать знать о том, что придется задержаться. Потеплело, и Ряженое утонуло в тумане. Дом, где находилась почтовая контора, я разыскал в конце недлинного тупика за выпуклым, как самовар, боком кирпичного здания. Пару раз, сбиваясь в мути тумана, уточнял у местных, верно ли иду, и те, ответив, уже не шли по своим делам, а смотрели мне вслед.
Медь круглой ручки двери почтовой конторы была вся в зеленых пятнах, давно не чищена. Крыльцо с козырьком. Темные пустые окна. Сначала показалось, что никого нет. Когда зашел, Астраданцев, не поднимая головы из-за стойки, негромко бросил:
– Я вам оставил, как просили.
Но, увидев меня, замялся и стал оправдываться:
– Прошу простить, я спутал. Принял вас за другого. В этой «винцераде[52]», – он показал на мой макинтош, – все фигуры похожи. Прошу, располагайтесь, я сейчас.
Он вытащил из-под стойки пару свертков и быстро нырнул в неприметную боковую дверь. Пахло нагретым сургучом, пылью и бумагой. Неглубокие полки-ячейки большей частью пустые, из одной торчит куль из рогожи, в углу отполированный шкаф темного дерева. Я раздумывал, что помощи от Турща, скорее всего, совсем не будет, но это и к лучшему. Разберусь сам. От скуки принялся листать у стойки старую лохматую подшивку «Нивы» со страницами не по порядку. На минуту невольно увлекся главой «Тайны Мари Роже». К слову, сыщик Дюпен, выдуманный американцем По, всю информацию получает из газетных заметок, которые тщательно изучает.
– Простите, задержал вас. Так зачем вы пришли?
Я не сразу заметил, что Астраданцев вернулся за стойку. Поинтересовался у него газетами, которые привезли с последней машиной из города.
– Ах, вы почитать? – он зашарил по дереву. Сдвинул твердые желтые открытки в сторону. Подровнял стопку бумаги. – Газеты найдутся, сейчас принесу. Есть подшивки о сельской жизни, журналы по ветеринарии. «Ниву» выдать не могу, ее читают здесь.
Он снова скрылся в подсобке. Я продолжал осматриваться. Плакатик ВЦСПО[53]: «Кооперация помогает людям стать братьями!» Реклама шпорного магазина, владельца наверняка давно и на свете нет, уж на этом, советском, точно. Приподнял верхний лист писчей бумаги – приметная. Старая, с рыбзавода, штемпельный оттиск. В деревянном ящике конверты для писем. Поддел на одном марку осторожно ногтем, легко отошла.
Астраданцев притащил газеты. И впрямь старые. Извинился: «Дела, рутина почтового служащего». Полез на полки, перебирая мешки и бумаги, то и дело что-то роняя. Такая нервозность – результат нечистой совести или просто истерический тип, как говорил фельдшер?
Стараясь не упускать его из поля зрения, я скосил глаза на новости о прибытии из Англии станков для производства лампочек накаливания. Какой-то крестьянин взялся вышивать конским волосом по шелку, вышил полотно «Взятие Зимнего дворца» и теперь вышивает голову Ленина, обе работы предназначены для выставки в Америке. Я представил себе американцев, ошарашенных шитым густым волосом лицом вождя, и расхохотался. На звук моего смеха Астраданцев оторвался от бумажек.
– Если вы печатным словом всерьез интересуетесь, посетите местный клуб, читальню, – сказал он, – Здесь могу предложить свежие чернила, грифельные карандаши. Редко бывают.
– Мне нужно переправить в город несколько писем. Дать знать, что задерживаюсь у вас. По некоторым обстоятельствам.
– По каким же некоторым? – Астраданцев не спеша складывал газеты.
– Например, по погодным. Так что же, машины долго не будет?
Он еще раз поправил края пачки конвертов.
– Дорога здесь одна. Раз вам не уехать, так и письму не уйти. Уезд у нас небольшой, отдален от центра. Для сборов корреспонденции регулярно объезд по соседним станицам делаем. Как наберется приличное количество, уж тогда отправляем в город. Если вам нужно отправить сейчас письмо, проще самому и отвезти.
– А если экстренно что случится?
– И случится, не сомневайтесь. Но тут что поделать. И роженицы терпят, если, к примеру, выходит сложный случай и нужен городской врач.
Он отвел взгляд, снял очки в стальной оправе, посмотрел на просвет, протер стекла. Круглое лицо, безвольный подбородок, тонкие губы, покатые плечи, серый и бесформенный, как мешки вокруг. Мира опасается, хоть и пытается крутиться. Трусоват. Понимая, что он сейчас либо снова сбежит, либо замкнется, я нарочно заговорил быстро и погромче, чуть отступив от стойки к двери, перегораживая дорогу:
– Пока вы были заняты, я тут присмотрелся к конвертам, маркам. Заметил следы желатина…
Жульничество с марками было мне знакомо еще по старым делам с полицией. В мелких уездах действительно ездили по станицам и селам, собирая письма. Марки везли с собой. Продавали за наличные деньги. Астраданцев продавал одну марку несколько раз. Способ простой. Смазывал марки сверху эмульсией желатина или белка и в таком виде наклеивал, ставил почтовый штемпель. После штемпель, приложенный к эмульсии, легко смывался простой водой. И вот – на руках чистая марка. Конечно, письма таким образом «терялись». Но кто узнает? А если и узнают, что не дошло, так отправят снова. Шельмовство на копейку, однако на папиросы, глядишь, и набегает.
– Какие марки, помилуйте! Откуда. Что за метафизика, – он замахал, чтобы я отошел от двери, – и что вы так громко, тише!
– На таком деле можно иметь приятную, пусть небольшую сумму. И абсолютно не метафизическую, – сказал я и продолжил: – Но мы же с вами не враги, а скорее приятели. Так славно посидели у Аркадия Петровича. Да и не мое это, в сущности, дело. Так и вы уж, по-приятельски, подскажите. Казалось бы, штука простая, вот как эта самая марка, а никак не добиться ответов, какие здесь отношения связывали Рудину.
– Да ведь же ву ассир[54], сказать нечего! Пожалуй, разве что вот Аркадий Петрович не упомянул, запамятовал, Любовь собиралась к ним. Как раз накануне.
– Собиралась или зашла?
– Твердо могу сказать одно: собиралась. Столкнулись на улице. Я предложил зайти в почтовую контору, выпить воды. Ей нехорошо было. Но она отказалась. Сказала, спросит совета в больнице.
– А мелкие подарки Рудиной, признайтесь, вы делали?
– Откуда эта мысль? Намеки на обеде? – прищурился. – Зачем же вы делаете так далеко идущие выводы?
– А вы сами как далеко зашли?
– У меня не так много свободных средств. Да и зачем бы мне подарки делать!
– Например, затем, что она ждала вашего ребенка? От которого вы убедили ее избавиться. В городе, о чем вы вряд ли знаете, ведут записи в абортных комиссиях. Рано или поздно я доберусь до Ростова, сделаю запрос.
Он откликнулся неожиданно абсолютно равнодушно:
– Узнавайте.
И явно успокоившись, продолжил:
– Не отрицаю, я ей сочувствовал. Молодая, красивая женщина, характер взрывной, не уступит и мужчине, и все же слабый пол. Попала в ловушку новых свободных нравов. Кто бы рискнул взять ее за себя замуж? А ей, как и всем барышням, нужно плечо.
Он приподнял покатые плечи.
– Так и женились бы, чтобы спасти, – я поддержал его тон.
– Зачем? Как личность – я по своему типу одиночка, не желаю быть связанным узами.
Ясно, предлагал, но она отказала. За такого пойти не с ее характером.
Астраданцев уже держался свободнее. Облокотился о стойку, нагнулся.
– Вы за ужином упомянули…
Он не дал мне закончить:
– Сказал из личной неприязни. Исключительно. Признаюсь! Ничто человеческое, как говорится… – Он широко развел руки, показывая, что не чужд слабости. Демонстративно принялся перекладывать предметы на стойке.
– А что вы делали тем вечером, когда Люба Рудина пропала? – спросил я.
– Я, вспомнить бы… Прошелся в лавку, были надобности. Да! И, кстати, вечером же я видал Нахимана, беседовал с нашим комиссаром. Я удивился, помнится. Бродский потом пошел в сторону оврагов. Думал его окликнуть, пройтись вместе. Но он ходит слишком быстро.
На ловца и зверь! У пристани о чем-то говорили Бродский и фельдшер. Рогинский придерживал шляпу от ветра, отмахивался от слов. Мне показалось, они спорят. Бродский заметил меня, махнул. Я подошел к ним. Мостки гнулись, волны накрыли уже большую их часть, вскипали между досок.
– Ждете письма? – Рогинский ткнул тростью в сторону почты.
– Наоборот, подумывал кое-что от-править. Но дорога окончательно непроезжая.
Фельдшер нажимал палкой на доски, стряхивал воду. Подхватил меня за локоть, потянул, Нахиман уж шел впереди.
– Аркадий Петрович, хотел кстати спросить, Люба Рудина ведь была у вас накануне поездки в город?
– Для чего же ей быть? Не было. Мы весь день провели дома, копались в саду, я говорил. Аня вечером, каюсь, откупорила наливку. Нигде не растет такая вишня, как здесь! А вишневая (он ударял на «и») наливка моя любимая. – Он засмеялся. – Вы спутали.
Он быстрее шагнул вперед. Я, чуть поскользнувшись на мокрых досках, был вынужден придержаться, схватив его за плечо.
– Аккуратнее! Вода-то здесь глубоковата для вас, Егор Алексеевич.
– Боитесь, утону?
– Тьфу на вас, и говорить-то такое бросьте! Типун вам, вот я по дереву постучу.
Он постучал ногтем по трости. Снял картуз, отер лоб.
– Прошу простить, но зачем вы постоянно скоморошничаете? С Турщем, допустим, понятно. А со мной? Я пока не враг.
Посмотрел, пожевал губами, замахал за моей головой Бродскому:
– Идем, идем к вам!
* * *Нахиман Бродский предложил пройтись вместе до спуска к оврагу и, как сам сказал, «сделать вам рекогносцировку, как тут у нас ландшафт устроен». Добавил, что хорошо знает округу. Я не отказался. Сразу получилось перейти на почти дружеский тон. Нахиман –бывший служащий канцелярии завода, теперь работалделопроизводителем заготовительной конторы. Удачный случай расспросить его о делах артели. Мы прошлись немного вдоль берега. На ветках яблонь набухли темные плотные почки. Ветер сминал крылья чаек.
– Пострадали в пожаре? – я кивнул в сторону почерневших стен с обгоревшими провалами вместо дверей, торчащих на краю, как гнилые зубы. – А что же не отстроят?
Нахиман помолчал, рассматривая развалины.
– Вам разве товарищ Турщ не говорил о перегибах? Он любит это словцо. Перегнули. Было дело.
– Вот, кстати, о Турще. Признаю, характер! Со скрипом идет на контакт, а ведь я прислан как раз чтобы оказать со-действие. Однако работа наша не строится. Раз уж вы хорошо его знаете, посоветуйте: как бы мне найти к нему подход? – я старался говорить как можно простодушнее.
– Я? Помилуйте! Откуда у меня с таким, как он, близкое знакомство? Он здесь власть. Да и все.
– Странно… Астраданцев упомянул, что вы с Турщем вполне по-приятельски беседуете. Даже прогуливаетесь.
– Не советую его слушать!
Неожиданно резко высказался, что Астраданцев, мол, «офранцузился» в ранней молодости – то есть подцепил венерическое заболевание. Принимал множество порошков. Да и в выпивке не слишком воздержан. Но потом, как будто пожалев о своих словах, приостановился:
– Видите, у края мыса темная полоса? Это шторм. Заходит с той стороны. – И продолжил: – Впрочем, я зря напал на Астраданцева. В сущности, он безобиден, хоть и глуп. Напутал, а может, и приврал. Мог от страха – нервная натура! – наговорить того, чего и не было.
– А не было?
– Я не припомню. Но… – Бродский насмешливо фыркнул, – вы же не отвяжетесь? Я раскусил вас. Этакий вы тип: где нельзя перескочить, там перелезете.
Немного прошлись в молчании.
– Не вспомню, в какой день, но я действительно говорил с ним. Убеждал его оставить в покое Магдария, не ярить зря местных разоблачением чудесной иконы. Я люблю спорт, как говорят англичане, пешие прогулки. Как доктор, вы должны одобрить. Гуляю вечерами, вот и столкнулся.
– Как доктор, одобряю, а как представитель уголовной милиции, интересуюсь: до которого часа гуляли?
Нахиман потер нос, комично поднял брови:
– Не запасся алиби! Хотя постойте. Мертвецова жена, Петра Красули, спрашивала, нужно ли мне молоко. Встретился с ней уж на обратном пути. У нее учет, строго. На бумажке, правда, сам черт не прочтет, но она-то великолепно свою писанину разбирает, подтвердит мои слова.
Мы миновали пустырь и вышли к зданиям рыбокоптильного завода. Он напоминал конюшню: приземистое здание четырехугольной формы, снаружи бочки, садки, осмоленный и вкопанный в землю чан. Нахиман пояснил, что это бут, чтобы держать рыбу.
– Я уже говорил вам, Егор: интрижек не делаю. – Он свернул к белым крашеным высоким дверям корпусов, помедлил. – Девушку жаль. Но, поверьте, не имел касательства. В клуб я не хожу. Брошюры о гигиене, сами понимаете, мною не востребованы, руки мою без напоминаний – маменька приучила. – Он кривовато улыбнулся.
У вытянутого, утыканного жердями навеса остановились.
– К тому же Рудина – прошу простить, что говорю в подобном ключе о даме, да еще и покойной, однако вынужден. Так вот, она была, конечно, хороша собой. Но я, поверьте, не очаровываюсь этим типажом – гражданки новой формации.
Нахиман доверительно, словно признаваясь в пороке, высказался в том духе, что уважает в барышне шарм, умение исполнить романс да «шелковые чулки». А прокламации и красные косынки – это не для него. По его же словам, он собирался после зимних праздников перебраться в город, не было смысла и связываться здесь. Если Нахиман складно врет, то девушка была бы ему обузой. Но раз она избавилась от ребенка, то, выходит, для любовника, кто бы он ни был, все сложилось удачно?
С мертвого белого ствола тополя при нашем приближении с гомоном поднялись птицы. Неподалеку торчали жерди коптильни. Пахло гарью, опилки еще дымились. Под навесом устроены солила. Рядом свернуты пустые мешки из-под соли, клейма еще старого хозяина.
– Вот, чтобы черную икру заготовлять правильно, то соли класть надо так, чтобы яйцо всплыло, – говорил Нахиман, обходя солила. – Да не просто всплыло, а на размер пятака. Местные хозяйки «вершки», корку икры из открытой бочки, дают на корм домашней птице. Лучше растет. Ох и люблю я, когда икра только что взята! С пробоями[55] хорошо яичницы нажарить. Или другое – сейчас редкость – балык из «холостого» осетра, не икряного, он более жирный. Обязательно попробуйте, если доведется.
Мы обошли широкую яму, где раньше рыбу ценных пород хранили живой до заморозков.
– Был и холодильник пудов тысяч на пять, с машинным охлаждением. Сейчас вышел из строя. Часть улова продавали, остальное перерабатывали. Осетрину, белужатину, селедку «в залом» – знаете, как это? – Он согнул руку и показал. – Мера – мужская рука до локтя.
Нахиман отпер двери, приглашающе махнул рукой. Пока он говорил, я осматривал сети, крюки, топорики – «салковнички».
– Ну, завод, конечно, реквизирован давно. Это вы знаете. Тут ведь в словах вся соль, – походя он пнул кучу мешков. – Так, выходит, отобрали, а реквизиция – звучит солидно.Теперь работает всего один цех.
–Да ведь работу завода наладят со временем?
Бродский отозвался равнодушно:
–Возможно. В селах выше по Дону добывают уголь и соль. А здесь рыба, раки… Особеннорачий жир помогает. Слыхали про целебное «раковое масло»? На Москве, говорят, оно шибко дорого. Рыбаки тут в нескольких поколениях.
Впереди мелькнул готически острый шпиль клуба «Красный штурм». Усадьба бывшего хозяина, пояснил Нахиман.
–Я уже побывал там.
–Когда власть окончательно здесь переменилась, его да тех, кто был в усадьбе, вытащили и убили.
– Черт, Нахиман, вы, что ли, нарочно? Ведь вы сами слышали и подтверждали тогда, у фельдшера вечером, что владелец давно в Неаполе! А Псеков меня уверял, что ждет от него документы.
– Может, и так. Псекову лучше знать… В общем, погром. Рысистых лошадей взялись было запрягать в телеги, чтобы вывезти мебель, посуду. Но кони не давались, бились. Потоптали людей. Служащие разбежались. Я сам дня три просидел под сараем за коптильней, пропитался насквозь рыбьим духом – думал, не отмоюсь.
– А как же теперь вы в артели?
– А что? Я в любые сапоги втаптываюсь. А здешние позлились, да и успокоились. Теперь мы в одной лодке.
– Но ведь какой силы была ненависть? Если от ее пара «сорвало крышку», были, очевидно, у них причины?
– А мне думается, просто дали себе волю. Человек ведь – любого звания и воспитания – сдерживаем только внешне. Обществом или страхом наказания. Если поймешь, что вот дашь себе полную волю и ничего-то не будет, а еще и другие тебя поддержат, устоишь ли?
– А в станицах?
– То казаки. Они иначе живут.
– Турщ жаловался на местных рыбаков, – я решил переменить тему. – Не может выследить, кто из них участвует в контрабанде вдоль побережья и в порту.
– Еще бы! Он-то, конечно, пыжится. Но ему ни в жизнь не сыскать. Заметили, как тут селятся? У самой воды. – Он указал на линию домиков. – Рогинский вам наговорит романной чуши – мол, не иначе итальянская Венеция. На деле с практической сметкой: можно ловить осторожно, едва не с крыльца. Вот тут сверните – пройдем коротким путем, оврагом.
Мы принялись спускаться. Песок, куртины молодой травы.
– И браконьерство в этих местах привычное занятие, – продолжил Бродский. – Из взрослых мужиков нет такого, кто под судом на тайный промысел не ходил. По большей части до 17-го года рыбу разрешено было ловить только казакам. Они давали ее селянам на переработку. И берег они патрулировали с ружьями, могли стрельнуть. Да и теперь активисты Общества рыболовов-любителей жалуются на то, что казаки их ловят и бьют, говоря при этом, что «революция сама по себе, а рыба все равно наша».
– Брошенный маяк – не замечали, там свет бывает? Может, там их лодки.
Бродский остановился. Сломал веточку, покрутил.
– Никак не пойдут листья – нет тепла. Да вон уже и тропинка, куда вам нужно. Там свернете.
Ориентироваться в камышах и балках было непросто. Я напомнил себе того самого гуся, который бредет по кругу на картонном поле. И не туда, куда ему надо или хочется. А туда, куда укажет случайная воля брошенных костей. Ладно, увернемся, не дадим себя «зажарить и съесть». Пробираясь по тропинке, оскальзываясь, хватаясь за низкий кустарник и чертыхаясь, я подумал, что для того, чтобы тут пройти, да еще и со свертком, пусть небольшим, легким, нужна определенная сноровка. И отличное знание местности. Припоминая слова девушки-колонистки и кое-какие указания местного милиционера, я наконец разыскал местами заболоченную колею в овраге.
Она шла почти все время вдоль ерика, и на полпути я заметил место, где ветки на деревьях были сломаны. Древесина на сломах яркая, щепки не успели засохнуть. Запутавшийся в колючках терна клок длинных темных волос, который я снял пинцетом, окончательно убедил меня – место то самое. Я снова осмотрелся: берег отсюда далеко. Если тело вывезли на лодке и утопили, как я думал, то пришлось тащить через весь овраг и низкорослый, но колючий кустарник.
Пока я петлял между зарослями, услышал свист, что не спутать, – выстрел. Пригнулся, переждал. Ничего, только вдалеке шум моря. На согнутом тополе содрана кора, я достал складной нож, подковырнул, вытащил дробинки. Через десяток метров в траве валялся бумажный пыж. На сырой мягкой земле отлично сохранились следы. Они вели к еле различимой тропинке. У широкой канавы заметен отпечаток толчка и приземления – человек молодой, сильный, преодолел препятствие одним прыжком. Равномерный шаг с четким оттиском каблука, так обычно ходят охотники. Вскоре он сменился, шаг стал шире, а след носка обуви глубже – человек перешел на бег. Я тоже побежал, но, выскочив на берег, увидел, что он совершенно пуст. Вдалеке, вдоль берега, я различил точки баркасов, байд и лодок.
Неровный берег то выступал в море, то отходил назад. Пробираясь по песку, за одним из выступов я наткнулся на Нахимана. Он говорил с кем-то, и когда я подошел ближе, то узнал бабку Терпилиху. Из-под мышки у Терпилихи торчал узел; пробормотав: «Травы бра́ла, корешки», – она зашагала в сторону, отряхивая подол.
– Какими это судьбами вы очутились здесь? – спросил Нахиман.
– А где это – здесь? – Я рассматривал его ботинки.
– Да вот же, – он указал на Ряженое, что оказалось за спиной, и лодочные сараи артели, что были совсем рядом.
Выходит, я почти обогнул мыс.
– У вас встрепанный вид. Как ваша охота за уликами? Увенчалась успехом?
– А вы здесь зачем?
– Должен присутствовать при учете рыбы. Пойдемте, сами посмотрите, что да как. Надо бы поторопиться, ветер к нам.
Мы вышли к берегу с невысокими глинистыми склонами. Поодаль виднелись лодки, вокруг которых суетились рыбаки: явно приближался шторм. Некоторое время мы шли молча.
– Местные рыбаки и раньше ловили сообща. Теперь же над уловом надзирают. Сельский комитет и наш «комиссар». – Бродский на ходу повернулся ко мне, будто и не прерывался начатый у корпусов завода разговор. – Вот местные рыбаки и стали объединяться в артели.
– Не знал, что и дела рыбы его касаются.
– Он тут власть. Вот вам, если хотите, пример того, как с ним договариваться. За невыполнение плана по ловле рыбы Турщ вызвал, было дело, к себе артельного бригадира. Сказал, что пришел приказ расстрелять его. Дал ему наган да и велел стреляться самому. Тот и упирался, и божился, и плакал, но Турщ пригрозил. Несчастный бригадир этот боек-то спустил, а наган разряжен! Оказалось, фарс, шутка. Парень из чувств и вышел. После в горячке лежал, оклемался не сразу.
Бродский помолчал, вытряхивая песок из ботинка.
– Правда, сейчас товарища Турща окоротили. В некотором смысле. Но планы по заготовке рыбы все же зверские.