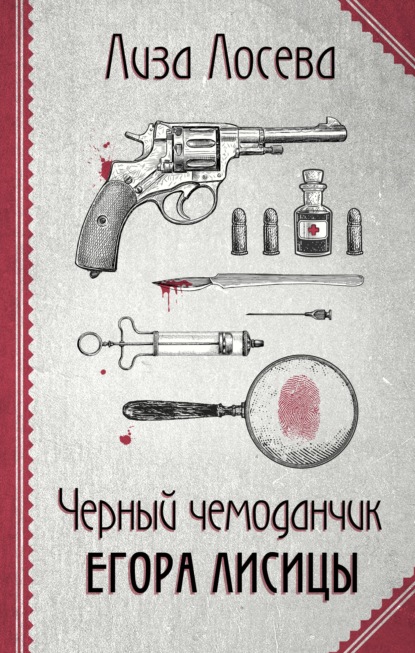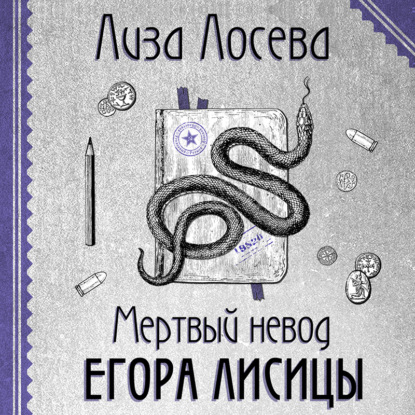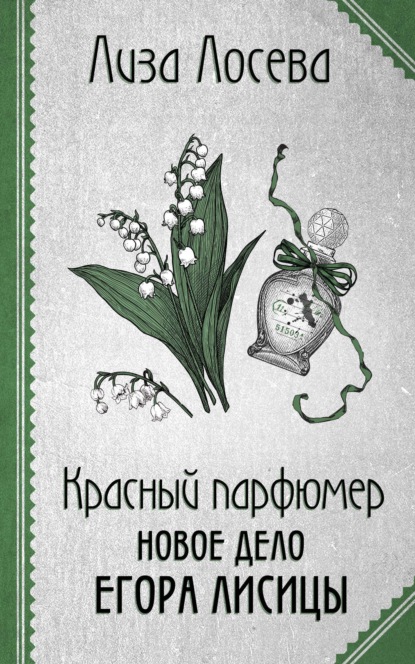Мертвый невод Егора Лисицы
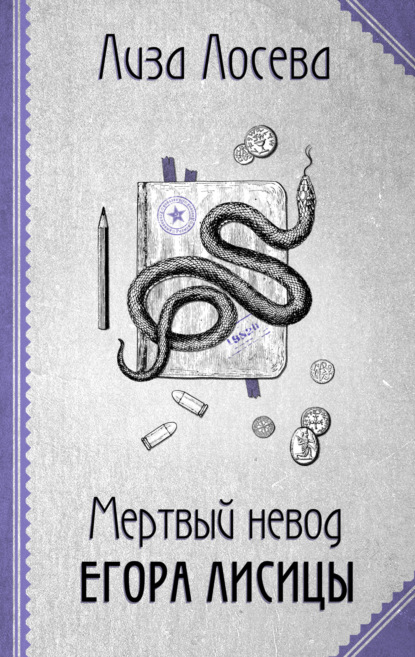
- -
- 100%
- +
Он объяснил, что ловят теперь даже когда лед встанет, растапливая кострами полыньи. Берут все, что плавает. Бывает, дельфинов. К счастью для последних, они сюда редко заходят.
Рыбаки, говорил Нахиман, выходят в море на рассвете под надзором членов правления (комитета). Улов сдают в контрольном пункте. На артельном питании особо не зажируешь. Так что бывает, рыбак прихватывает рыбу из общего улова – ворует, выходит, у себя же. Часто на берегу артельщиков обыскивают. Так те ухитряются срезать «отхапы» – это кусочки филе рыбы, пояснил Бродский, – и так вынести их, спрятав за щекой.
Точки на берегу выросли – широкие, выше роста, доски красного и черного цветов. Я остановился. На досках были записаны фамилии рыбаков и бригады. На черной – отстающие, на красной – выполняющие план. Чуть в стороне на берегу сидели двое товарищей из «смотрящих». Проходивший мимо рыбак, таща за собой сети, глянул на меня и бросил:
– Вы бы шли отседова. Ветер!
Тягучий «багмут», ветер, который дул все дни до этого, накануне вдруг поменялся, и теперь порывы только усиливались. Море отступило так, что дно обнажилось едва не до горизонта, став песчаной пустыней, – кромки воды не было видно на десятки метров вперед. Артельщики, погоняя быков,торопливо тянули из воды длинную сеть-волокушу.Резкие окрики тонули в свисте ветра. Внезапно стемнело, встали тучи, сквозь них изредка смотрело резкое тревожное солнце. Крики сделались громче – ветер вдруг понес всю массу воды к берегу. Нагонные волны цвета темного пива с ревом ударили в песок, в воздухе закружила водяная пыль. Один из артельщиков бросил волокушу, сел на землю, схватился за голову. Его оттолкнули, подхватили сеть.
Вой ветра перекрыл оглушительный треск: сквозь пыль, песок я рассмотрел, как баркасы и байды сорвало с якорей, понесло от берега. Еле успел подскочить к двум ближайшим ко мне артельщикам, тащившим байду, и подсунул под нее плечо. Нахиман подхватил с носа. Мокрый, по колено в воде, увидел в стороне калеку-лодочника – тоже упирался здоровой ногой, тащил. Лодку закрутило… Услышал окрик, да поздно: надо мной встало черное брюхо вздыбившейся байды, я ощутил удар в плечо – но обошлось, выровняли.
Несколько рыбаков все так же стояли в стороне, пригибаясь от порывов ветра. Между ними, спотыкаясь о кучи водорослей, размахивая руками, суетились люди – из села прибежали женщины и подростки. Один из «смотрящих», наступая на сторонящихся, кричал:
– Товарищи, нужно спасать артельное имущество! Байды!
Волны, хлеща берег, накатывали одна за другой. Их шум перекрывали крики:
– Не идите! Пусть сами! Полезайте!
И так несколько часов, показавшихся мне вечностью. Утихло только к вечеру.
* * *В хате, пока мы сушили одежду, я подгадал момент, когда Марина вышла из кухни, и показал Даниле пыж и дробь.
– Фурчелка[56]-то откуда? – спросил он.
– Не понравился я кому-то, да вот, видно, передать что хотели.
– А ты не сочиняешь? Охотники, мабуть. Птицу бьют, самое сейчас время, чирок идет. – И прибавил равнодушно: – Или малые озорничают. Вон на крыльце с утра опять сороки дохлые, Марина ругалась!

На ужин была щерба[57] с рыбой. Напитавшись этими водоплавающими продуктами, я отчаянно хотел чего-то земного, начинал сам водянеть и растворяться. И мысли, казалось, плавали в тяжелой придонной воде, мутной от ила. Уже устроившись на ночь, никак не мог уснуть. После борьбы с непогодой на берегу думал, сон сморит, как только смогу наконец лечь. Но не тут-то было! Пробовал было разобрать свои записи, сосредоточиться не получалось. А в первом часу ночи стекла задребезжали от отчаянного стука. Жена лодочника, выскочив во двор, успела только увидеть тарабанящую девчонку. Но толку не добилась. Та бегом помчалась к баракам общежития, на ходу крикнув, что девушки зовут «доктора с города, чтобы шел быстрее».
– Девке там плохо! Крутит ее! Блазнится чертовщина!
Я поспешил за ней. Перед высокой дверью в барак нагнал, девчонка тащила тяжелый таз, полный воды. Я придержал ей дверь в узкий, как кишка, коридор. У комнаты толпились девушки, полуодеты, кто и босиком. Увидев меня, посторонились, пропустили.
Комната с рядом железных коек, одна сдвинута в сторону. На кровати девушка, скручена, колени к подбородку. Над ней низко склонилась баба Терпилиха, широкая, показалось, душит. Шагнул поближе – наклонилась, водит ладонью, к руке примотана челюсть животного, бормочет:
– Зубы, зубы, грызите хворину!
Бросила мне, не оборачиваясь:
– Боль ей заговариваю. Помрачилася она, жалочка, – Терпилиха цокнула языком. – Испуг, он и в голове стоит, и в суставе.
Достала суровую нитку крученую:
– Болезнь вывожу.
Девушка кричит, стонет.
– Отойдите, мне нужно посмотреть, – я говорил негромко, чтобы не напугать девушку. Та сжалась, пот на висках.
Терпилиха закрыла от меня кровать.
– Двое-то лучше, сильнее, – продолжал уговаривать я. – Вы помогли, теперь мой черед.
– Ты ври, да не завирайся. Помогла! Ты ж, доктур, смотришь на меня как гусь на гамно. А ить заговор истинно лучше порошка спомогает!
Терпилиха проговорила строго, неприязненно, но отступила.
– Вы ей давали какие-то средства? – спросил я, вспомнив о семибратной крови.
– Ничого не давала. От, тута все, смотри! – Развернув тряпку, показала несколько аптечных склянок со смытыми этикетками. Откупорил – слабые травяные настойки. Сунул их себе в карман. Терпилиха шумно повела носом, но ничего не сказала. Вытащил пробку из бутыли от кельнской воды, понюхал. Бабка запричитала, вытащила из моих рук бутылку.
– Глаза-то открой! – плеснула мне в лицо щепотью. – Святая вода! На-ко умойся.
Облизнул губы, отер – вода.
– Вы уже здесь, отлично! – В комнату быстрым шагом вошел фельдшер. – Пришлось сбегать за солью, рвотным.
– Юля, – Рогинский обратился новым голосом с жесткой нотой к старухе, – вы сейчас ступайте. Мы с доктором сами.
Терпилиха все же не ушла, но посторонилась, встала рядом в углу темной кучей. Я осторожно осматривал девушку. Кожа покрасневшая, сухая, горячая. Глаза блестят в лихорадке. Зрачки, я проверил, расширены, нет реакции на свет.
– Ой, не могу. Ой, лезет, ползет, щекочет. Там, вон там! – Девушка отшатнулась, принялась заматывать ступни простыней.
Терпилиха подала голос:
– Ей блазнится, вроде гады по ей лезут.
– Острое психомоторное возбуждение с бредом, – сказал фельдшер, возясь со склянками. – Были hallucinatio. Я решил сначала, что отравление. Живот у нее крутило, рвота.
– Что она пила, ела? – Я крикнул в сторону открытой двери: – Говорите, быстро! И поточнее.
Девушки загалдели. Из их слов ничего не разобрать, испуганы, одна ревет. Прикрикнул. Одна вышла вперед, вытащила из юбки склянку.
– Что это и откуда, не юлите!
– Это Любы, Любашки Рудиной. У нее в шифоньере хоронилось. Дашуня нашарила и приняла.
Из дальнейших всхлипов от двери я уяснил, что девушка на кровати, Дашуня, «не устояла» с женихом. Да, может, и не было плода, чтобы травить, но испугалась. Что мать, отец прибьют ее. Знала, что «Любе дали полынь-траву, чтобы ребенка выкинуть». Нашла и выпила. Стало плохо.
Я вытащил пробку, определил запах, рискнул попробовать немного на язык – вкус мерзкий.
– Может, вы врете, она отравиться хотела?
– Вот те крест, думала, для плода это! Это Любина склянка. А мы в карман после прибрали.
– Глотнула. Скривилась. Но ведь лекарство. Они ж завсегда муторные.
«Да, полынь!» «Полынь, она ж горьконька», «Вот и выпила разом», – затараторили наперебой.
Я говорил с девушками и раньше, по приезде. Тогда отпирались, твердили, что близкими подругами не были. Свечку не держали и не знали ничего ни про ребенка, ни про аборт. Конечно, соврали, дурочки, от страха и скрыли.
Девушка на кровати корчилась, стонала. Принималась сбрасывать одеяло. Крича, что полосы «вьются, вьются!», пыталась смахнуть их ладонью. Вырывая руку у Терпилихи. Та держала крепко, приговаривая: «Тише, доня, тише, тише. Вот, ничо́го ж нету!» Я свернул одеяло, убрал.
Провозились мы втроем вместе с фельдшером и Терпилихой до самого утра. Промыли желудок, дали успокоительное. Наконец Даша впала в тяжелый как беспамятство сон.
* * *На рассвете фельдшер сгорбился на стуле около кровати, обхватил голову руками, не поймешь, задремал или нет. Трогать его я не стал. Девушки принесли нам кипяток, немного хлеба, сахар.
Бабка размачивает в кипятке кусочек, причмокивает, посматривает на меня:
– Порча на тебе. Ты пошукай под порожцем. Ежли иголки натыканы – это завиштники твои! А соль – на ссоры.
– Я посмотрю.
– Ой! Хиба ж ты станешь? Думаешь, брешу.
– Нет, – я усмехнулся, – ничего не отрицаю.
– Трицает он. Великатный[58]. Все же пошукай.
Она перекрестила хлеб, бросила мне:
– Это чтобы домовой не нюхал.
– А если понюхает, что?
– Не надсмехайся. С ними уметь надо! Сарайник-то, бывает, лошадей губит. А дома кто живет, вот он ежели стучит по низам али по крыше, умереть хозяину. Если знать, как приняться, все отвести можно.
Подвинул ей еще кипятка, проверил догадку:
– Сороки у меня на подоконнике, это тоже порча?
– Та ни. Это я внучка попросила, шоб на балонку[59] тебе сунул. Птицы беду отводят, навроде как сподмочь тебе.
Подперла кулаком сморщенный темный подбородок, похожий на вяленую грушу.
– Беда да беда! Она ж одна не ходит. Ще не то буде! Не слушают, по-над змеем робят, тревожат. Он тут давно, ще када казаки из камышов вышли. Люди-то вскагакались[60], ишо когда Люба померла. Заговорили, что змей воду отравил и та теперь порченая.
– Допускаю, что этот персонаж – Змей – может быть довольно злонравен. Однако здесь он ни при чем абсолютно. Это у вас Люба просила траву, чтобы избавиться от ребенка? Может, не только ее? Говорите, не бойтесь.
– Ишь, боюся! Только не ко мне она ходила. А к фельдшерихе. Та ей не дала спервоначалу. Мол, говорит, грех! Оставь дите-то. А потом срешилась. Люба упросила, видать, – сказала Терпилиха спокойно.
– Почему же вы раньше не сказали?
– А рази ты спрашивал? Да и хиба ж я одна про энто знаю? Все знают.
Чертово место – это Ряженое. Все всё знают, и никто ничего не говорит!
* * *В помещении больницы я для порядка проверил и бабкины склянки, и посуду, которую дали девушки. Наверху слышались легкие шаги, видимо, Анна не спала. А фельдшер куда-то подевался. В склянке из шифоньера Любы Рудиной оказаласьTinctura Belladonnae[61] – непрозрачная, темно-бурого цвета. Растение семейства Solanaceae. «Смертельный паслен», по классификации Линнея. На нашей почве его называют «красавкой» – созвучно по смыслу прекрасной женщине. Из красавки делали также приворотные зелья. Но будь она в дозировке посильнее, влюбленные соединились бы только на том свете. Не аптечная, сделанная, скорее всего, из ягод. Бывает, их путают с дикой вишней. Они, как и корни растения, содержат атропин, вызывающий бред и галлюцинации.
Рогинский сумерничал в комнате с самоваром. Когда я вошел, поднялся, засуетился, зажег лампу. Посмотрел, и я понял – он знает, что я догадался.
– Давайте кофе! Я сварю. – Стукнул дверцей, пробормотал: «Не разбудить бы Аню», – шаги наверху затихли. – Так что же было в склянке?
– Белладонна. Давайте начистоту, Аркадий Петрович. Ребенок был вашим? Поэтому и настойку Любе Рудиной вы подсунули. Только ошиблись в дозировке, видимо. Я проверил, в склянке все же был не слишком сильный раствор. Если бы «Дашуня» в бараке не «глотнула одним разом», то из последствий – сильная тошнота да головная боль.
– Клевета. – Рогинский, казалось, испугался еще сильнее, хотя куда уж! Бросил суету.
– В чемодане я нашел томик стихов. Ваш подарок? Как и зеркало?
– Я щедро даю свою библиотеку. Мог и Астраданцев подарить. А зеркало отдала Аня, она же сказала!
– Она говорила другое.
– Она не помнит!
– Бросьте это – мой дружеский совет. Вы с вашим огородиком и опытом без труда в растениях разбираетесь, я убедился. Рудина просила полынь, избавиться от ребенка. А ей подсунули другое. Вы сами слышали – у меня есть свидетели, девушки, они подтвердят, откуда настойка.
Рогинский молчал как рыба, приоткрыв рот.
– Так это вы. Или, может быть – Анна?
Рогинский только замотал головой.
– Значит, Анна. Дала намеренно? Под видом абортивного средства? Ревновала? Или знала наверняка?
Рогинский все молчал.
– Люба не стала пить, уехала, – продолжал я. – У Анны хватило бы сил, сноровки и злости подстеречь ее, устроить ссору. Этот саван из транспаранта – что это было – расчет, чтобы уж верно пошла ко дну? Или истеричная выходка? Не молчите. Я ведь могу и уговорить мать Рудиной дать показания о траве, которую давала Анна и раньше, якобы от сердца. Люба ей доверяла. Не думайте, что не найду, как доказать. В Ряженом все всем известно, наверняка кто-то…
– Нет! Нет, вы не так поняли, – резко перебил фельдшер. – Вы не знаете!
Пытался собраться. Сел, пригладил затылок.
– Я вас прошу, не нависайте надо мной, сядьте. Сядьте же, я расскажу.
Я сел.
– Верьте совести! Она бы не обидела Любу. Я, конечно, думал, признаюсь, да! Что Анечка могла сотворить что-то. Мучился. Но она поняла, что подозреваю ее в страшном, и все, все мне рассказала! А я вам расскажу.
Из рассказа Рогинского я понял, что у Анны уже в молодости были «несколько расстроены нервы». Впечатлительная, склонная к истерикам.
– В Гражданскую мне пришлось спешно забрать ее, почти бежать… потрясения… все только усилилось, – сбивчиво говорил фельдшер. – Раньше она ведь удивительно светлая девочка была. Мы знакомы с самого детства. В дальнем родстве. Аня болезненно ревнива. Все боится, что я уйду.
Подбирая слова, очевидно, чтобы убедить меня в искренности, он упомянул, что иногда бывали «приступы». Вспомнил некий «случай в общежитии».
– Ей вдруг показалось, что я часто там бываю. Еще зимой, инфлюэнца, я помогал… И она… немного разбавила настойку. Но у девушек было просто расстройство желудка, и все. И все!
Рогинский продолжал, торопясь объяснить.
– Поймите! Она выдумала, что я уеду, брошу ее. Аня не может иметь детей. И, бывало, говорила глупости, мол, она не жена мне, не может родить. Настроение у нее меняется резко! Временами находит такой стих, – он судорожно выдохнул, – говорит, что жить ей недолго и нужно раздать вещи. И зеркальце отдала! Но вбила себе в голову, что это или Люба украла, или я подарил.
– Допустим, откуда тогда белладонна?
– Люба Рудина приходила, плакала, просила полынь, избавиться от ребенка. Ведь это позор здесь, ребенок без мужа. Прогресс в нравах сам по себе, а здешняя-то мораль отдельно. Анечка разозлилась, решила, что я отец. Но не думала даже!..
Из противоречивой мешанины его объяснений я понял одно. Анна на самом деле подсунула Рудиной настойку белладонны, но, как твердил Рогинский, якобы знала, что раствор слабый, аптечная дозировка, «хотела только напугать».
– Есть Анин грех! – снова и снова повторял фельдшер. – Разозлилась, поймите. Что Люба две души губит. Потом, уже после, она ведь – верьте совести! – ходила, ходила в комнату к Любе. Опомнилась, хотела забрать склянку. Но та уж уехала. Вот! – Рогинский вдруг поднялся, зашарил в ящиках стола. Вытащил коричневый флакон.
– Успокоительное на основе опия, сильное. Даю Ане, когда у нее приступ. В тот день на нее нашло. Я заставил ее выпить капли, и она заснула. До самого ужина спала наверху! И Нахиман! Может подтвердить! Он пришел, а Ане нехорошо, пришлось выпроводить. Он знает, что она нездорова, но из деликатности смолчал, не сказал вам.
Чертово Ряженое!
– Последнее время я так радовался – приступы реже. А этот случай с девушкой – это ошибка. Трагическая ошибка! И девушка жива. Но я понимаю, все это скрыть не удастся.
Высказавшись, он немного успокоился, заговорил более твердо.
– Тогда пусть я! Я виноват, берите. Но ведь она тогда одна останется, кто же присмотрит? Аня сама испугалась! Она всего боится. Боится этого комиссара, что вышлет нас. Она нагрубила ему, знаете, по-женски, теперь боится, что он отомстит. Я ее уверяю, что вышлет, и – прекрасно! И очень хорошо! Уедем в глушь, с глаз подальше.
Он встал, подошел к окну. Тяжелая муха гудела и билась в стекло. Рогинский открыл створку. Махнул ладонью, прогоняя.
– Выход перед ней, но она рядом стучит! Ей кажется, вот же она, свобода! Как я устал! – продолжал говорить он. – Ведь не сплю почти. Ляжет, бывало, Аня. А я все прислушиваюсь. И слышу – встала, пойду за ней, а она стоит на улице, смотрит в темноту. Ну обниму, уложу.
Он повернулся ко мне. Заговорил тихо, убедительно:
– Я прошу вас! Я обещаю, что увезу ее. Буду внимателен. Врачи за границей могли бы помочь, немецкие клиники успешно купируют такие случаи… Но я поздно спохватился. Все думал, куда ехать? Вот, успокоится все, вернется, и тогда уж.
– Вернется – это вы хватили.
– Были мечты, и в этом каюсь. Это тоже можете с товарищем Турщем обсудить. – Рогинский вполне пришел в себя, показал зубы.
Я почувствовал, как загорелись скулы и уши. Слишком резко поднялся, с досадой ловя рукой опрокинувшийся абажур.
– Я пойду, пожалуй, к себе. Спать.
– Не хотел обидеть! Я сгоряча, – взметнулся Рогинский и уже вслед мне добавил: – Пожалейте Аню!
* * *В комнатах спорили. Лодочник Данила и второй, молодой, звонкий, женский, кажется, немного знакомый голос. Я наскоро прикрыл бумаги, поднялся из-за стола, посмотреть, что там. Был рад отвлечься. Несколько часов уже сидел над отчетом и правками протокола осмотра. Тут же дверь уверенно открылась.
– Вечер добрый, вы не заняты?
Устинья, невестка Рудиной. Кудрявые волосы, смеющиеся глаза. Дутые сережки блестят, укрытые завитком волос у щеки. Стоит, покачиваясь легко с пятки на носок, осматривает комнату. Снова напомнила мне деловитую птичку, пеструю уточку. Не смущаясь прошла к столу у окна. Достала свертки в коричневой бумаге. Разворачивала, подталкивала и раскладывала она ловко, говорила, быстро взглядывая на меня с усмешкой:
– Вот, с рыбкою шматочек пирога принесла вам. Пышки утрешние, на кислом молоке. Исчо, – из жестяного бидончика она вытащила квадратную бутыль, – «дымка». Сама ставлю, на травах и с перчиком.
Встряхнула руки, осмотрелась. Разыскала приборы, стаканы, разложила шитое полотенце как салфетку. Присела к столу, расправив юбку. Устроила круглые локти, на них мягкий, с ямочкой подбородок.
– Кушайте, все ж парное!
Ее живость, блестящая на скулах кожа, розовые губы нравились мне отчаянно. Она, не смущаясь, отщипнула от пышки, наполнила стаканчики, мне «с горкой», себе на донышке:
– И я с вами! Слыхала, в город едете? Об услуге хочу вас попросить.
Все в Ряженом и округе уже отчего-то были уверены, что я уеду сразу, как позволит дорога. При этом любой встреченный не только знал, что я еду, но и был уверен, что вскоре вернусь. То и дело жена моего лодочника передавала мне просьбы купить в городе самые разные вещи. От ситца до свежих журналов. Уточка, как я ее окрестил про себя, между тем расправила листок, водила пальцем:
– Тут записала. Ленты мне на парочку.
– Это как же?
– А вот, – она одернула бархатную жакетку, обрисовалась небольшая округлая грудь, – юбка да кофта, вот и выходит парочка.
– Да я ведь не еду пока. А если и соберусь, то вернусь вряд ли.
– Так все ить баят, вы здешний новый доктор. Заместо фельдшара.
– Не баят, выходит, а врут просто. Но, положим, я привезу что ты хочешь. А Рудины-то знают, что ты ко мне зашла?
– Они много не знают, чего им не надо. А мне себя тоже хочется побаловать.
Она села поудобнее. Подвинула ко мне тарелку, «кушайте». Потянулась, рассматривая предметы на столе. Раскрыла одну книгу наугад, пролистала.
У двери в мою комнату стихли шаги, заглянула Марина, жена лодочника:
– Что вы впотьмах сидите? Устя, у тебя ведь дела невпроворот.
– Так ить праздник, Марина. Дело сегодня – грех. Вот раз на Благовещенье стала кукушка гнездо вить, да Господь ее наказал. Заказал ей до скончания-то века гнездиться. Теперь она все в чужие гнезда лезет!
Марина поджала губы. Нарочно не обращая внимания на Устинью, сказала мне, что собирается на вечернюю службу и хочет уже запирать ставни. Уточка собрала посуду. Накинула на пирог край салфетки.
– Пойду я, что ваших хозяев смущать.
– Я провожу вас.
– Устя дороги знает. Не городская, чай, променадом провожать ее, – вставила жена лодочника.
– Я все-таки настаиваю. – Я поднялся, наскоро навел порядок на столе.
Устинья согласилась, легко улыбнувшись:
– Ну, до чайки[62] проведи меня.
Марина вышла, стукнув дверью.
Устинья держалась просто, спокойно. А я вдруг заволновался. Стало жарко щекам, шее. Чтобы скрыть это, у калитки предложил ей руку, предлог выдумал глупый: помочь со свертками. Она покрепче ухватилась, сунула мне свой бидончик – так помогай!
Темнело здесь рано. Дорога подсыхала после недавней грозы. Воздух нагрелся, пахло глиной, травой. Устинья приостановилась, потянулась в чей-то палисадник за веткой темной, голой еще сирени.
– Азовский цветок! Скоро уже откроется. Он пахнет – страсть!
Отпустила ветку и немного оступилась. С куста посыпались влажные капли. Опираясь на меня, приподняла немного подол юбки – гляди-ка, ступила в лужицу, вот, – выставила ножку в промокшем ботике. Показала черный башмачок – намок. Прижалась ближе, касаясь макушкой у сердца.
– А трава, как думаешь, доктор, уж очень сырая? – улыбнулась откровенно.
Ее запах, городского мыла и волос… Мне захотелось почувствовать его глубже, прижать сильнее все ее тело. Она не противилась, потянулась навстречу. Это ощущение податливости, власти над ней подействовало на меня как стакан крепкой мадеры из отчаянного сорта Tinta Negra. Без стеснения она отвечала на ласку. Я уже хотел уложить ее на перепутанную влажную траву, но в палисаднике залаял пес. Невидимка невдалеке затянул песню, засмеялся. Устинья отвела мои руки:
– Шастают тут. – Я совсем не подумал, что нас могут увидеть. – Тваво хозяина уж в хате нет, ушли они. Лучше до тебя возвернемся.
Пробрались в комнату мы как воры, не зажигая свет. Устинья зашептала: «Чапелька[63] тугая, сподмогни». Нетерпеливо потянула мои руки к мелким пуговичкам на своей нижней рубашке. Вытащила тяжелую шпильку, размотала пушистую косу. Кудри липли от пота к коже. Я убрал их, открывая ее розовую круглую шею, гладкие плечи. В темноте пружины матраса запели, прогнувшись. Сердце колотилось у меня прямо в горле. Хотя с точки зрения медицины – это решительно невозможно.
После Устинья, не смущаясь наготы, встала, прошлась по комнате. Постояла у стола, переложила книги, бумаги слетели на пол. Подняла перевернутую фотокарточку Юлии Николаевны в светлом платье на благотворительном балу, снятую еще до замужества. Я все возил ее с собой всюду. Сам не знаю зачем.
– Это кто тебе? Жена, что ли? – Она отнесла карточку подальше от глаз, рассматривая. Закусила темную губку.
– Красивая, нарядная. Нарядить любую можно. Муж мне шубку белую с цигейки привез, так свекровь ажно скособочило. – Она сунула карточку в книжку. Захлопнула.
Я окликнул ее в постель. Но она отошла к двери, прислушалась.
– Они еще долго будут! – Наконец забралась на кровать, прижалась ко мне. Через ставни падал косой свет.
– Ох и глаза у тебя, как у кота, зеленые. А кудри-то как у девки. Что ты не острижешься?
– Не нравится тебе?
– Нет, необвычно.
Медленно провела по моей груди горячей шершавой ладонью.
– Отчего креста нет?
– У меня есть, от матери. Но она другой веры. Бывает, и ношу, но чаще в кармане.
– Нашей веры крест нужон.
– Что же, два надевать? – Я перехватил ее пальцы, целуя.
– А хоть бы и два. – Она откинулась на подушку, закинула голову. – У нас вот в селе было, один парень захотел лоскотух повидать.
– Это кто же такие? – Я подвинулся губами к теплому плечу.
– А вот, если девка весною помрет или летом, то не успокоится. С русалками будет. С теми, что утопли, а играются. Станет лоскотухой. Он и решил таких повидать, да чтобы живым уйти.
Я поймал ее губы.
– И что же, вышло? – спрашивал, целуя.
Она неохотно, с улыбкой, отстранилась. Я подвинулся, чтобы рассмотреть ее в сумерках.
– Вот, слушай! Ему один там присоветовал, мол, надень два креста. Один наперед, а другой на спину. А потом разденься догола. Да иди на берег. Лоскотухи, они ж от спины кидаются. – Легко передвинулась, обняла меня за спину. – Вот так! А ежли там крест, то им тебя не коснуться. Парень так и исполнил. Только все одно – заиграли, залоскотали его до смерти… Люба-то наша, глядишь, лоскотухой и стала! В весну померла. И схоронили не по-людски, с могилы вынули.