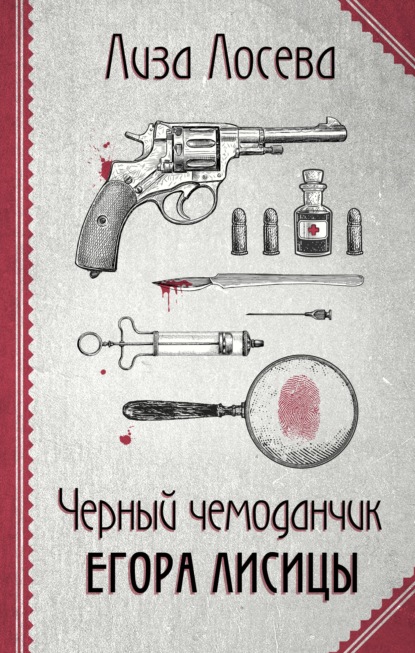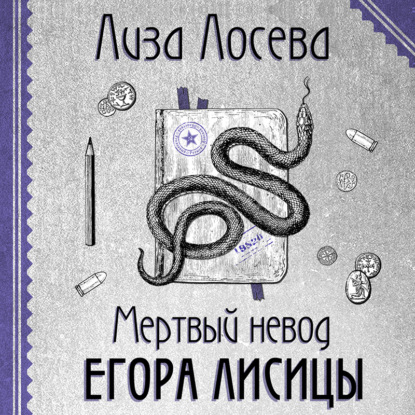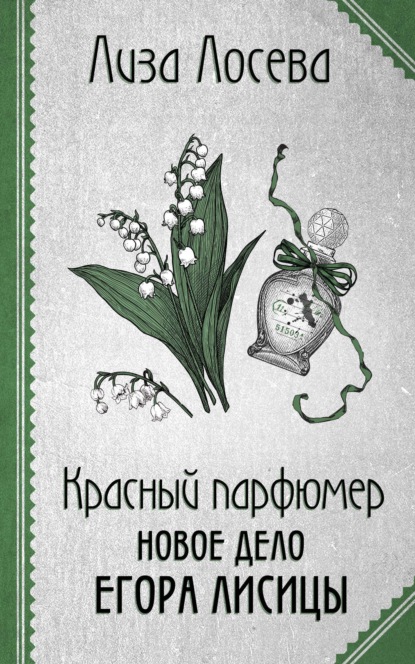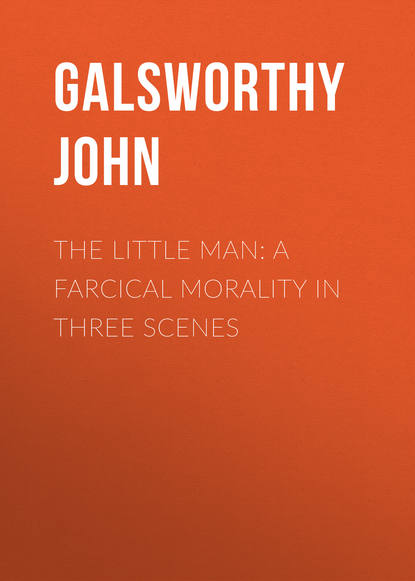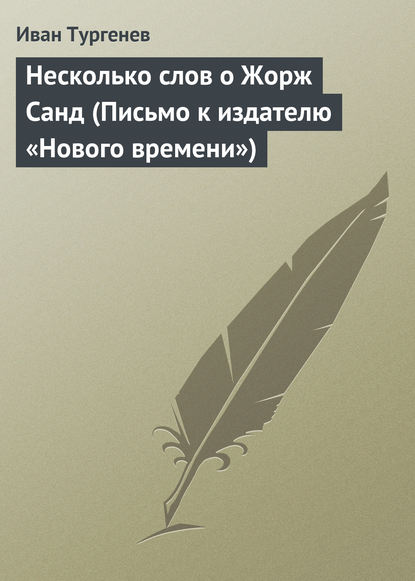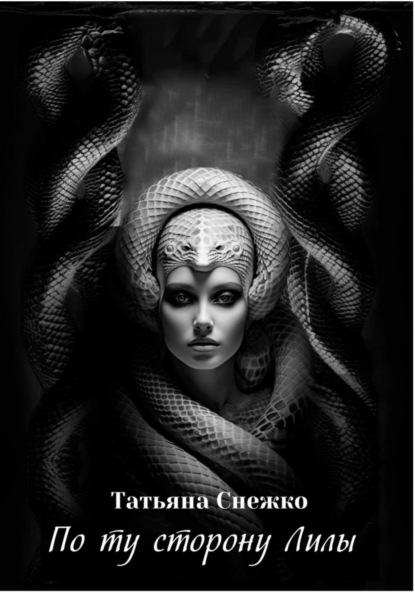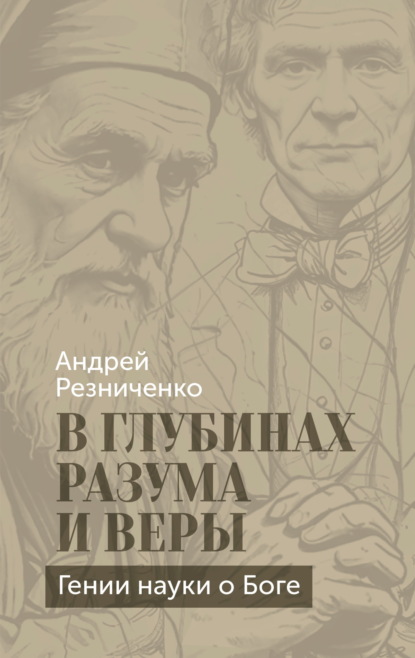Мертвый невод Егора Лисицы
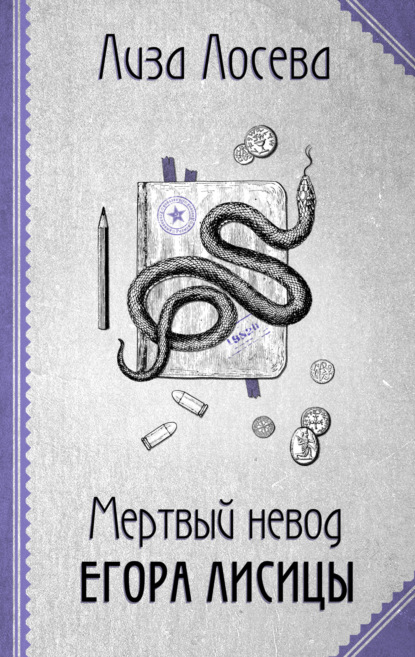
- -
- 100%
- +
– Брось это. – Развернувшись, я снова уложил ее на постель, целуя ямочку у ключицы. – К чему этот разговор?
– А разное может быть! Ты вот не боишься с мертвяками возиться.
– А ты? Неосторожно по ночам одной ходить и на лодке. – Не выдержав, я опять прикусил ее губы.
– Ни богов, ни рогов не боюсь. – Она, смеясь, возилась подо мной. – Разве что водяного. Он, когда рыбой ходит, цветом бывает как налим, цвятной, знаешь? Тут они не верят в это.
– Тут верят в змея.
– А! Змей гуляет, ласку ищет, лаской душит. – Она закинула руки мне на плечи, потянулась к лицу, губам.
Одевались второпях. Я зажег лампу, подвинув подальше от окна и накинув на ставень снятую наволочку.
– Когда я еще тебя увижу?
– Приду к тебе сама, как сумею.
– А если придешь, а мне уж уехать пришлось?
– Возвернешься, – она говорила с такой славной нахальной уверенностью, что я, не сдержавшись, рассмеялся и снова ее обнял.
– Напрасно ты зубоскалишь. – Устинья вывернулась из-под руки, оттолкнула меня, будто рассердившись. Кивнула в сторону книг на столе.
– Захочу – забудешь кралечку свою нарядную! Бабка присуху мне сказала. – Она заговорила распевно: – В чистом поле лежит синее море, в нем синий камень. Там живут черт с чертовкой, бьются до последней крови капли! Так пусть, – она прижалась ко мне, зашептала на ухо, – вы с ней так же режетесь! И навсегда разойдетесь. Ключ, замок!
Прибавила лукаво: «Так-то вот!» Присела, натягивая башмачки. Я, опустившись рядом на колени, помог ей.
– Не злись. Побудь еще со мной.
Она все отодвигала мои руки.
– Пора мне! А может, и вовсе больше не приду!
– Ну, я тогда сам к тебе.
– Сам! А я прямо ждать буду, ночь не спать! Этот, который тут власть, – очевидно, говорила она о Турще, – так-то он смотрел. Сапоги начищены. А ить сколько их ни чисть – казак с него не бравый!
– А я? Бравый?
– А ты что? – Она смягчилась. – Ты ученый, доктор. Собой интересный. Так верно ли, что скоро уезжаешь?
– Мне дали задание узнать, от чего Люба умерла. Я узнал.
– Зачем ты тогда тут еще? Лодкой добраться можно.
– Есть дело. Ведь не по-хорошему с телом Любы поступили. Да и обидел ее кто-то, испугал.
– Так ведь не убили ее. Не снасильничали. Разве твое начальство тебя не заругает, что ты тут все груши околачиваешь?
– Не заругает.
– А она? – намек был на фотокарточку Юлии. Устинья снова дразнила.
– Это уже вовсе пустое!
В прихожей мы на минуту остановились, я осторожно распахнул дверь. Тянуло свежестью от воды. Тонкий, как обрезок ногтя, месяц повис над кривой яблоней.
– Маленькая была, думала, ветер оттого, что деревья шумят, гнутся, – вот и ветер получается.
Ее чайка, легкая лодка, стояла неподвижно в камыше у самого берега. Устя забыла на берегу свой сверток и, смеясь, ловко поймала его, уже стоя по щиколотку в воде.
Улица Ряженого была темна, но в окнах больницы, в комнатах фельдшера, мелькал свет. Поколебавшись, я все же поднялся на крыльцо, постучал. Открыл мне Рогинский. Извинившись, что поздно, я спросил про состояние Анны. Тот горячо уверил меня, что следит за женой и днем, и даже ночью.
– Сменяемся с кухонной девчонкой. Анна совершенно разбита. Не выходит из комнаты. Но у нас и радость! Новость! Псеков наш совершенно счастлив! Наконец получил вызов из Италии. Не поверите, целовал его. Пришлось аж в Таганрог! Добрался с трудом. Обил все буквально пороги, но выдали. Вот!
Я зашел. За столом привычная компания. На столе чай, хлеб, шоколад. Псеков кивнул мне:
– Проходите, Егор! У нас небольшой пир. – Он аккуратно расправлял на столе желтую бумагу. – Наконец-то бумаги получил. Это почти чудо! Есть немного вина, останетесь?
– Благодарю, но не могу. Рад за вас. Когда едете?
– И не думал, не думал пока. Ведь почти не надеялся.
Я еще раз отказался от настойчивых приглашений, сказав, что кстати хочу кое о чем спросить Нахимана с глазу на глаз. Мы вышли на улицу.
– Скажите мне прямо, вы накануне пропажи Рудиной заходили к Рогинским?
Бродский помолчал, разглядывая меня. Потом заговорил:
– Не думайте, что я вам скажу что-то против Анны Леонидовны. Она и ее муж люди слабые. А топить слабых… Хотите, как это у вас говорят – привлеките меня, допросите по форме, но говорить против них я не стану.
– Бросьте! Рогинский склонен к мелодраме, но вам ни к чему сатрапа из меня делать. Ваши слова им, напротив, только помогут. Говорите и вспомните точнее! Заходили вы к ним? Кто говорил с вами и что сказал?
Подумав, Нахиман Бродский все же подтвердил слова фельдшера. Добавил, что тот был встрепан, встревожен приступом Анны. Ее рыдания были слышны и внизу. Истерика, видно, с ней случилась, когда склянку с белладонной вернуть не удалось.
Наконец вернувшись в свою хату, я столкнулся с хмурым хозяином-лодочником.
– Куда ж вы так поздно ходили?
– На реку плавать.
– Дело хорошее. Остужает. Спать крепко будете.
Я бы вспылил, что он суется не в свое дело. Но спать на самом деле очень хотелось.
* * *Другим утром я почти столкнулся с Турщем у входа в его хату. Несмотря на ранний час, он был полностью одет и явно торопился. Однако посторонился, пропуская меня и попросив «изложить скорее». В комнате он продолжил стоять, опершись двумя руками на спинку стула.
– Я коротко, как просили. Отец ребенка Любы Рудиной вы. И о вас говорится в письме, которое я нашел в ее чемодане. То самое, что так и не дошло до краевого начальства.
Я ждал, что он возмутится или вовсе выставит меня. Он не сделал ни того, ни другого. Тогда я продолжил:
– Это было моей первой мыслью. Но кое-какие события меня сбили. Теперь же они разъяснились, и я уверен в выводе. Первый резон – ее вещи: жакет дорогой и не вяжется с туфлями. Потом пудра, безделушки в общежитии. Очевидно, что подарки, и не из местной лавки. Значит, поклонник при деньгах и имеет возможность часто бывать в городе. Новость о ребенке вас не удивила. Ведь на аборт в город вы ее отправили – я вспомнил банки с краской в клубе – под надуманным предлогом. Да и в самом деле, в Ряженом все всё знают. Но никто так и не сказал, с кем же у Рудиной была связь. Астраданцев, правда, выпив у фельдшера в гостях, раздухарился, но после пошел на попятную. Кого тут могут так опасаться, чтобы не сказать прямо, молчать? Только вас.
Турщ покрепче перехватил стул. Но молчал. Я продолжил:
– Я ведь легко могу узнать в абортной комиссии, кто устроил ей врача. Вряд ли она сама.
Тут я бил наугад. Один раз этот довод сработал. Скорее всего, у Турща хватило бы ума запугать Любу, чтобы она не оставляла фамилии. Но он и не думал отпираться.
– Не отрицаю. Вещи да, дарил. Зеркало это или что там, нет, не я, – он снова заговорил в своей телеграфной манере. – И про ребенка правда. Я был против деревенских методов. Все устроил в городе, с врачом. Чтобы наверняка.
Вот и объяснилось, почему Люба Рудина сунула в комод склянку от жены фельдшера, не выпила.
– Оправдываться не стану. Наша связь с Рудиной была по согласию. Ребенок – случайность, осложнение. Она это поняла. И про краску она сама предложила.
– Неужто?
– Да. Не хотела, чтобы знали. Позор, хоть и женщина новой формации, а бабы начнут мусолить – по улице не пройдешь. Сволочной народец.
– А письмо, которое она собиралась отправить начальству?
– А что письмо? В области половых отношений близится революция, созвучная пролетарской. Сейчас другое отношение. – Он перестал сжимать спинку стула, расслабился. – Ребенка нет. Люба – женщина свободная. Разбежались бы каждый своей дорогой.
Он встряхнулся, посмотрел на часы на столе.
– Зачем мне ее караулить? Мне ни к чему было ее поджидать или гнаться. Или думаете, я топил и заматывал? Давайте скорее закончим.
– Нет, не думаю. Но вы можете знать – кто. С кем еще у нее была связь? Или, если не личное, так, может, ее общественная работа? Ссорилась ли она с кем, угрожали ли ей?
– Не знаю. Знал бы – сказал. Работа может быть, но никто конкретно бы не высунулся. – Он помедлил. – Эта выходка с тканью, может, для того, чтобы меня зацепить. Или месть.
– А есть кто-то, кого подозреваете? Кто мог сделать такое из личных побуждений?
– История эта мне навредила. А вот чтобы кого подозревать – нет. Больше мне нечего сказать. Нужно идти.
Выяснилось, почему Турщ был так взвинчен и куда торопился. Неохотно, кромсая слова, он объяснил, что вчера, уже поздним вечером, напали на партию краеведов. Те перевозили находки из полевого лагеря в Ряженое. Здесь у них была комната-склад при клубе, нечто вроде основной базы. Нападавшие избили сотрудников партии. А уже знакомому мне молоденькому милиционеру, который их сопровождал, выстрелом задело челюсть.
– Вы на раскоп? Я с вами.
Турщ скривился.
– Это к смерти Рудиной не имеет отношения! Мы прояснили все. Вашего дела тут нет, – процедил он.
Его тон и замашки начали всерьез раздражать меня. Спор вышел на повышенных тонах. Наконец, сдерживаясь, чтобы не нахамить всерьез, я напомнил ему, что я врач, а в партии есть пострадавшие, так что говорить тут не о чем. Турщ поморщился, но согласился. Однако когда я пришел к пристани, там никого не было. Из почтового окна, куда я постучался, выглянул меланхоличный Астраданцев и передал, что «комиссар» ждал меня, но решил ехать, мол, времени нет. Сочувственно косясь, добавил, что на почту должен зайти руководитель партии Гросс, вот он, может, и проводит. Этот самый Гросс сейчас берет у фельдшера кое-что из лекарств. И захватит свежие газеты, почту, раз уж случай. Дождавшись Гросса, я кое-как убедил его взять меня с собой. Он предупредил, что часть пути мы пройдем на лодке, а дальше придется добираться пешком, по краю берега…
По воде шли недолго, вскоре Гросс привычно направил лодку в протоку. Разыскал «мертвяка», зацепил веревку и завел лодку в рогоз, так, чтобы не бросалась в глаза.
– Это Нижние Раздоры.
– Раздоры в смысле – споры?
– Здесь так называют место слияния двух рек и землю между ними. Когда реки разливаются, тут образуются острова. Вы это и сами видели, ведь вас привезли на лодке?
– Да, дорога непроезжая.
– Кое-где по берегу можно пройти, хотя нужна ловкость и, безусловно, удобная обувь.
Бросив лодку, мы пробирались по тонкой полоске земли между морем и обрывом, обходя часть вытянутого языком мыса. Кое-где торчали лодочные сараи, берег был неширок, а за мысом еще сильнее сужался – только-только поставить ногу. Мелкие волны, лента белого ракушечника. На узкий каменистый берег лезет рогоз, его лохматые метелки выше нашего роста.
– Тут везде тропы, можно и через ерики напрямую, но нужно знать дорогу. Местные знают, – подметил Гросс.
Он еще говорил о том, что даже хорошо, что разлив отрежет, – меньше будут соваться, несмотря на то что с раскопками приходится торопиться. Я рассматривал его, цепляя взглядом детали фигуры и одежды. Высокий, худой, слегка сутулый, из-под шляпы-«ковбойки» видны темные, с явной сединой волосы. Шея и лицо Гросса загорелы дочерна, хоть и ранняя весна. Его хлопковая рубашка застегнута на все пуговицы, рукава натянуты на запястья. Глаз не рассмотреть за очками в стальной оправе. Шагая и ловко придерживая ружье, он пояснил, что краеведы охотятся сами, в лавке берут только сахар и чай, изредка консервы, но заполучить их – везение. И зашагал дальше, поправив закинутый за спину, туго набитый холщовый вещмешок, наподобие солдатского.
– Расскажите о нападении на партию. Лучше – как можно подробнее, – мне приходилось перекрикивать шум волн, птичьи крики.
– Подробностей я не знаю. Меня там не было, – ответил, чуть обернувшись, Гросс. – Пострадали милиционер и двое из наших. Один довольно сильно получил по затылку. А второму повезло. Синяков наставили, ребра помяли, сломали палец, надели на голову мешок и скинули с телеги. Но ничего серьезного. Так в канаве и провалялся.
Над тропинкой вырос рыжий бок берега. Он поднимался над нами, весь в оспинах черных нор.
– Гнезда щурок, – объяснил Гросс, отмахиваясь от пестрой, желтой с зеленым птицы, промелькнувшей перед самым его лицом, – все тут не как у людей.
Прибрежная полоса сужалась, уходя за выступ обрыва.
– Берегите голову, – буднично предупредил меня Гросс и показал наверх.
Я поднял глаза и от неожиданности споткнулся, кое-как устояв на ногах. Надо мной, как стропила крыши, нависал источенный ветром позвонок с широкой реберной костью. Кость косо вонзалась в обрыв, где из нее лез жизнелюбивый, бесстрашный росток ивы. Я сообразил, что это тот самый «хребет», который я видел, когда мы шли на лодке к Ряженому.
– Допотопный кит, – объяснял Гросс, пока мы пересекали широкую тень от кости кита. – Эоцен. Называют его так по времени существования, а именно эпохи эоцена. Животное, вероятно, погибло во время Grande Coupure[64]… Смотрите под ноги!
Поздно. Неаккуратно ступив, я по щиколотку увяз левым ботинком в черном жирном иле. Гросс же уверенно шагал вперед.
– Чувствую себя Ионой, который вышел из чрева кита и оказался в новом мире, – сказал я.
Гросс не поддержал мои библейские настроения, прихлопывая жужжащих тучей мошек:
– Скелет представлен частью позвоночного столба с ребрами. Ископаемые останки были обнаружены местным жителем Холуповым. – Реплики Гросса относил ветер. – Здешние рыбаки ошибочно считают останки громадным червем или, если угодно, змеем – из-за вытянутого позвоночника.
Так вот о каком змее, к которому полезли археологи, упоминал товарищ Турщ!
– Почему же не освободят от песка? Ведь это удивительная находка!
Я оглянулся на ископаемого гиганта, над которым сновали птицы.
– Извольте видеть, дома́! – Гросс махнул вверх, где по самому краю обрыва лепились несколько хат. – Местных возмущает идея раскопок. Из суеверий. Ну и опасаются, что склон, лишившись опоры в виде древнего скелета, съедет вниз, а с ним их избы и курятники. Опасения не без оснований. Берег осыпается, того гляди дома уйдут в море.
Гросс раздраженно добавил, что местные срывают работы, ходят к Турщу жаловаться, и что он не понимает, откуда взялся нелепый слух о намерении выкопать эоцена, тогда как его партия занята только раскопками курганов.
– Пригнитесь, ветка! Фрагменты костей здесь не редкость. Рыбаки находят регулярно, – продолжал он. – Циркуляр атамана, любопытный документ семнадцатого века, указывает, что в землях войска Донского «открываются случаями не только кости, но и окаменелые деревья».
– Неужели, – поддакнул я, стряхивая шелуху рогоза. – Я профан в этой области. В какой же форме деревья в целом виде?
Гросс остановился, обтер лицо платком.
– Вот. – Он достал из кармана и протянул мне нечто, похожее на темный камень. – Поверхность древней коры. Местные, конечно, уверены, что это чешуя их змея, – он кивнул на позвонки.
– Потрясающе интересно. – Я вытащил ботинок из особенно глубокой, приемистой лужи ила, осторожно передал находку обратно.
– К тому же на раскопки ископаемых гигантов нужны значительные средства, – продолжил ученый, – а понятных барышей они не обещают. В Америке Великий американский инкогнитум[65] наделал шума. Но то в Америке, а здесь… Здесь все озабочены поиском кладов. Слышали уже, наверное, про клад атамана Ефремова? Многие им грезят. А если не им, так сокровищами Разина.
– И что, в самом деле был клад?
– Как вам сказать. В «расспросных речах» брата Разина есть подробность об острове с приметной вербой – «кривой посередке», где закопаны ценности. Но твердых доказательств нет.
– А упомянутый остров что же? Получается, этот? – Я осмотрелся.
Гросс обернулся.
– Доподлинно неизвестно. Истории эти особенно пагубно влияют на некрепкие умы. Заманчивостью идеи простого обогащения. Вот вам пример. В трудах местного краеведа описан казачий есаул, увидевший во сне клад. Одержимый этим «откровением», он двадцать лет вел раскопки, отыскивая место, которое ему приснилось.
– И нашел?
– Нашел. Горшок монет, ценных больше в научном отношении. – Гросс сдвинул в сторону метелку рогоза. – Если в этих местах усердно копать, то обязательно что-то отыщется. В округе бугровщики, здешние кладоискатели, копают постоянно – щупы в сажень.
– К слову, о находках. – Я порылся в кармане и протянул ему медальон, найденный на теле Любы Рудиной.
Гросс покрутил его в пальцах.
– Это змеевая луна, змеевик[66], – пояснил он. – Местные считают, что их разбрасывает змей, прельщает.
Солнце, слепящий блеск мелкого моря, крики птиц, однообразная дорога… Шуршат и осыпаются метелки рогоза, чешется шея. Между песком и морем ныряет монотонный голос Гросса:
– Местное суеверие связывает останки кита, по-здешнему мифического «змея», с сокровищами. – Голос его тонет в плеске волн. И снова выныривает: – Курганы поблизости от хребта слывут завороженными. Бугровщики их не трогают. К слову, поразительно, но суеверия не мешают вере! Вполне мирно уживаются жития, службы, обряды и – вот это! – Гросс приостановился, махнул рукой нам за спины.
Мы зашагали дальше. Погода портилась. Поднялся ветер, волны стали настойчивее. Зарядил дождь, мелкий, противный, как комариные укусы. Расспрашивать стало некогда, я больше следил за тем, куда поставить ногу, чтобы не съехать по скользкой гальке узкой прибрежной полосы. Гросс шагал далеко впереди.
– Некто Барбаро, путешественник-венецианец, напрасно потратил несколько лет, разыскивая в этих местах мифический курган с сокровищами, – громко говорил он.
Земля размокла, из-под ног ползла глина с песком. Подробности о поисках клада ветер растаскивал над морем. Я невольно сочувствовал неведомому венецианцу, которому наверняка приходилось месить глину при всякой погоде.
– Может, на лодке было бы быстрее? – Я уже не обращал внимания на ил, чавкающий внутри ботинок.
– Не переношу качку, а сегодня вон как разгулялось. К тому же вы человек молодой, наверняка предпочтете прогулку, – усиливая голос, Гросс рассказывал что-то о раскопе. – Нам удалось найти интереснейшие погребения, бронзовый век! Может, и старше…
Я удержался от искушения сказать, что вполне ощущаю себя постояльцем этих погребений. Судя по солнцу, разрезавшему черноту облаков, прогулка в обход заняла пару часов, не меньше.
– Далеко еще?
– Уже пришли. – Гросс ловко полез по тропинке наверх.
* * *Не знаю, что я ожидал увидеть, может, какие-то развалины, стены, но вместо этого передо мной оказался расчищенный от травы, довольно большой участок со множеством ям разных форм и размеров. Берег здесь сильно выступал вперед, отвоевав у моря значительную часть суши. Основная работа шла на окраине мыса, вдоль глубокой балки. Позади лежала полосатая степь, желтая и лиловая.
Солнце слепило, и от контраста с черными тучами глазам было неуютно. Повсюду громоздились горы песка и глины. Левее стояли шалаш с навесом из парусины и несколько палаток. Удобно и умно устроенный лагерь. На фоне хмурого моря копошились черные фигуры с платками на головах, носили, перекладывали, копали. Двое рабочих проволокли мимо брезент с веревочными ручками. Усадив меня у одной из палаток, Гросс отошел, сказав, что разыщет участников партии, на которых напали. Мне принесли чай, пахнущий травой, горький.
Из объяснений Гросса я хорошо представил общую картину раскопок. Степь в этих местах усеяна курганами кочевых племен. Самые старые почти сровнялись с землей от времени, выступали над залитыми полями невысокими холмиками. Курганные могильники со временем образовывали целые некрополи, города мертвых. Бывало и так, что на высоких курганах, которые не подтопляются, люди позже устраивали местные кладбища. Другие обходили их стороной, считая нехорошим, нечистым местом. Рельеф берега постоянно менялся, то уходя в море и осыпаясь, то обнажаясь, отдаваясь людям. Часть захоронений тем самым оказывалась в вымытых водой пещерах в склоне холма.
«Степные пирамиды», которые раскапывала партия Гросса, стояли особняком. Основной курган краеведы уже срыли, открыв крупное захоронение, нечто вроде общей могилы. Устроена она была просто – глубокая входная яма и сбоку погребальная камера. Вход в нее запирали, приваливая камни. Несколько таких камней одного размера торчали в стороне, выстроенные по кругу глубокой ямы. Я подошел. На первый взгляд ничего интересного – земля, бутылки, перевернутое ведро. Стенки коридора, спуска в погребение, укрепили бревнами. Грубые ступени уходили вниз, где, присев на корточки, возился человек.
– Полагаю, это вы из полиции? – Он поднял голову, приветственно взмахнул рукой.
– Из милиции, да.
– Сейчас поднимусь, подождите. – Выбрался из ямы и представился: – Мирон Сушкин.
Рубашка линялая, закатанные рукава, обгоревший на солнце длинный нос, донкихотская бородка с рыжиной. Пестрая шапочка, наподобие тюбетейки. Из-под нее торчат края не слишком чистой повязки. Я назвал свое имя.
– Я сразу понял, кто вы. Чужие здесь бывают нечасто, а местные в целом недоверчиво относятся к курганам. А этот овраг, – он показал рукой, – и вовсе пользуется дурной славой.
– Это из-за змея? Протесты против раскопок?
– В сущности, ерунда, – он улыбнулся. – Ругались, конечно, не раз. Даже ссора большая вышла с Гроссом.
Несколько человек прислушивались к нашему разговору. Среди них один выделялся ростом, курил – обвислые усы, широкоплечий. В стороне слышался голос Гросса, раздающего какие-то указания.
– Исторической ценности нашей работы не понимает никто. Ни местные, ни новые власти, – продолжал Сушкин. – Интересуются только, много ли золотых предметов и украшений мы нашли.
– А много?
– Да не в золоте дело! – К нам подошел Гросс. – Предметы быта бронзового века намного любопытнее! Смотрю, вы уже познакомились? Сушкин – один из немногих действительно грамотных участников партии. И один из тех, с кем вы хотели поговорить.
– Так вот, дело не в золоте! – Гросс отвлекся на находки из раскопа. –Керамическая истеклянная посуда гораздо… вот! – он поднял с расстеленной простыни глазурованную чашку, – гораздо более ценны с точки зрения науки! А рыболовные грузила, зернотерки? Удивительный источник информации!
По Гроссу выходило, что только жалкие неудачники, которым не досталось зернотерок, вынуждены удовлетвориться находками золота. Его снова кто-то отвлек. Я повернулся к Сушкину.
– Не отрицаю важность находок, керамики и остального, но выходит, что и нападать на партию было ни к чему? Ведь ценностей не везли?
– Как вам сказать… Везли ящики с хрупкими предметами, укутанными в солому. – Мирон присел на краю ямы. – Это могло навести на мысль, что внутри нечто ценное. Впрочем, кое-что из серебра было. Наборный браслет, серьги, застежка плаща. Потом еще бусины из сердолика и бирюзы. Бронзовые наконечники стрел.
– Расскажите, как вы работаете, я ведь профан.
– Все находки вносим в опись. Это вроде журнала с описанием находки и указанием места ее нахождения. Если вещь тонкой работы, делаем слепок. После упаковываем и отправляем в Ряженое. А потом в город.
– Все вместе или, может быть, особенно ценное отдельно?
– Разом! Из Ряженого приходит подвода. Если дорога непроезжая, тогда лодка. В тот день мы задержались, поехали уже в сумерки.
– Почему вышла задержка?
– Гросс что-то дописывал, просил подождать. Но ведь нас всегда сопровождают. На всякий случай. Недалеко отъехали, тут и выскочили на нас. У нас ружья есть, охотимся, но палить в сумерках не с руки, да и растерялся я, кабинетный работник, стреляю весьма средне. – Он смутился, потер ладони. – Федор, может, больше вспомнит. – Сушкин окликнул, и один из тех, что прислушивались к разговору, поправил вислые усы, подошел, протянул руку:
– Сведыня Федор.
– Нападавших вы разглядели? Может, узнали кого-то?
– Да как их узнать? Лиц не рассмотреть. Они же ряженые, в мешках, кудлатые, как черти.
Мирон, подтверждая эти слова, кивнул, пробормотал, что было темно, как в преисподней, и снова полез в свою яму.
Федор Сведыня оказался толковым рассказчиком. В целом картина получалась такая. Поехали поздно, но такое бывало и раньше. Той же дорогой, что и всегда. Сейчас она все равно одна, проезжая. Сколько человек на них напали – не ясно. Вытащили из телеги и расколотили ящики. Взяли мелкие серебряные и бронзовые предметы. Прихватили несколько глиняных сосудов с росписью. Мирон Сушкин, выставив из ямы голову, как петрушечник, задумался, но сказал, что прибавить к словам Сведыни ему нечего. Накануне никто подозрительный на раскопе не крутился или не заметили.
Последнее я вполне допускал: увлеченные работой энтузиасты на сиюминутные события внимание обращали не слишком. Я сказал, что хотел бы позже посмотреть описи находок.
– Они в палатке Гросса, я провожу вас. – Сведыня показал на палатку в стороне. Из ямы наконец вылез и весь Сушкин, принялся очищать инструменты.