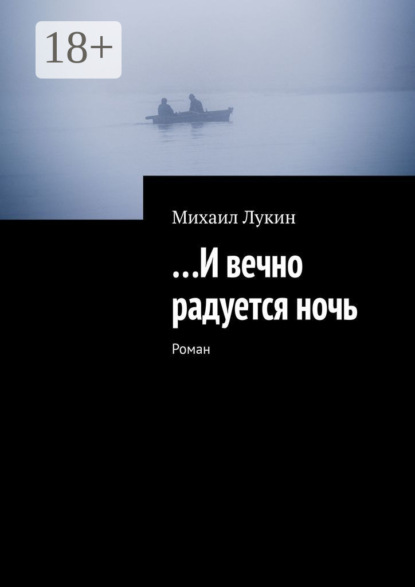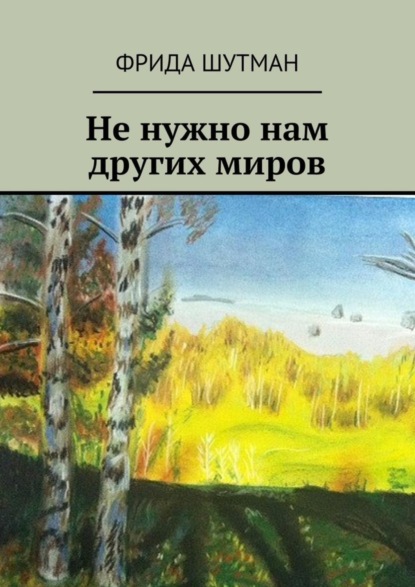- -
- 100%
- +
– Что же ещё?
– Ни один из них не может добиться моего доверия.
– Вот как! Один наш общий знакомый врач смог добиться доверия других, может, и до некоего писателя достучится? Вы упомянули уважение – оно взаимно; отчего бы не считать это точкой отсчёта? Затем же поговорить откровенно…
– Впрочем, я неправ, может, пожалуй, и один наш «общий знакомый» что-то сделать…
– Говорите же, я слушаю.
– Пусть попытается совершить что-нибудь… гм… эдакое, из ряда вон…
– А конкретно? – демонстративно извлекает чёрный блокнотик и изрядно источенный карандаш, криво улыбается. – Я даже запишу, чтоб передать…
И будто бы впрямь намеревается записывать – шуршит листками, слюнявит карандаш…
– Пожалуйста! – говорю. – Пусть воскресит Шмидта, или самого Карла Маркса, поднимет на ноги вдову Фальк или беднягу Хёста, даст язык нашей любимой Фриде, накормит чёрствой буханкой пять тысяч человек… Совершит чудо, наконец! Чтобы об этом трубили в газетах, чтобы весь мир говорил об этом, а не только сиделки кудахтали, и не только Хлоя, там, на заднем плане, подпевала…
– Ваша дочь упоминала обо мне? – зеркальное Стигово чело вдруг покрывается испариной откровенного интереса, где-то на бледных губах мерцает подобие самодовольной улыбки. – И как часто?
И вот опять: дурное предвестие – так, кажется, это называется… Он не возмущается моим грехопадением, не обличает богохульства и ненависти к идеям социализма, не бросается очертя голову доказывать, что Шмидт, видите ли, вовсе и не мёртв – «как только язык повернулся у вас сказать такое!» – он выделяет красной строкой имя моей дочери!
– О вас, поверьте, Хлоя не обмолвилась ни полусловом, – отвечаю, совладав с бурной рекой мыслей, – она сказала лишь то, что ни в коем случае не положит мои кости здесь, в парке, и не сделает из меня чучела для вашей коллекции, как, быть может, вы бы хотели.
– Ну, что за бессмыслица! – укоризненно и бесстрастно, будто самому себе, говорит он. – Какое ещё чучело! Какая ещё коллекция!
– Обычная коллекция! Всем известно… как собирают редких бабочек – ловят сачком и прокалывают тело иголкой, хрупкое крохотное тельце, затем – под стекло, пинцетом осторожно расправив крылышки. А ваша коллекция… вроде как в оранжерее или в ботаническом саду – редкие растения и овощи.
Карандаш с блокнотиком не пользованными возвращаются в карман.
– Хорошо, эту выдумку я оценил. А что делать вашим костям в парке?
– Там будет погост, я же сказал.
– С чего вдруг?
– Ну, как же, доктор: количество смертей у нас будет постоянным – по одной-две в месяц, это неизбежно, а в город возить покойников хлопот не оберёшься, да и муторно. А здесь, у нас в парке, чем не кладбище – ведь здесь был склеп! А эти умершие гнилые стволы, трухлявые пни – чем не надгробия?.. Вы слышали? – перехожу на таинственный шепот, приложив ладонь ко рту. – Что за толки ходят о Шмидте, его исчезновении? Будто отправился он побродить по парку и не вернулся…
Лицо Стига непроницаемо.
– Тсс, ходит ещё и иное, – озираюсь по сторонам, и далее устремляю взор к высокому потолку, – будто Шмидт…
– Нелепица, вздор… – отрезает он, впрочем, бездушно, не злясь, не сверкая глазами, не меча молний.
– Да, толки толками, но человека-то и след простыл! Был, и нет. Что вы скажете на это?
– Я ничего не должен говорить, но… тем не менее, только для вас лично: господин Шмидт никуда не исчезал…
– Как это понимать? Он жив? Просто уехал, улетел, растворился в воздухе и материализовался где-нибудь в Монте-Карло?
– Понимайте, как хотите!
– Вот как! Вы молчите, вот и понимает общество так, что герр Шмидт… кхм…
Доктор с величавой вежливостью качает головой.
– Но где же он? – спрашиваю. – Укажите хоть приблизительную локацию – Норвегия, Германия, небеса, Преисподняя – не ровен час, постояльцы взбунтуются…
– Ну, бунтует здесь лишь один… – доктор равнодушно закладывает руки за спину, будто собираясь уходить.
– Скажите же, ради любопытства… – продолжаю, и это явно не походит на просьбу. – Хотя… можете не говорить… Это, конечно, относится к вещам метафизическим, вне постижения, вне понимания!
– Нет, – говорит он преспокойно, – это относится к вещам скользким, неопределённым, событиям и новостям, которые лишь предстоит узнать, образам грядущего…
Смотрю на эту блестящую шароподобную голову и восхищаюсь, искренне, подобострастно, где-то – даже на мгновение позабыл об Ольге и вдовице – как можно оставаться невозмутимым там, где и философ-стоик наложил бы на себя руки?! Это немного смущает, впрочем, не сбивая с толку; возможно, я бы и воспользовался случаем, если б не спешка…
– Хотите сказать, впоследствии всё откроется, и положит конец молве? – в голосе у меня появляется суетливая неуверенность.
Он отгибает краешек рта, так что видны великолепные и неестественно белоснежные зубы, и будто бы процеживает сквозь них слова:
– Именно, друг мой! Разумеется, я осведомлён лучше вашего, но… не всегда знание бывает к пользе – кажется, мы говорили с вами об этом, нет? И вот что добавлю: я готовлюсь к сюрпризу, и надеюсь обрадовать моих постояльцев хорошими новостями в дальнейшем…
Вздрагиваю – ещё не на улице, а уж подмёрз…
Но Лёкка не запутать, чёрта с два!
– Что это у вас во рту, доктор? – спрашиваю.
Настораживается.
– Язык, что же ещё!
– Да, но какой! Гляньтесь-ка в трюмо: не раздвоился ли?..
***
Вырываюсь наружу, будто со скалы во весь дух бросаюсь в пропасть.
…И мигом плотная стена влажного холодного воздуха подхватывает, обступает – поди ж ты, узник, не слишком ли засиделся ты в своём каземате!? Дышу, дышу, а продыху – нет!
Тумана не предвидится. Вместо того воздух снизу и на уровне глаз пропитан странной дымкой, родственной, очевидно, чаду – где-то жгут листья! – и небо по-старушечьи плотно закуталось безнадежно серой мохнатой шалью облачности. Снега пока не было, и все в ожидании! Все… Люди, дорожки, грязно-жёлтые трещиноватые стены, вековые деревья, и сама Вечная Земля – время сна пришло, грезится о покое… И перина… перина сбита, одеяла – недостает. Остаётся лишь дождаться, напиться терпения и дождаться; ожидание, как всегда, воздастся сторицей.
Большой старинный парк, скупо ухоженный, погребённый под павшей листвой, с убогими щербатыми дорожками – разве что главная аллея смотрится – да давно заросшим прудом с насыпным островком и беседкой посреди него, куда сходятся все тропки с разных сторон, будто в Рим, центр мира (я так и именую беседку – Рим). Древесные богатства в парке не тешат взгляда разнообразием – большей частью дубы, чугунная ограда увита извилистыми удавами горького винограда. Прежде, в течение долгого времени, эти земли явно использовались под поместье, а трёхэтажный особняк с высоким крыльцом и прилепившимся сбоку флигельком в стиле позднего классицизма принадлежит к самому началу девятнадцатого столетия и возведён при Карле Юхане…
Чёрт побери, обитаю здесь несколько месяцев, а вынужден додумывать легенду этих камней и этих деревьев вроде как на потеху зевающей публике, совсем по примеру некоего всем известного сказочника, ибо истинная их история отчего-то – тайна!
Фасад под самой крышей помечен витиевато – 1818, и картушем герба поверх, рассмотреть который нынче не представляется возможным. И вся бессловесная громада от угла до угла, от крыльца до конька крыши дышит вековой печалью и не отжившими ещё и некогда вполне осуществимыми надеждами. Так ли отрадно внутри? Загляни в любое из окон, переступи порог: запустения нет, но дух величия и архаики исчезает. Нетёсаные полы сожрали паркет, а стены везде в салатовой грязи, хотя прежде, верно, пестрели зеркалами, гобеленами, фамильными портретами. Внутри, вместо портретов и серебряных канделябр – вернисаж полотен и дагерротипов Мунка, на паях с паноптикумом балансирующих на грани жизни умалишённых. Какой контраст, если не углубиться в самую суть!
Но с обитающими здесь не то же ли самое?
Доходяга смотрится куда как лучше иного «в самом соку». Доходяга сух, подтянут и стоек духом, а замыслам его вполне мог бы обзавидоваться и размечтавшийся о мировом господстве Бонапарт. Планы и мечты, чёрт бы их побрал, всегда лезут, когда почти что мёртв, и от них нет спасу – это сродни насмешке, особенно если не пребывать в счастливом неведении насчёт дальнейших своих перспектив, а всё замечательно осознавать. Будто бы кто-то сверху, Великий Игрок, азартный до безобразия, двигает нами, как фигурами, зачастую нарочно ставя в положение невыгоднее, чем уже есть, и всё же не затеняя надежду совсем – эдакий экзистенциальный цугцванг – и даже, напротив, даруя время от времени мечты, воодушевляя, принуждая забыться, раствориться в этой радости. И с пресыщенными этим неизбывным счастьем душами, медленно летим в небытие, до конца, до самой могильной плиты не ощущая падения, а всё надеясь, надеясь, надеясь…
Вот, давно протухший Фюлесанг, у трюмо опрыскавшись мажетелем с утра, найдёт себя, верно, в несомненно более выгодном свете, нежели мрачно-задумчивого, обременённого проблемами вовсе не глобальными, Стига. Работники доложили: в погребе пуще прежнего разошлись грызуны – мешки с пшеном безнадежно попорчены. «О, Господи, и за что мне это!?», – посыпает голову пеплом Стиг. Помимо прямых своих обязанностей по сопровождению трупов в иной мир, принужден воевать с мышами он – уменьшает ли это отёки под глазами, способствует ли умиротворению?! И так выходит: бедолага-Стиг медленно, сам по себе, шажок за шажком, приходит в упадок, разрушается… А что ж Фюлесанг? Вовсе не так уж худо ему, как можно было бы подумать. Не лжёт утреннее зеркало, оно неспособно к этому! Фюлесанг бодрится, глубоко и ровно дышит, порой втягивая живот и третий подбородок маскируя вторым. И отмечает с удовлетворением, что уж на его-то румяном блинообразном челе, в противовес хмурому Стигову, серой плесени явно поубавилось, а вóлос с плешивой макушки, несомненно, ударился в рост. Конечно, до Дориана Грея далековато, но всё же дело идёт на лад, и нынче он, Фюлесанг, что ни говори – кавалер хоть куда. И отчего бы, в таком случае, скажите на милость, не пуститься во все тяжкие? И чёрт бы побрал Миккеля Лёкка, если не видел-таки он бочкообразного, пышущего румянцем Фюлесанга любезничающим с фрёкен Джулией, полногрудой незамужней особой приятной наружности, а ту красневшей и заикавшейся неожиданности напора его и едва ли не юношеской горячности.
Тогда вновь задумался Лёкк над странностями человеческой натуры.
Румянец Фюлесанга, буйным цветом взрывающий обвисшие, как размокшие тряпки, щёки – проделки сахара в крови, ясное дело; волосы на черепе – всего лишь то, что ещё не облетело, а вовсе не то, что выросло заново; блеск в заплывших глазах – следствие наполненности желудка, сытости, не голода, присущего юношеству. Так что с того? Помеха ли это ему? Быть может, нездоровому человеку лучше всего внушить себе толику здоровья? Не принимать всё данностью, а решить себе: здоров, и точка! Отчего нет? Не уверяется ли глупец каждодневно в мудрости своей, ведь никто кругом его не понимает? Не уверяется ли и лжец в том, что ложь его во благо? Уверенность в правоте – вот суть! Это мгновенно убивает всякую тягость от скорой неизбежности, особенно у того, кто так страшится, что и слова не вымолвит. Уверенность; и Стиг в этом случае – проводник, слепой Харон, всего лишь! И выходит, он прав, и вовсе здесь не затхлый склеп, и вовсе не «Вечная Ночь», а пансионат «Вечная Радость», обитель полных счастья, которые так счастливы, что даже не курят, людей… Прав! Стало быть, за правоту я так невзлюбил его? Нет… За что же?
Боль, неискренность, злость?.. Бог его знает!
Вот добрая моя знакомая, вдовица Фальк, столь часто донимавшая меня прежде, нынче – совершеннейшее растение. Я вижу её исподволь в окошко по утрам, а голос и вовсе позабыл. Она возносит руку, заметив знакомое лицо и, необходимо признать, зрение её куда острее прежнего – меня она хорошо различает издали в окне. Наверное, если б могла, она бы похвасталась своими успехами – о, да, именно успехами! – пусть почти недвижима, но прибыло в ином месте, там, откуда и не ждали: Господь Бог одарил милостью видеть на расстоянии без очков. Отчего бы не внушить себе мысль, как в скорости изменится к лучшему и ещё что-либо?
– Доброго времени суток, дорогая госпожа Фальк, как сказали бы у меня на Родине!
Старуха блаженно бессловесна – грезит, как младенец, и посапывает в дрёме из-под груды тряпья: утро для неё пока не началось, а может быть, ещё и не заканчивался вечер. А вот застигнутая врасплох незнакомка отскакивает от её кресла шага на три в сторону, едва не соскальзывая в пруд. Ну, уж о её-то здравии волен справиться я без подозрений в дурном обхождении…
– Доброго дня и вам, фрёкен! – улыбаюсь, приподнимаю шляпу. – Как ваше здоровье? Прекрасное утро, не правда ли?
…Волен и улыбнуться пошире – вероятно, часть былого моего «великолепия» с тем вернётся ко мне, если не буду в край смешон.
Фрёкен молчит, и – хлоп, хлоп! – ошалевшими ресницами… Росточку-то невеликого, и вся какая-то нескладно-хлипкая, невесомая, совсем девчонка, в тёмно-синем пальто с меховой оторочкой и обшлагами, с лохматой, старомодной, чуть свалявшейся муфтой на одной руке, и на голове – никаких тебе шляп с перьями или вуалью! – чёрный бархатный берет. И волосы… волосы под беретом, чёрные, как смоль, туго скручены широкой косой совсем на тот русский манер, старинный русский манер. О, какая ж ты… Могла разве быть ты ночным моим татем, коварным и безжалостным, могла разве вдохнуть жизнь в давно мёртвое тело?! Ты, крошечная, кажется, бесхребетная – осерчает ветер, да прочь унесёт, как листок – в которой и самой-то, кажется, недостаток жизни и чувства… Ты ночью ворошила мои записи?! Но это же ты, ты, чёрт побери! Ольга… Растерянное лицо и впрямь будто её, Ольгино, немного, правда, строже и мрачнее, с некоторой резкостью в чертах, но глаза… те же самые, где, словно сияющие слезинки, спрятались тайны. И глаза эти, глаза… так же темны и глубоки, как Ольгины, и губы надменные, но обжигают – знали ли они улыбку и уж тем более прикосновение?
Нечто непонятное взошло, воспоминание укололо в сердце – чувствую резкую боль, затем… мягкая теплота. Ничего, ничего общего с тем, что грызёт и терзает меня, и вовсе не смерть сводница этому.
Стремительным шагом напрямик к ней, приближаюсь, жадно сгребаю в охапку ладонь в перчатке, запечатлеваю поверх поцелуй… Ума не приложу, отчего, – порыв, не более! – но губы без труда вспомнили обхождение, пальцы легли на худенькое запястье и, дрожа, сжали. Кожа её, прежде холодная, полыхнув жаром и под перчаткой, была взаимна, и знакомое раскалённое дыхание – ответом на некоторые вопросы… Да, это была она – вряд ли мне привиделось! По иным поводам ошалевал, забывая, кто таков и где нахожусь, но не по этому!
Приковываю себя к чёрной бездне глаз напротив – Ольга… Ты! Попробуй только сказать иное, ну же, попробуй! Господь не терпит лжи и помечает лгунов особыми знаками – будь уверена, я сумею их разглядеть.
Недоумение снедает страх, густая краска на лице, то ли от смущения, то ли от ярости, а ошалевшие зрачки в поисках истины снуют по сторонам – кто бы лишний не застал.
– Кто вы?.. Что себе позволяете?.. – голос, непривычно низкий, с хрипотцой, словно простуженный, понятное дело, мигом в дрожь.
Трепещу, признав и его, голос; я ответствую, вопреки всякому приличию, вопросом на вопрос:
– Ольга, ты обещала прийти ко мне. Почему ты не пришла тогда?
– Господи, что вам от меня нужно? – лепечет, стараясь, во что бы то ни стало, увернуться от моего пронзительного жаркого взгляда. – Я не Ольга! Мы незнакомы, я ничего вам не обещала…
– Обещала! Ноября, семнадцатого дня, я запомнил дату. Мы, полумёртвые, иногда ещё способны соображать, а память, порою, заменяет нам солнце и кислород. Ты явилась ко мне тем вечером, смотрела мои бумаги, те самые, на которые оплавлялась свеча, я застал тебя с поличным. Ты забрала что-то из них, чего-то я не досчитался.
Озирается… Дрожь уже не только в голосе, а и во всём теле; обвинения слишком вески, чтоб можно было отмолчаться.
– Не было ничего подобного!
– Зачем ты явилась? Уж не для того, чтобы справиться о здоровье старика…
– Как вы… как вы можете…
– О, всё, всё помнишь ты – может ли быть иначе?! Ты была…
Голос начинает захлёбываться, будто от удушья:
– Это… Это была вовсе не я…
– Значит, всё же была!
– Нет, вы всё не так поняли.
– О, гляди ж, чертовка, – взбредает в голову пригрозить ей, – случившееся не останется без последствий – мои записи были похищены, доктор читал их…
Тогда, с выпученными, полными смятения глазами, лопочет она о недоразумении.
Ну, решаю, довольно, и хватаю её за то самое плечо.
– Прикосновение многое объясняет, если слов недостаточно… Помнишь прикосновение?
– Пустите же!
Ломается… ещё поддавить, совсем немного…
– Так ты помнишь меня? – сильнее сжимаю плечо. – Отвечай же – тогда отпущу!
– Помню! Пустите, ради бога!
Ну, вот и всё – скоротечно, злобно, неистово!
О, какой дипломат погибает! Взгляните только – один момент… и исчерпаны вопросы – ни тебе утомительных переговоров, ни бессонных ночей, раз и готово! Стоит, пожалуй, попроситься в канцлеры Германии вместо Фейхтвангера: «Алло, Берлин? Слыхал, вы в поисках канцлера… Есть один умудренный сединами человек с волчьим билетом от Королевского Суда Норвегии за попытку организации путча в богадельне… Как, уже нашли?! Вот незадача! И такого же путчиста, надо подумать!»…
Продолжения нет. Визг Ольгин пробуждает госпожу Фальк. Тело корёжит под одеялами, воздух наполняется нелепым утробным бульканьем, которым старуха, видимо, обозначает своё присутствие в этом мире. Ольге того и нужно: мгновенно вырывается, хватает кресло со старухой, и вот уж скрипучим волоком его по аллее от пруда к «Вечной Ночи» – так я их и видел.
Преследовать – есть ли в том нужда?!
Довольно, довольно неистовств на сегодня! Губы полны дрожи, сердце пляшет тарантеллу и, того и гляди, выскочит из груди; сладостная уверенность, что день этот запомнится и ей, маленькой Ольге, не отпускает. Если ж так, если ж впрямь подобна она той стародавней моей подруге, то мы ещё свидимся!
Быть может, следовало бы взять с неё слово?
Ещё одно слово, затем ещё и ещё… Однако то, как сдержала она предыдущее… мда… Будто не знаешь ты, что отродясь обеты им – пустой звук!
И я решаю, что единственно верно теперь корчить из себя Хитклифа.
Итак, прочь все обещания, заведомо невыполнимые, да здравствуют тёмные потаённые мечты, позволяющие видеть чуть больше смысла в происходящем и читать между строк, здрав будь тот единственный день, которым жив, завтрашнего мне не нужно!
Разумеется, она была иного мнения: я не увидел её ни следующим днём, ни последующим.
Но отрезвляет ли это? Чёрта с два! Напротив – всё упрямей, всё несносней, и всё отчаянней… Ты, что же это, влюблён, снедаем страстью, не иначе? Увы, болен, всего лишь, сошёл с ума…
Ежеутренне – трепеща у окошка, ввечеру – в скомканной неприветливой постели с воспалёнными глазами и смятенным сознанием; с тех самых пор не спав ни мгновения, только и хлопот мне, не скрипнет ли дверь. Ни вода, ни пища, ни табак – дверь и ничего помимо!
И одной понурой ненастной ночью – не чудо ли?! – прислышалось волнение мне. Точно ужаленный, вскочил с кровати, на негнущихся ногах, опрокинув навзничь стул, заковылял к двери, но это лишь сквознячок шалил в пустом гнезде выкорчеванного дверного замка. Тогда, запалив огарок, дав оплыть, как тем осенним вечером, ему на мои бумаги, в конвульсиях израненной осколками света тиши уселся ждать. Лишь погода стояла иная, небеса разверзлись и заливали землю дождём, и всё посерело окрест. И вот в воде надежды – по щиколотку, по колено, по горло… – им уж было не выбраться, они захлёбываются и идут ко дну на моих глазах. Вот как: воспроизвёл, как по чертежам, всё точь-в-точь, а погоду… бессилен был переменить, как ни нашёптывал волглому стеклу всякие детские заговоры. И, стало быть…
…Ни к чему всё, стало быть – она не приходит!
Тогда, из крайности кидаясь в крайность, начинаю подозревать, что какая-нибудь досужая мысль или негласный запрет, а вовсе не отрешение и помешательство Лёкковы, помехой ей.
Да, особняк поделен на женскую и мужскую части – из женщин к нам заходят лишь наши сиделки. Некогда приходила и старуха Фальк, но вряд ли без ведома Стига. Единственное место, где мы все можем видеться – столовая, или кают-компания, как её здесь называют. Можно встретиться и снаружи, но по разным причинам на улице появляются немногие, не страшащиеся ветра, дождей и холодов. Иные выходят под присмотром, кого-то возят в кресле, двух-трёх человек, не более, старуху в том числе, но с момента той памятной встречи проходит время, несколько дней, а её, точно с намерением, больше не вывозили на прогулку, ни Ольга, никто вообще. Ей стало хуже, доктор запретил ей покидать особняк, звезда сорвалась с неба и прибила старуху насмерть – масса причин в голове, фантазия не иссякает – масса поводов у меня в мыслях и на языке, кроме очевидного – Ольга сама не хочет исполнять свои обязанности и всё из-за страха преследования некоего старого писателя. Это приходит чуть позже, и так, в образе шутки, выдумки обостренного болью и бессонницей разума. Едва лишь начинаю думать об этом, то тут же обзываю себя глупцом и слизняком, и отбрасываю, как можно дальше – как можно, чтобы такая мысль вообще посетила меня!? Для надёжности записываю её на бумаге, а затем с хищным отчаянием обращаю листок в пепел: когда он, характерно звонко хрустя, прогорает, таинственная радость, изгнав отчаянные мысли прочь, обволакивает меня.
Следующим днём прохаживаюсь вкруг здания сам, исследую окна первого этажа, наблюдаю тщательно за вторым, но ничего особенного не вижу: стариковские мутные с багровыми прожилками глаза смотрят на меня в ответ, знакомые и малознакомые, а порою и молодые, глаза какой-нибудь из сиделок, любопытные, оценивающие, побуждающие всмотреться пристальней… И всматриваюсь, всматриваюсь – вздор, выдумка, водевиль, обман! Сколь много глаз, разных, светлых и тёмных, прозрачных и мутных, а юных таинственно-глубоких, но исполненных уже блаженной грусти жизни, Ольгиных, нет. Ничего тут не поделать, расписываюсь в собственном бессилии: понятия не имею, где может она быть.
Кажется, это окончательное фиаско… Что остаётся? Сидеть в берлоге своей злым на весь свет, курить и издеваться над Фридой – кратчайший путь забыться.
Но хочу ли забвения? И хочу ли быть «растением», отбрасывая то, что, пусть и подспудно и безосновательно, будоражит? Пусть лживо, пусть обманчиво, пусть насмешливо… но волнует, заставляет думать о себе, как о существе из плоти и крови…
Оставить всё так – проще некуда, но Миккель Лёкк, на счастье своё либо на беду, всегда чурался простоты!
И я не оставляю! А думаю, думаю… Извожусь сам, и мучаю память, и подёрнутые двадцатилетним прахом образы, как кости, гремят в равнодушном вакууме нынешнего моего бытия. И маленькая Ольга там – средоточие, все нити сводятся к ней; она явилась, чтобы смог потолковать по душам я с самим собой!
Желал бы я объясниться и с ней? И сам не знаю…
Преследую, не даю продыху, из-за меня не кажет носа она наружу – теперь и старуха чахнуть приговорена в четырёх стенах, и белый свет ей, как в копеечку. Наверное, я делаю только хуже… А что будет при встрече? Запнусь я, позеленею, вскачу, убегу, спрячу голову в песок? Спрошу, не вы ли были подругой мне в знаковом 1914 году в России, и не с вами ли гулял я по кладбищу? Дальнейшее принимает очертания воистину безжалостные и определённые. «В своём ли уме вы? – только и бросается, будто камнем, ответом она. – Меня тогда и на свете-то не было, и в вашей проклятой России со всеми её кладбищами делать мне нечего, да и сама я северянка северянкой!». И поджимает губы, и надменностью окрашивает взгляд, и вздёргивает, хмурит носик…
Ах, конечно не было, и конечно северянка! Но так ведь не напрасно уверовал в переселение душ я на склоне лет, не напрасно. И теперь, видите, вполне соответствовал бы я звании ламы на Востоке.
V
Вдова Фальк не появляется более в парке!
Стало быть, и Лёкку делать там нечего – новёхонькое пальто вновь в шкафу моли на радость. Зачем только так добивался его?
– Вы перестали выходить в парк?
– Пекусь о вас, дорогой Стиг…
– Что вы говорите!
– Вполне возможно разделить судьбу господина Шмидта: исчезнуть, затеряться в парке, не найти дороги назад. Тогда вам придётся отвечать на неудобные вопросы.
Подобие благостного расположения духа во всём образе Стиговом – подтянут, элегантен, и очень молодо смотрится, юнец юнцом. Поднимаясь утром по звонкой радужной лестнице к себе, насвистывал под нос, и нарочито стучал каблуками, выпячивая свою благодать. В таком положении, понимаю, с него всё, как с гуся вода. И от упоминания бедняги Шмидта впечатления – ноль, будто бы и не называлось этого имени; этого следовало ожидать – и озорство приедается.