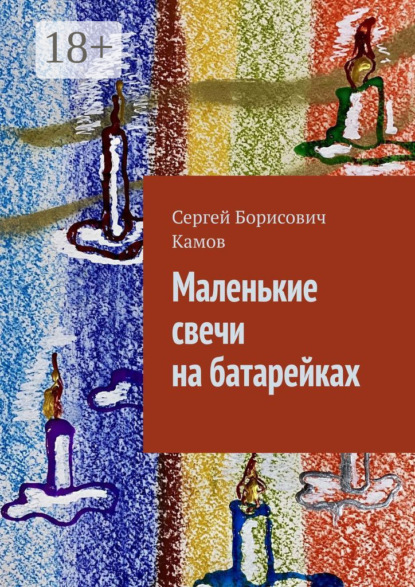- -
- 100%
- +
За спиной кто-то подошёл. Он не обернулся.
– Всё в порядке? – Это был Лёха.
– Да, – ответил Ваня. Голос чуть сорвался.
Ваня снова посмотрел на горизонт. Там сгущалась туча. Ни молний, ни града. Просто весомая тень.
– Нам не уйти от фронта, – сказал Ваня.
– Куришь?
Ваня кивнул.
Они закурили молча. Дым пошёл в сторону моря, растягиваясь в ровную нить. Снизу доносился гул. Голоса. Смех.
Лёха вслушался.
– Кают-компания. Похоже, весь цирк собрался.
Сирийцы смеялись заливисто – с перебивками, с кашлем, с глотками слов, которые сливались в неразборчивую речь. Кто-то хлопнул дверцей шкафчика, кто-то – краном по кастрюле, кто-то зашуршал пакетами с лапшой и сдобой.
– Нет! Нет, ты дурак! Тмин – в конце! А кориандр в начале, ты хочешь, чтобы у тебя живот закрылся?! – раздался отчётливый голос кока.
Молодой сириец отшучивался, не переставая смеяться, размахивая грязной ложкой. Затем он случайно смахнул стакан с водой – раздался звон, всплеск, чай растёкся по столу, кто-то возмущённо выкрикнул:
– Йалла, малой! Смотри, куда льёшь!
Смех усилился.
– Пошли, – тихо сказал Лёха. – Познакомишься ближе.
Он бросил окурок за борт и первым зашёл под рубку. Ваня задержался на секунду – вслушался. В этом гуле было что-то… странное. Слишком живое.
Он шагнул за Лёхой.
Дверь в кают-компанию скрипнула, впуская их в душное пространство. Потолочные лампы мигали. Запах жареного лука, дешёвого табака, старого пластика. На стенах – выцветшие плакаты с техникой безопасности, пара игральных карт, воткнутых в щель люка.
Внутри сидели все члены команды, не хватало только капитана и Жени.
Кок, Хомс, занял правый дальний угол, спиной к плите. Широкоплечий, с массивным круглым телом, словно вылепленным из теста. Кожа на лице блестит от жира и постоянного жара плиты – щёки всегда лоснятся. Волосы коротко острижены, макушка почти всегда мокрая от пота. Глаза внимательные, чёрные, постоянно бегают. На нём неизменно серый фартук, весь в пятнах масла и приправ. Руки крепкие, широкие, пальцы короткие и толстые, под ногтями – следы специй. Голос у него громкий, хрипловатый, всегда окрашен лёгкой обидой, будто каждое слово – упрёк. Над губой маленькая родинка, а нос – с толстой сплющенной переносицей. Он махал половником, как флагом, споря с молодым сирийцем о кориандре.
Боцман, Дараа. Брови густые, взгляд тяжёлый. Крупный, плечистый, почти не сутулится. Лицо угловатое, грубое, с густыми тёмными бровями. Глаза тяжёлые, с едва заметной желтизной в белках. Щетина тёмная, редкая, по лицу разбросаны мелкие шрамы. Рубашка всегда расстёгнута – на груди несколько блёклых татуировок: имя на арабском, змея и даты. Кожа смуглая, руки с венами и следами ожогов. Он не сводил глаз с телевизора, по которому показывали какой-то старый боевик на турецком.
Юнга, Дума. Самый молодой из всех, лет восемнадцать-девятнадцать. Лицо покрыто светлыми веснушками, особенно на носу и щеках. Глаза светло-карие, живые, постоянно улыбаются. Щёки впалые, рот широкий, в улыбке видны чуть кривые передние зубы. Волосы рыжеватые, торчат из-под выцветшей бейсболки с полустёртым логотипом. Фигура худощавая, подвижная, все движения резкие, как у подростка. Он стоял недалеко от Хомса и, смеясь, тыкал в него ложкой.
Рулевой, Латакия. Среднего роста, жилистый. Волосы очень коротко острижены, почти под ноль, на висках рано появилась седина. Лицо вытянутое, кожа матовая, сероватая. Зрачки необычно светлые, почти серые, взгляд прищуренный, будто всегда оценивает обстановку. Нос прямой, губы тонкие. Он сидел у иллюминатора, в ближнем левом углу, и молча крутил пачку, больше слушая судно, чем людей.
Кладовщик, Идлиб. Старше всех – лет шестьдесят. Седая, густая борода, местами с желтизной, как от табака. Лоб в глубоких складках, под глазами мешки от недосыпа. Щёки впалые, кожа сухая, с пятнами, где-то потрескавшаяся. Пальцы длинные, с большими суставами, ногти аккуратные. Одет в старую синюю рубаху и жилет. Держится особняком, но его присутствие чувствуется всегда. Он занял дальний левый угол, в полутени. Глаза глубокие, тёмные. На поясе всегда связка ключей, самый большой из них – на отдельном кольце.
По правому борту, ближе к проходу, сидел старший матрос, Алеппо. Худощавый, почти тощий, движения резкие и нервные. Лицо вытянутое, с заострёнными скулами, губы тонкие, часто поджаты. Глаза карие, быстрые, постоянно бегают по сторонам. Волосы тёмные, коротко подстрижены, лоб высокий, иногда выступают вены на висках. Кожа смуглая, есть шрам под нижней губой. Руки длинные, тонкие, пальцы нервно барабанят по столу или стучат по пачке сигарет. Говорит на смеси языков – резкая речь, обрывистые фразы. Одет в светлую футболку и чёрные штаны, старые сандалии.
Между ним и дверью пристроился электрик, Пальмир. Неприметный на первый взгляд. Среднего роста. Тихий, улыбчивый. Среднего роста, телосложение обычное, даже неприметное. Лицо овальное, улыбка тёплая, но будто ненастоящая, немного напряжённая. Глаза серые, взгляд блуждающий, часто смотрит себе под ноги или в угол. Волосы русые, чуть вьются, собраны на затылке в маленький пучок. Пальцы тонкие, ногти обкусаны. Работал всегда молча. Иногда шептал себе под нос.
Когда Лёха и Ваня зашли в кают-компанию, шум не прекратился, но начал оседать. Особо на них не обратили внимания, всего пара взглядов скользнула в сторону Лёхи. Ещё пара – в сторону Вани. Алеппо сказал что-то короткое по-арабски. Остальные захихикали, но уже тише. Ваня хотел пройти внутрь кают-кампании, но Лёха остановил его.
– Первый раз, – проговорил он негромко.
Ваня повернулся.
– Что?
– Занятно, что они впервые собрались все вместе, – сказал Лёха, кивнув в сторону стола.
Он замолчал. Ваня не совсем понял смысл сказанного.
Ваня почувствовал, как Лёха слегка коснулся его локтя, и послушно шагнул в сторону. Они прошли мимо стола – по узкому проходу между лавками и стеной. За спиной раздался глухой смешок.
Лёха остановился у стены, где тусклая лампа бросала дрожащий свет на потёртую фанеру. Повернулся к Ване, будто отвлекаясь от собственных мыслей.
– Тут, – Лёха чуть кивнул в сторону камбуза, – года три назад… двое пропали. Прямо во время рейса. Один был из Дамаска, электрик, второй – с юга, подсобный. Просто исчезли. Вроде как ночью: один спал здесь, вон на том месте, – Лёха показал на дальний угол, где сейчас сидел Пальмир, – а утром его уже не было. Второго видели последний раз на палубе, возле трапа.
Он говорил тихо, почти шептал.
– Судно перевернули. Ни следа. С тех пор, – продолжил он, – все, кто с того рейса, стараются не собираться вместе. Не любят. Говорят – не к добру. Понимаешь, Вань, сколько ни ходим, всегда кто-то пропадает или сходит с ума – в каждом рейсе, где хоть один есть из этой семёрки. Все думают – случайность. А я смотрю – закономерность. И самая крепкая закономерность тут – это «RИО».
Лёха замолчал, разглядывая команду через плечо.
– Тут, Вань, каждый как пороховая бочка. Стоит им собраться всем вместе… И мне самому не по себе.
Он устало откинулся к стене и тихо добавил:
– Ты знаешь, сколько у этого корыта было имён?
Ваня ничего не ответил. Ему вдруг стало невыносимо тесно под мутной лампой и взглядами из-за стола. Он чувствовал, как внутри поднимается знакомая тошнота – не от жары, не от запахов, а от самого ощущения, что он становится частью этого судна. Всё казалось чужим: голоса, усталый полушёпот Лёхи, ржавый корпус корабля.
Он устал. До одури устал от этих разговоров, от постоянной настороженности, от чужих историй, которые звучали как предчувствие беды. Хотелось вырваться наружу, вдохнуть холодный воздух, чтобы всё исчезло – и эта кают-компания, и эти взгляды, и сам Лёха с его законами морских примет.
Но выхода не было. Он, как всегда, плыл по течению. Всё, что оставалось, – стоять, слушать и ждать, когда это наконец закончится.
Потом – Smaragda. Во время рейса сошёл с ума моторист. Он бил себя ключом по голове, пока не проломил себе череп, его голова была похожа на разбитое яйцо на Пасху. Дальше – Global Mokpo, потом Blue Sky. Под корейским флагом. Команду дважды сменили за рейс.
– А новый экипаж как доставляли, если судно в море? – Ваня пристально посмотрел на Лёху.
Лёха устало продолжил:
– Прямо на ходу. Катер с лоцманами догоняет ночью, быстро сбрасывают трап, – старых вниз по верёвочной лестнице, новых по ней же наверх. Бывало, за ночь сменят половину. Старых по-тихому списывают, новых втёмную заводят. Ни бумаг, ни приветствий. Просыпаешься утром – напротив кто-то новый чай пьёт. Лица другие, глаза пустые. Иногда вообще по одному затаскивали – под дождём, при волне. Бывает, стоишь на палубе, смотришь – из темноты вылезает чужое лицо. Так вот, Blue Sky под корейским флагом, там экипаж в прямом смысле не выдерживал. Один со страху выбросился за борт. Когда его попытались спасти, он отказался подниматься на борт судна, и море забрало его. Потом Reina Cristina. Панама. Красивое имя. Был шторм – судно простояло тридцать часов без двигателя, дрейфуя к берегу. Капитан после этого ослеп. Потом – HH 18, Того. Молчаливое имя, пустое. В тот рейс, говорят, один матрос ночью пошёл в трюм и не вернулся. Нашли только записку и его отрубленную руку.
Лёха осмотрел взглядом кают-компанию и глубоко выдохнул в сторону двери.
– А теперь – «RИО».
Ваня смотрел на Лёху, в его лице чувствовались страх и потрясение.
– Откуда ты всё это… – Ваня не успел договорить, как в кают-компании поднялся шорох.
…Шорох. Не шум, не смех – именно шорох. Как будто кто-то скользнул по полу, как тень. Все взгляды сидящих в кают-компании мгновенно устремились в одну точку. На дверь.
Дверь, что вела в коридор, по которому можно было попасть в рубку и капитанскую каюту.
Она была закрыта. Но внезапно начала двигаться.
Не открываться. Не скрипеть. Просто… двигаться. Медленно, почти незаметно, словно её толкали изнутри невидимые пальцы. Сначала чуть приоткрылась – на сантиметр. Потом ещё на полсантиметра.
В кают-компании воцарилась тишина.
– Йа Альлах… – прошептал электрик Пальмир, его взгляд застыл на двери, лицо побледнело.
Лёха резко шагнул вперёд, перегородив Ване путь к выходу. Его рука сжалась в кулак, но к двери он не пошёл.
– Тихо, – едва слышно прошипел он, Ваня с трудом разобрал то, что он сказал. – Ни звука.
Дверь снова приоткрылась. На этот раз – шире. На три сантиметра. И в образовавшейся щели в темноте коридора что-то мелькнуло.
Не человек. Не тень. Что-то другое. Быстро, как муха, пролетело по внутренней стороне дверного проёма.
Запах жареного лука и табака исчез, заменившись чем-то металлическим, кислым – запахом страха.
Затем, в самой глубине коридора за дверью что-то щёлкнуло.
Там, в щели, между дверью и полом, медленно, с невероятной осторожностью выползла рука.
Не человеческая. Не покрытая кожей. Она была… металлической. Гладкой, блестящей, как только что отполированная сталь. На ней не было пальцев. Вместо них – три тонких, изогнутых крюка, острых как иглы. Они медленно, почти незаметно цеплялись за край порога, тянули что-то за собой.
За рукой показалась часть туловища. Тоже металлическая, покрытая тем же гладким, блестящим материалом. На груди – тусклый, выцветший значок. Небольшой, но чёткий. Логотип. Символ.
«RИО».
Идлиб с трудом сглотнул. Его сухие губы дрожали.
– Барабаны… – прошептал он, голос был хриплым, как у старика, которому не хватает воздуха. – Это барабаны…
Ваня не понял. Что за барабаны? Но он видел, как лицо Лёхи побледнело. Как его рука, сжатая в кулак, начала дрожать. Как все, кто был в кают-компании, замерли, будто их заколдовали. Только эта металлическая рука двигалась. Медленно. Упорно. Цепляясь за пол, она тянула за собой что-то огромное, тяжёлое, что скрипело и стонало в темноте коридора.
И тогда из этой темноты раздался звук.
Стук.
Монотонный, ритмичный, как метроном. Стук металла о металл. Громкий. Отчётливый. И он становился всё ближе.
Тук.
Тук.
Тук.
Словно кто-то шёл. По коридору. К двери. К ним.
Тук.
Тук.
Тук.
ТУК. ТУК. ТУК.
ТУК. ТУК. ТУК.
– Знаешь… – закончил фразу Ваня. Его взгляд смотрел сквозь Лёху за его спину.
Лёха моргнул, и в глазах появилось удивление, он медленно огляделся. Хомс, Дараа, Дума, Латакия, Идлиб, Алеппо, Пальмир – все сидели на своих местах. Как будто ничего и не происходило.
Ничего необычного.
Но… что-то было не так.
– Барабаны… – голос Вани дрожал.
Лёха медленно повернулся к нему.
– Что ты сказал, Вань? – спросил он. – Про люк в трюме? Да, там иногда стучит. Ничего страшного.
Ваня почувствовал, как внутри него что-то сжалось. Никто не видел? Что это было? Или… они видели, но не хотели признавать. Или… они не могли.
Он посмотрел на сирийцев. Хомс снова начал спорить, но его голос был немного выше, чем обычно. Молодой сириец смотрел на свою ложку, как будто пытался вспомнить, зачем он её держит. Дума сидел тихо, его глаза всё ещё были прикованы к двери.
Ваня почувствовал, как холодный пот стекает по его спине.
И где-то внутри, в глубине его сознания, продолжался стук.
Тук. Тук. Тук.
Ваня резко оттолкнул Лёху локтем – ему срочно нужно было выбраться отсюда. Из этой тесноты. От этого запаха – кислого, солёного, человеческого. Смрад пота, железа, приправ. Он вдруг понял: он чувствует этот запах всюду.
В каюте – на подушке.
В камбузе – в чечевичной каше.
На мостике – в приборной панели и в кнопках.
В кают-компании – в дыхании всех семерых.
И даже в гальюне, где запахи должны быть совсем другими.
Он больше не мог.
Выбежал, почти не разбирая пути. Шаги гремели по трапу, плечо задело поручень – боли не почувствовал. Вырвался на палубу. Сквозь ветер. Сквозь ржавчину. Сквозь металл.
Тело шатнуло. Он опёрся ладонями о холодный борт. Уже начало темнеть. Бриз стал влажнее. С запада тянуло сырой тенью. Он закрыл глаза.
Глубокая
тишина
моря.
КРИК. Пронзительный. Влажный. Подводный. Не мужской.
И не совсем женский. Крик тонущего человека – с хрипом, как будто его рвёт изнутри вода. Ваня замер. Он посмотрел вниз. За борт. Море было ровным. Почти масляным. Но под поверхностью… что-то шевелилось. И лицо. Женское. Бледное. Полурастворённое водой. Глаза раскрыты. Волосы плавают, будто тянутся к нему. Рот открыт. Как будто кричит. Или зовёт. Он не мог отвести взгляд. Не мог моргнуть. Это была она.
Настя.
Та самая. Он узнал по глазам. Только теперь в её глазах не было страха. Она смотрела прямо на него. Не просила. Не умоляла. А обвиняла. Ваня отшатнулся. Сердце билось слишком громко. Но лицо не исчезло. Оно всплыло в памяти. И вместе с ним – голос. Её шёпот:
– Почему ты тогда не спас меня? Почему ты просто ушёл?
Он упал на колени. Руки дрожали. Палуба была холодной. Море – ещё холоднее.
И ночь только начиналась.
Глава 7. Дараа
В марте 2011-го улицы города Дараа впервые наполнились дымом. Город больше не знал утреннего азана и тёплого ветра, пахнущего хлебом, теперь пахло гарью. Сначала всё казалось почти детской игрой: мальчишки рисовали на стенах лозунги «Сирия – свобода!», «Народ – единый!». Юсеф смотрел на это с крыши своего дома. Тогда он думал, что это не страшно.
Потом были аресты. Тех самых мальчишек. Им было всего четырнадцать, пятнадцать – голоса ещё не окрепли, пальцы ещё пахли чернилами школьных тетрадей. Солдаты забирали их прямо из школы: тащили по пыльным коридорам, мимо старых дверей с облупившейся краской. Детей пытали. Ремни секли воздух – мягкий свист, который превращался в крик, когда рвалась кожа. Под ногти мальчишкам загоняли иглы, ломали пальцы.
Юсеф слышал, как матери плакали у ворот полицейского участка. Старые двери с ржавыми петлями закрыты наглухо, а снаружи – женщины. Они стояли в пыли, под полуденным солнцем, обмотав головы платками. Кто-то бил себя в грудь, кто-то царапал лицо, шептал молитвы.
– Верните хотя бы тело! – кричала одна. – Дайте похоронить, если вы его уже убили!
Голос её сорвался, стал хриплым, а потом – тишина. Снова плач, снова стоны. Кто-то присел на корточки, уткнулся лбом в ладони. Кто-то бросил камень в дверь участка. Юсеф видел это издалека – стоял, сжимая кулаки, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Он не знал, что сказать.
Никто не знал.
Когда слухи о пытках разлетелись по городу, мужчины вышли на улицу. Отцы с пыльными лицами, матери, у которых в глазах не осталось слёз. Шли к мечети Омара, шли к дому губернатора – шли, потому что молчать уже было невозможно.
Они несли с собой только слова:
– Верните наших детей.
– Дайте нам их обратно.
– Мы ничего не хотим – только их.
Но за словами уже слышался гул, который не стихал. Гул, от которого дрожали стены. Гул, который никто не мог остановить.
Юсеф был утром на рынке, когда пришли солдаты. И он понял: слова больше не значат ничего. Солдаты шли цепью – каски, автоматы, пустые взгляды. Они не кричали. Они просто стреляли.
Он помнил запах крови. Ещё не своей – чужой, горячей, с горьким привкусом металла. Она растекалась по пыльной мостовой, впитывалась в песок, который всегда был в трещинах его ботинок. Он тогда не знал, что такое страх. Ему казалось, что страх – это то, что чувствуют женщины, когда прячут детей в подвале.
Когда по рынку прокатилась первая очередь, он не побежал. Он знал, что в толпе ему не спастись. Кричащие люди, толкающие друг друга, запах горячего металла, выстрелы, которые разрывали воздух на части, – всё это было ловушкой. Он прижался к стене старой кофейни, плечо вжалось в грубую, потрескавшуюся штукатурку. Пальцы стиснуты в кулак – до боли в костяшках, до побелевших суставов. От каждого выстрела его тело вздрагивало.
Рядом кто-то застонал. Мальчишка, совсем ребёнок, лет пятнадцать, кровь стекала с разбитого лба. Он пытался подняться, хватаясь за пыльный асфальт пальцами, уже скользкими от собственной крови.
К ним шагнул солдат. Медленно, как будто не торопясь, – в глазах пустота. Он поднял автомат, чёрный металл блеснул под утренним светом. Ствол смотрел прямо в грудь Юсефа, и он понял – ещё миг, и всё. Всё кончится здесь, на этой мостовой, под этим рассветом.
Солдат подошёл к Юсефу очень близко. Это был его знакомый… с ним он ходил на дело в прошлом году – к аптеке на окраине, где они выносили из-под завалов лекарства для раненых. Тогда тот солдат, Ахмед, был ещё весёлым и всегда делился последним куском хлеба. Он даже шутил, что если когда-нибудь станет солдатом, то будет стрелять только в пустые стены.
– Ахмед… – прошептал Юсеф – Это я, Юсеф. Помнишь?
Солдат не ответил. Его взгляд скользнул по лицу Юсефа, без интереса и без эмоций.
Юсеф замер. Он видел каждую деталь: потёртую форму Ахмеда, грязный ремень, капельку пота, катящуюся по виску. Видел, как дрожит его палец на спусковом крючке. Ахмед видел его. Он помнил.
Юсеф не думал. Не было ни страха, ни вопросов – только крик в голове: «Ударь!» Ржавый кусок арматуры лежал у ног, мокрый от росы и крови. Он схватил его, почувствовав, как холод железа обжёг ладонь.
И ударил. С коротким вдохом, с рывком всего тела. Не в грудь – в горло. Слышал, как ломается хрящ, будто кто-то ломает старую доску. Солдат отшатнулся, глаза распахнулись. Руки дёрнулись. Изо рта пошла кровь, густая, тёмная.
Сердце Юсефа бешено колотилось в груди. Он смотрел на этого человека, который медленно оседал, хватаясь за шею, пытаясь вдохнуть. Крики, выстрелы, пыль – всё исчезло. Мир вокруг Юсефа покрыл мрак, большая чёрная сфера, в которой был он и этот человек. Время остановилось. Он ничего не слышал, не мог пошевелиться, просто смотрел на Ахмеда. Наверное, так продолжалось целую вечность.
И внезапно, как по щелчку пульта дистанционного управления, время снова пошло своим чередом. Солдат упал, задыхаясь, хватаясь за горло, а Юсеф уже бежал сквозь дым и крики. Руки дрожали. Он сделал то, что должен был.
Он шёл через узкие улочки, где пахло угарным газом и горелыми покрышками. Слышал, как вдалеке плачет женщина, как кто-то в тёмном подъезде шепчет молитвы. Мечеть была закрыта – впервые за всю его жизнь. Имам сказал: «Война не оставляет места для Аллаха. Только для смерти».
Он вернулся домой под утро. Его мать не спала – стояла у окна, вслушиваясь в каждый звук.
– Ты жив? – спросила она.
Он не ответил. Он не знал, что сказать.
Глава 8. Стук в переборке
Утро пришло без предупреждения. Не солнцем, а скрипом. Потёртая дверь в машинное отделение отозвалась дрожью по всему корпусу, будто кто-то слишком резко её толкнул. В каюте Вани пахло соляркой и потом. Запах не новый, но теперь он был другим. Как будто впитался глубже. Как будто всё, что происходило накануне вечером, оставило осадок, который не смыть ни душем, ни кофе. Он встал. Голова гудела. Во рту – металлический привкус. Вещи были разбросаны – он не помнил, как вернулся и разделся. За стенкой кто-то кашлял. Потом ругнулся по-арабски. Судно кренилось чуть правее – тянуло вбок, но ровно. Радар наверху работал, значит, Лёха уже поднялся. Или не ложился. Ваня быстро оделся, вышел в коридор. Прошёл мимо кают. Дверь в каюте Думы была приоткрыта. Тот спал свернувшись. В кают-компании пахло вчерашним чаем и холодной лапшой. Пальмир сидел у стены, щёлкал пальцами и что-то шептал. Глаза у него были мутные. Уставшие. Как будто он видел во сне то, что не хотел бы вспомнить.
– Утро, – сказал Лёха, появившись за его спиной. Он выглядел точно так же, как вчера: серьёзно, устало, в той же тельняшке. – Пойдём. Проверим палубу.
Они поднялись. Морской воздух ударил в грудь, как холодная ладонь. Дараа уже был там. Стоял у борта, курил. Смотрел на горизонт. Молча. Он не обернулся, даже когда Леха и Иван подошли к нему.
– Всё в порядке? – спросил его Лёха.
– Ничего не меняется, – ответил тот. Голос глухой, ровный.
Из рубки донёсся гулкий звук удара – Лебедев снова хлопнул дверью. Вероятнее всего, он опять не спал всю ночь. Ваня увидел, как капитан вытер лицо полотенцем, выкинул его в проход и пошёл наверх, к штурвалу, босиком. Глаза его были красные, губы – сухие. Но шаг уверенный.
Все молчали. Никто не спорил. Никто не кричал. Ваня всё чаще ловил себя на ощущении, будто где-то в переборке стучит. Ровно. Глухо. Ритмично. Не дизель. Не волна. Что-то другое. Вахту утром никто не распределял. Всё шло по накату: кто привык – тот шёл. Остальные курили, молчали, пили мутный чай. На палубе Дараа сменился без команды. Просто ушёл вниз. Лёха и Ваня прошлись вдоль борта. Обычный обход.
– Надо глянуть нижний ярус, – сказал Лёха. – Там под закладной тянуло чем-то. Вчера ещё.
Он говорил спокойно. Но у Вани защемило в груди. Снова вспомнился тот стук. Тот ритм. Как пульс.
– Я сам схожу, – сказал он. Лёха кивнул, не споря.
Внизу, под первым уровнем трюма, воздух стал плотнее. Как будто пыль и масло собирались в глотку. Свет был тусклым. Старые фонари мигали. Пахло гнилью, металлом и чем-то… сырым. Странно сырым – как в затопленном подвале. Он спустился ниже. Держал руку на стене – металл был холодный. Ладонь будто вибрировала, улавливая еле заметные чужие импульсы.
Шаг. Ещё шаг.
И глухой звук. Тот самый. Будто кто-то снова ударил в переборку.
Ровно. Один раз.
Ваня замер. Прислушался. Тишина. Только капало с трубы или с потолка. Он присел, провёл пальцами по металлическому полу. И тут – второй удар. Точно такой же. Не волна.
Чужой ритм.
Он встал. Не побежал, но быстро вышел наверх. Лицо было бледным, серым. Он сел на край лестницы. Вскоре подошёл Лёха.
– Нашёл? – спросил тот. Ваня кивнул. – Нет. Но что-то там есть.
Ваня вытер лоб тыльной стороной ладони. Внезапно что-то щёлкнуло. Глухо, резко. В следующее мгновение судно дёрнуло. Не как на волне – рывком, коротко, словно его зацепило что-то внизу. Ваню отбросило в сторону – он успел схватиться за леер. Лёха от резкого толчка упал, но тут же вскочил, резко развернулся и побежал к краю судна. Из машинного отделения послышался грохот и почти сразу – резкий визг, будто по металлу провели ржавым ножом. За ним – чей-то крик.
Женя.
Ваня рванул вниз в машинное. Коридоры словно сжались. Воздух – горячий, с примесью копоти. У лестницы пахло гарью. Внутри – каша дыма, пара, масла. Кто-то уже нёс огнетушитель. Лампа мигала. Женя стоял у корпуса дизеля, прижимая тряпку к плечу. Рука в крови.
– Давление рухнуло! – прокричал он. – Топливная подача сорвана!
Пальмир метался по углам, хватая старые ремкомплекты. Клапан был сорван. Один из соединительных патрубков лопнул. Металл выглядел так, будто его вывернули изнутри. Это не просто износ. Это не коррозия.