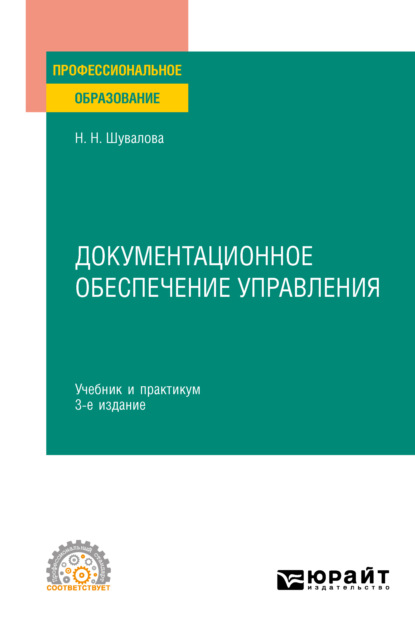- -
- 100%
- +
Пальмир что-то прокричал на арабском. Потом сказал:
– Я слышал бум!
Лёха схватился за рубильник, отключил подачу. Судно заглохло. Мёртвая тишина. Даже дизель не стонал. Женя сел на ящик, стиснув зубы.
– Надолго? – спросил Ваня, имея в виду, сколько времени уйдёт на ремонт топливной системы. Женя фыркнул:
– Если обойдёмся без сварки – сутки. Если нет – прощай, рейс.
Судно теперь дрейфовало. Без энергии. Без курса. Лёха посмотрел на Ваню:
– Ты же сказал – там что-то есть.
Женя встал с ящика. Его лицо было напряжённым, рот сжат, глаза блестели от ярости. Ваня стоял у двери, не двигаясь. Он слышал, как механик идёт к нему. Тяжело. Ровно. Женя подошёл вплотную.
– Это всё ты, – прохрипел он. – Ты… чёртов «помощник». Ни черта не делаешь. Только шастаешь по трюмам, разговариваешь с капитаном, которого никто из нас больше и не видит. А потом – бах! – и всё идёт к чёрту!
Он резко толкнул Ваню в грудь. Тот отступил на шаг, но не упал.
– Что ты знаешь?! – прорычал Женя. – А? Что ты там видел? Что за херня у нас внизу? Почему капитан пьёт и не разговаривает ни с кем? Отвечай, мать твою!
Он ударил. Кулак пришёлся в скулу, резко, сбоку. Ваня качнулся, врезался в переборку. Осел. Женя шагнул ближе, схватил его за ворот куртки.
– Говори! – зарычал он. – Ты что, блатной? Может, ты вообще…
– Достаточно, – сказал Лёха. Он стоял позади тенью. – Отпусти его.
– А ты что, защитник? – Женя обернулся, всё ещё держа Ваню. – Тебе не похрен? Этот мудак появился из ниоткуда! Кто он? Или ты тоже…
Он разжал пальцы и как будто в подтверждение слов ударил. Лёха отшатнулся, кровь выступила из рассечённой губы. Женя шагнул вперёд. Но не успел. Лёха наклонился и в следующую секунду ударил локтем в солнечное сплетение, без замаха. Женя согнулся. Лёха развернулся, захватил руку, резко опустил вниз, вывернув запястье.
Раз – колено под колено. Два – разворот корпусом. Женя оказался лицом вниз, рука за спиной, ноги вбок. Он дёрнулся, но было поздно. Лёха сел коленом ему на лопатки.
– Не надо, – сказал он тихо. Женя задышал шумно, тяжело. Он не пытался вырваться.
– У нас и так проблемы на судне, – сказал Лёха. – Ты хочешь, чтобы ещё и мы тут перегрызлись?
Лёха встал. Не резко, спокойно. Женя поднялся не сразу. Ваня сел спиной к стенке. Щека горела. Он смотрел, как Лёха вытирает губу, криво усмехается.
– Ты тренер по айкидо? – прохрипел он.
– Нет, – сказал Лёха. – Просто вспомнил пару приёмов, которые изучал в детстве.
Двигатель, который так и не запустился,
снова наполнил весь коридор
своей мрачной тишиной.
Он зажмурился. Щека горела, но боль не была главной. Гораздо хуже был вкус унижения. Он знал этот вкус с детства. Горький, с привкусом металла. Такой же, как в тот день, когда она сказала: «Ты вообще зачем родился?»
Сестра. Марина.
Безупречная. Талантливая. Любимица отца. Она никогда не кричала. Её голос всегда был тихим – и от этого ещё больнее. Она складывала свои тетради аккуратно, по цветам. И презирала беспорядок.
– Как ты вообще живёшь? – говорила она, когда Ваня приходил домой с улицы. Отец стоял позади.
– Он у нас художник, – с усмешкой говорил он. – У него душа тонкая.
– Душа не заменит мозгов, – парировала Марина. – И силы. И воли.
Когда Ваня впервые показал свой рисунок – не корабль, не схему, а картину, – она посмотрела на него, как на грязное пятно на рубашке. Зачем это? Кому это нужно? Ты что, девочка? У нас в семье командуют, а не размазывают акварель по бумаге. Он тогда убежал в комнату. Заперся.
Марина верила в порядок. В систему. В расчёт. А он был сбоем. Он был ошибкой. И если бы можно было, она бы стёрла его ластиком, как неудачную линию чертежа. Она никогда не говорила «прости». Никогда не смотрела ему в глаза. И теперь – столько лет спустя – он всё ещё чувствовал её голос внутри. Тот, что говорил: ты слабый. Даже если Ваня его не слышал – он звучал. Где-то глубоко. Громче ударов. Громче шума моря. Он мог только молчать и убегать, и те, кто смотрел ему в спину, насмехались над ним. Он не мог повернуться, потому что боялся, что увидит только смех.
Мать очень переживала за Ваню, подолгу с ним разговаривала. Смотрела. Чувствовала. Она понимала его, гладила по голове, утешала. Он был благодарен ей, но всегда понимал, что она это делает только из-за жалости.
В жизни
нет ничего
хуже жалости.
Капитан появился не сразу. Сначала был только скрип. Не лестницы – суставов. Потом – шаги. Глухие, тяжёлые. По металлу босыми пятками. Он спустился медленно, ему было ещё трудно удерживать равновесие, и он ни на кого не смотрел. В левой руке – пустая бутылка, обёрнутая в тряпку. Правая – сжата в кулак, будто всё ещё держала штурвал. Лицо у Лебедева было опухшее. Глаза налиты кровью. Кожа серовато-жёлтая, как у человека, который не спал две ночи и пил три дня. Он весь пропах виски – затхлым, кислым, прожигающим, как пары скипидара.
Остановившись в проходе, он молча оглядел Ваню, Лёху, Женю. Губы дёрнулись, но он заговорил не сразу. Сначала просто смотрел. Медленно. Жёстко.
– Значит, так. На этом судне нет драк. Здесь есть только порядок. – Голос был хриплым, будто его выжгли спиртом. Он пошатнулся, но поймал равновесие.
– Ты, – он ткнул пальцем в Ваню, – и ты, – в Женю. – Вниз. Запретка. До отбоя. Без еды. Без сигарет. Без разговоров. Я вас не слышу, не вижу, не знаю.
Женя шумно выдохнул, ударил кулаком по стене – не в ярости, а скорее чтобы сбить внутренний жар. Потом растёр лицо ладонями и, не глядя на Ваню, заговорил:
– Ну и пиздец. Просто охуеть можно. Судно дрифтует, дизель ссыкливо гудит, гирокомпас орёт, – и кого, блядь, капитан в запретку отправляет? Механика. Меня. Он покачал головой, усмехаясь, но без веселья. – Нормально, да? Механика. Не повара. Не этого Пальмира, который ночью лампочки кормит молитвами. Не Хомса, который лук пережаривает до состояния боевого газа. А меня, сука. Потому что я, видишь ли, вмазал этому чмошнику.
Он замолчал на секунду, потом сплюнул. Глаза Лебедева налились кровью, теперь он был похож на раскалённый молот.
– Молчать! – прокричал капитан, его голос был наполнен силой, силой утраченных лет, и потом в ярости бросил бутылку в стену, но она не разбилась, а только стукнулась с глухим звуком.
Лебедев повёл Ваню и Женю в запретку. Он шёл впереди, волоча ногу, не как командир, как палач, уставший от своей работы. Лестница скрипнула под ним.
Запретка – это тюрьма на корабле. Мрачное, сырое, забытое место, куда сажали дебоширов, нарушителей дисциплины, тех, кто осмелился перечить воле капитана или посмел поднять руку на товарища. Находится она в самом низу судна. Где нет иллюминаторов, нет света, кроме того, что пробивается сквозь щели в ржавых люках.
Лебедев открыл ржавую дверь в старый отсек. Втолкнул Ваню и Женю внутрь.
Ваня не сопротивлялся.
Женя – да. В последний момент, когда Лебедев уже толкал его спиной к порогу, он резко дёрнулся. Отмахнулся – не от страха, а от ярости. Кулак его мелькнул в воздухе, чуть не задев капитана. Не ударил – не успел. Но этот жест, этот рефлекс неповиновения, этот короткий взрыв гордости всё равно был слышен.
– Эй! – вырвалось у Жени, но голос сорвался, превратившись в хрип.
Лебедев даже не поморщился. Только сильнее сжал его плечо, вдавил в отсек, как в гроб. И тут же захлопнул дверь. Замок щёлкнул.
Снаружи послышался тихий, усталый вздох Лебедева. А внутри – только шум дыхания двух парней: одного – ровный, подавленный; другого – прерывистый, злой.
– Отдыхайте, – сказал Лебедев.
Ваня стоял. Женя уже опустился на пол, упёршись в стену. Пот с него стекал каплями.
– Надеюсь, ты доволен, – выдохнул Женя. – Я, блядь, не святой, но ты сам видел, что тут творится. Все уже поплыли. Лебедев не просыхает, мостик держится на молитвах Лёхи, палубу моют не ради чистоты, а чтоб не слышать, как она скрипит. А теперь ещё и это… – Женя махнул рукой в воздух. – И ты… – он взглянул на Ваню. – Тут всё на соплях держится, а я… в чёртовой дыре. Он облокотился на колено, уставился в пол. – Если нас шторм цепанёт, а я буду тут сидеть, без доступа к щитовой – всё, нам пиздец.
Потом выдохнул, уже тише:
– Да я даже не могу сказать никому… чтоб на маслопровод глянули. – Он снова притих.
Как всегда, Ваня молчал. Он присел в угол. Глаза быстро привыкли к темноте, и он увидел, что на стене было что-то нацарапано. Он провёл пальцами по букве. Краска облупилась. Он провёл пальцами ещё раз. Под облупленной краской проступали неровные буквы. Царапины. Строчки. Кто-то сидел здесь до них. Долго. Кто-то – с ножом или ключом. Он начал различать: R… E… I… N… A. Он прищурился. REINA CHRISTINA – имя, знакомое ему по карте. Одно из прежних названий «RИО». До него было Blue Sky. Перед ним – Global Mokpo. Ещё раньше – Smaragda. А в самом начале – Super Venture. Всё одно и то же судно. Одно и то же тело, только с разными именами. Под строчкой – тонкие метки. Почти стёртые слова.
ТУТ НАС БЫЛО ВОСЕМЬ. ТРОЕ УШЛИ ЗА БОРТ. ОНИ ШЕПЧУТ НОЧЬЮ. ГРУЗ НЕ ОТКРЫВАТЬ. R.I.P. ISMAEL.
Ваня отдёрнул руку. Как будто металл под ней стал горячим. Женя что-то бурчал себе под нос в углу, но Ваня не слышал. Его будто вывернуло изнутри. Эти надписи – как голос, прорезавшийся через десятилетия. Он провёл пальцами ещё раз – аккуратно, как по шраму. Надписи не исчезли.
Тук.
Один удар. Ровный. Глухой. Прямо под ногами. Как дыхание. Как шаг. Как сердце. Судно, оно… отвечало.
Глава 9. Женя
Женя никогда не мечтал стать механиком. Он вообще ни о чём не мечтал. Мечты были для тех, у кого были выходные. Всё, что у него было, – это дожить до вечера. Не опоздать на смену. Не уснуть в автобусе. Не схлопотать пинка от прораба. Купить на сдачу сигареты – «Приму» в жёлтой пачке, без фильтра. И если повезёт – банку тушёнки. Самую дешёвую, где мяса – с гулькин нос, но всё равно праздник. Он жил в старом доме на окраине Таганрога, на пятом этаже. Лифт не работал с девяносто восьмого, ступеньки шатались под ногами, краска на стенах облезла, как старая кожа. Коммуналка была серая, как зима. Ванна текла, проводка гудела, соседка за стенкой кричала на мужа даже во сне. Его комната – семь квадратов. Мебель? Какая мебель. Всё, что стояло в комнате, было собрано с помоек. Шкаф – без дверцы, стул – с надломленной ножкой. Железная кровать, продавленная до пола, облезший стол, трещина в потолке и кусок фанеры, которым он закрыл выбитое окно. Зимой дуло так, что дыхание превращалось в пар. Обогреватель сгорел сразу после покупки примерно на второй неделе. Он грелся, накрывшись старым армейским плащом, и прикладывал к груди бутылку с горячей водой. Полы были ледяными. Мыши – наглыми. Холодильника не было, поэтому он ставил еду за окно, обвязав её верёвкой, чтобы вороны не спёрли.
Обои у изголовья кровати отклеились, и в щель смотрела плесень. Он не замечал этого. Просто жил. Просто просыпался, натягивал на себя шапку и выходил в промозглое утро, чтобы снова работать. Кто ты сегодня, Женя? Грузчик? Подсобник? Пескоструйщик? Он был ничем. Пылинкой в системе, куском мяса с паспортом. Но он жил. Потому что не знал, как не жить.
Шея болела постоянно, гудела тянущей болью, будто кто-то медленно затягивал на ней верёвку. Руки ныли – не от работы, а от холода, который вцеплялся в кости и не отпускал даже под одеялом. Пальцы плохо сгибались по утрам. Ломило запястья. Он прекрасно знал эту боль: с утра – лёгкий хруст в шее, к полудню – тянущая боль в пояснице, вечером – тупой спазм между лопатками.
Он был один. По-настоящему. С тех пор, как мать ушла. Не умерла – просто однажды вечером подошла к двери, оделась молча, не глядя в его сторону, и сказала: «Ты справишься». Ему тогда было семнадцать. Он не спросил куда. Не плакал. Просто стоял и слушал, как закрывается дверь. После – тишина. Она не писала. Не звонила. Вроде была, и вот – её больше нет. Как сдувшийся шарик на детском празднике. Отца он не знал. Никогда. Только фото с порванным краем и фраза: «Ты в него».
Он всё ещё жил один. Работал один. Ел один. Где тишина была такой плотной, что казалось, она дышит.
И он привык. Он даже не думал, что можно иначе.
Пока не появился кот.
Махонький, чёрный, с белым пятном на носу – будто кто-то ткнул его пальцем в самый центр морды. Женя нашёл его зимой, когда шёл с ночной подработки. У контейнеров было темно и тихо, но среди коробок и ледяных пакетов вдруг раздался еле слышный писк. Котёнок дрожал так, что шерсть на спине стояла дыбом, лапы не слушались, а дыхание сбивалось от холода. Он прижался к старому сапогу Жени, как будто чувствовал, кто из всех проходящих не прогонит. Женя молча поднял его. Котёнок не царапался, не вырывался. Только пискнул – и замолчал, свернувшись у него в ладони. Через минуту уже спал, прижавшись щекой к загрубевшей руке.
С того вечера они были вместе. Женя клал его в старую картонную коробку, стелил газету и прикрывал своей фуфайкой. Кот ел всё, что оставалось после смены: крохи от хлеба, кожуру от колбасы, капли растаявшего маргарина. А сам Женя ел только то, что не шло коту. По вечерам они сидели вдвоём у окна. Кот ловил глазами тень от фонаря, перебирал лапами по подоконнику, и начинал мурлыкать. Глухо, с хрипотцой – как будто в его груди работал мотор. Этот звук шёл сквозь вечернюю тоску, и у Жени в груди в эти мгновения исчезала пустота. Они не разговаривали. Они просто были. И этого хватало. Он называл его Мишкой. Гладил за ухом и говорил: «Мы прорвёмся, Мишаня, правда ведь?» И кот отвечал – не словами, а глазами.
Но однажды всё исчезло.
Обычно Мишка, как только слышал щелчок замка в комнате, ждал его у двери, потом прижимался к ноге, терялся в сапогах, урчал, просился на руки. Но в тот вечер – тишина. Дверь была чуть приоткрыта – Женя заметил это не сразу. Может, кот проскользнул в щель и вышел из комнаты.
Оббежав всю коммуналку и не найдя Мишку, он бросил сумку, выскочил на лестничную площадку, босиком, в одной рубашке. Кричал. Шептал. Звал. Несколько раз пробежал вдоль подъезда, заглядывая в каждый угол, под каждый припаркованный жигуль. Соседи оборачивались, кто-то ворчал, кто-то просто отворачивался. Он прошёл по всему двору. Потом полез в подвал. Туда, где пахло сыростью и канализацией, где провода свисали с потолка, где валялись бутылки, тряпки, где обычно прятались те, кому некуда идти. Он увидел его не сразу. Только когда шагнул вглубь и посветил телефоном под старый бак. Мишка лежал свернувшись. Маленький, грязный, весь в пыли. Один бок – с вмятиной. Как будто кто-то ударил с силой, с размаху. Глаза были приоткрыты. Не испуганные. Просто пустые. Женя опустился рядом с ним на бетон. Взял его на руки. Медленно. Осторожно. Крови почти не было. Только шерсть сбилась, и лапы были вывернуты как-то неестественно. Он держал его, как в тот первый день. Гладил за ушком. Шептал, не помня что. Говорил, как будто Мишка спит. Как будто сейчас откроет глаза. Он сидел так до самой ночи. В подвале. Один. Даже не плакал. Просто сидел. Держал. И знал: это была последняя капля. Не потому, что это был не просто кот. А потому, что это был единственный, кто ждал его.
После этого он перестал говорить с людьми. Просто работал. Переехал в другой город. Потом – на побережье. Случайный знакомый подсказал: «Иди в море. Там платят. Там никто даже не спросит, кто ты». Мечты всё равно не было, но была цель: не возвращаться. Никогда. Он плавал под самыми грязными флагами, спал в котельных, ел консервированные помои, ремонтировал старые генераторы и затыкал течи голыми руками. Он научился работать на износ. Его звали Женей, потом Ваней, потом просто «чел». Он никому не рассказывал про Мишку. Никому не говорил, что каждую ночь он кладёт в карман маленький ключ от старого замка, который когда-то клал в старую картонную коробку. Там, где спал Мишка. Этот ключ он носил с собой всегда. На рейс. В машинное. В каюту. Он не говорил, что каждое утро смотрит в иллюминатор и ждёт: вдруг снова появится кто-то, кто скажет, что ты не один. Пока никто не сказал. Но он ждал. Тихо. Стиснув зубы. Как всегда.
Глава 10. Запретка
Сначала было просто душно. Не тот жар, что идёт от солярки, а густой, вязкий, липкий. Труба над головой гудела лениво. Ваня сидел у стены, закрыв глаза. Грудь тяжело поднималась. Лоб покрылся испариной. Воздуха не хватало. Женя молчал. Плечи у него вздрагивали, пальцы двигались, будто он что-то пересчитывал – шаги? Удары сердца? Время до рассвета?
Потом – запах. Не как краска. Не как масло. А что-то сладкое. Тягучее. Как будто рядом пролили горячий компот, который скис. Старый чай с гнильцой. Или вино, забытое на солнце. Запах был неотступным – он не бил в нос, не давил, а обволакивал. Как вата, как старая перина, которую натянули на лицо. Казалось, он просачивался из стен. Из ржавчины. Из самого металла. Сначала Ваня подумал, что это просто духота. Но потом запах стал меняться. В нём появились другие нотки: мокрый трюм, пыль из-под переборки, что-то тёплое…. Он проникал в ноздри, застревал в горле. Ваня открыл глаза. Потолок дрожал. Не качался – именно дрожал. Воздух начал пульсировать. А потом – запах стал… живым. Как будто он что-то шептал. Он моргнул, сцепил пальцы, вцепился в пол. Женя тяжело выдохнул, прислонился к двери.
– Жарко… ты чувствуешь?.. – голос Жени был глухим, в нём что-то булькало. Ваня не ответил. Он сидел, уставившись в угол запретки.
Там было что-то.
Слой пыли чуть смят, как будто его только что задели ногой. А на стене – не просто тень. Очертания. Размытые, как на стекле после дождя. Будто кто-то приложился к стене спиной. Или вдавил в неё лицо. Ваня моргнул. Лоб был мокрый, по спине тёк пот, тело не двигалось – будто парализовало. Он пытался дышать, но воздух был… тяжёлым. Влажным. Как воздух в трюме, полном гниющей капусты и мокрых мешков с солью. Откуда-то шёл звук. Дальний. Гулкий. Похожий на стук, но не по металлу. Он не был громким, но он был – и именно этим страшен. Ваня снова глянул в угол. Очертания… стали чётче. И в какой-то момент он понял – это лицо. Или его остаток. Глазницы проваленные, нос как ямка, губы вытянуты. Будто в стене кто-то кричал, но металл его не выпускал. Или впитал навсегда. Женя по-прежнему тёр пальцами ладонь, но теперь он не смотрел в пол. Он смотрел прямо на стену. И шептал, почти не разжимая губ:
– Ты это тоже… видишь? – Женя закашлялся. Резко. Схватился за живот. – Блядь… воздух. Что за… воздух?! – он начал стучать по стене.
Ваня моргнул. Один раз. Второй. Глаза резало от жары, от пыли. Запах был тягучим. Комната будто качалась – чуть-чуть, как при шторме, но судно стояло. Или двигалось? Женя снова закашлялся, выругался, ударил кулаком в стену. Звук был глухим, как удар по плоти, а не по металлу. Воздух… воздух не двигался. Он стоял. Слепой. Вязкий. Ваня чувствовал его в горле, в ноздрях, под ногтями. Он зажмурился – крепко. А потом открыл глаза.
И она была там.
Настя.
Сначала – просто силуэт. Потом – детали. Волосы тёмные, спутанные, слипшиеся. Лицо бледное, почти серое, с водяными прожилками у щёк. Она стояла в углу. Там, где только что было лицо в металле. Молча. Смотрела. Прямо на него. Губы приоткрыты. Ресницы мокрые. По щиколотку в крови? Он не знал.
– Настя… – прошептал Ваня, сам не слыша себя.
Она не двигалась. Только моргнула. Медленно. Как будто с упрёком.
И вдруг – резкий всхлип.
Женя.
Ваня дёрнулся, обернулся. Женя сидел, прижавшись к противоположной стене. Лицо его было белым, как у мертвеца, губы потрескались. Он смотрел туда же. В тот самый угол. В то самое место. В его взгляде не было ужаса. Было… узнавание.
– Она… – прохрипел Женя – Она на меня смотрит?
Ваня не ответил. Он снова повернулся. Она всё ещё там. Настя. Только теперь её губы шевелились. Беззвучно. Как будто она что-то говорила. Или звала. Или… прощалась? Он схватился за голову – боль пронзила висок, будто гвоздь. Слишком горячий воздух прожигал грудь. Пульс сбился. Всё покрылось рябью, словно он смотрел сквозь воду.
И в этот момент он понял.
Это не галлюцинация.
Не воспоминание.
Настя сидела на краю дивана, обняв колени, и разглядывала потолок. Комната была тёмной – свет падал только с настольной лампы, а за окнами клубился ноябрьский вечер. Ваня сидел рядом, между ними на диване стояла кружка с недопитым чаем. Она уже остыла, но никто не хотел её убирать.
– Ну давай, расскажи, – сказала она, щёлкнув пальцем по ободку чашки. – Вот прям всё. Как у вас там, на кораблях. Словечки свои. Как в кино.
Ваня усмехнулся. Он потёр шею, вздохнул – и начал.
– Ну… смотри. Во-первых, судно – это не просто большой корабль. У каждого – своя конструкция, назначение. У нас, например, балкер. Это такой сухогруз. Перевозит сыпучие грузы: уголь, руду, зерно…
Настя кивнула.
– Это я поняла. Дальше.
– На корабле всё начинается с палубы. Это как у дома – первый этаж, только не для жизни, а для работы. Там стоят грузовые люки – большие такие, квадратные. Под ними – трюмы. Это как подвалы, огромные ямы в корпусе, туда ссыпают груз.
Ваня говорил, стараясь не спешить. Настя слушала, не перебивая. Он заметил, что она слегка покачивает носком босой ноги, как будто под ритм его слов.
– А вот под палубой – это уже жилые отсеки. Кубрики, каюты, машинное отделение. Вот, например… гальюн.
Настя рассмеялась.
– Гальюн? Это что?
– Туалет, – сказал Ваня, смущённо улыбаясь. – А камбуз – это кухня. Настоящая кухня. Там есть плита, пара раковин, морозилка, столы. Ну и кок. Это повар.
– Кок. Повар. А у вас, случайно, не пиратский корабль? – усмехнулась она.
– Почти, – пожал плечами Ваня. – На камбузе творятся настоящие битвы. Особенно если судно качает, а кастрюля – кипит.
Настя фыркнула.
– А гальюн – это… одна на всех кабинка?
– Почти. Всё зависит от судна. Бывает общий. Бывает на две каюты. Воду экономим. Горячую подают только раз в день. Если насос не сломался.
– Боже, – Настя прикрыла рот ладонью. – Это как тюрьма.
– Немного. Но море не тюрьма. Оно живое.
– Вот и расскажи мне про живое, – она придвинулась ближе. – Что там ещё? Какие штуки? Какие названия?
– Ладно, – он подвинулся и нарисовал пальцем на полу. – Вот это – нос. Противоположная часть – корма.
– Знаю, – перебила она. – Нос – вперёд, корма – назад.
– Ага. Дальше. Правый борт – это штурборт, а левый – бакборт. Так на флоте говорят. Можно сказать просто «правый» и «левый», но у моряков свои слова. Иногда, если хочешь блеснуть, говоришь: бакборт и штурборт.
– Стильно, – усмехнулась она.
– Ещё есть надстройка, – сказал Ваня. – Это как дом, который стоит прямо на палубе. Внутри – каюты, камбуз, кают-компания. А выше всех – рубка. То есть капитанский мостик. Оттуда управляют судном: штурвал, рации, приборы, навигационные карты – всё там. И капитан, конечно.
Настя прижала подбородок к коленям и тихо улыбнулась:
– Звучит уютно.
– Не всегда, – покачал он головой. – Иногда там холодно. Или, наоборот, жарко и душно. Когда плохая погода – всё трясёт, лампы мигают, сигнализация воет, а радиостанция щёлкает как сумасшедшая. Ещё есть румпельное отделение – там сам механизм рулевого управления. Вниз почти никто не лезет. Но если лезет – потом пахнет так, будто открылся дизельный ад.
– Прекрасно, – протянула она с иронией. – Романтика.
– Именно, – усмехнулся Ваня. – И ещё есть шлюпочная палуба. На ней висят спасательные плоты и шлюпки. Иногда – каски, старые ящики, обвязка. И там же – вороньи гнёзда.
– Птицы?
– Нет. Так раньше называли наблюдательные площадки на мачтах. Там стояли матросы и смотрели вперёд. Сейчас – камеры.
– И что ты там делал?
– На вороньем гнезде? Да ничего. А вот в машинном отделении – всё. Дизеля, насосы, клапаны, фильтры. Температура – под сорок. Шум как будто тысячи моторов слились в один.
Настя хмыкнула, но взгляд у неё был серьёзный:
– И ты… это всё помнишь?
– Да. Потому что рисовал.
– Рисовал?
– Карты. Схемы. Палубные планы. Я любил это. Хотел стать картографом. Но не просто ставить отметки. Мне было важно чувствовать маршрут. Видеть, куда и зачем.
Он замолчал. Настя подняла голову. Несколько секунд она просто смотрела на него. Потом мягко спросила:
– Ты ведь и правда мечтал?
Ваня кивнул.
– А почему не стал?
Он пожал плечами:
– Потому что карту нарисовать проще, чем по ней пройти. Я люблю больше сушу… и рисовать то, что происходит здесь.
Настя не улыбнулась. Она немного подалась вперёд и протянула руку. Пальцы коснулись его запястья – легко, как будто просто проверяла, есть ли у него пульс. И вдруг – не спрашивая, не предупреждая – поцеловала его.
Ваня замер. Сердце бешено колотилось. Он не знал, куда девать руки, глаза, дыхание. Он чувствовал её губы. Он не двигался. Внутри вспыхнул страх – глупый, детский: вдруг она передумает. Вдруг ошиблась. Но Настя не отстранилась. Наоборот, осталась рядом. Глаза её были открыты. И в них не было сомнений. Только он. Только этот вечер. И ничего кроме.