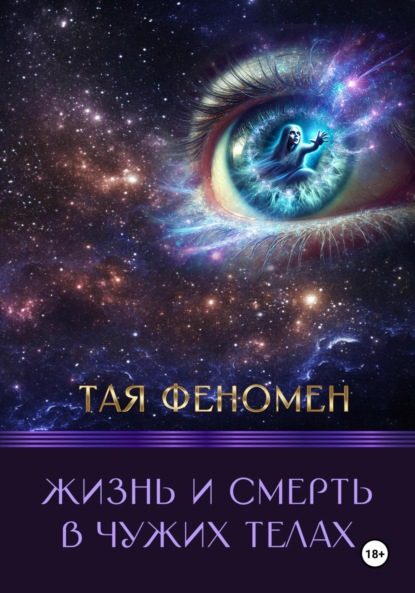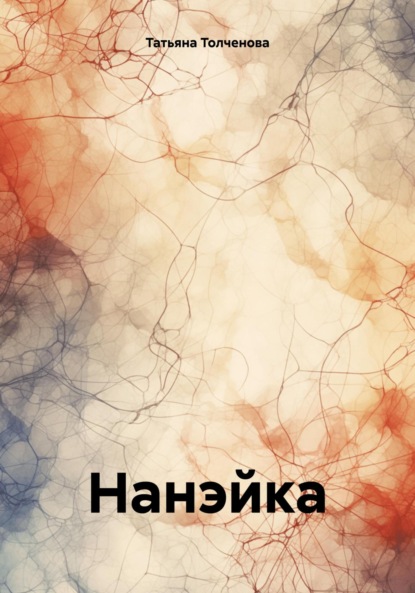Логика Аристотеля. Том 7. Комментарии к «Топике» Аристотеля (продолжение)
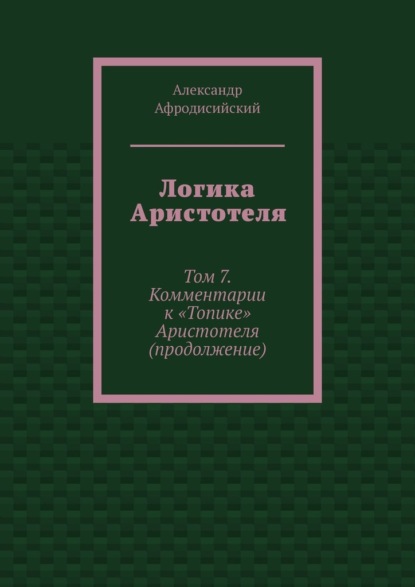
- -
- 100%
- +

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Александр Афродисийский, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-2116-6 (т. 7)
ISBN 978-5-0064-6688-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Александр Афродисийский. Комментарии на восемь книг «Топика» Аристотеля (продолжение)
Александр Афродисийский, известный перипатетик II—III вв. н. э., в своих комментариях на *«Топику»* Аристотеля (книги 4—8) детально разбирает логические методы построения диалектических рассуждений, фокусируясь на аргументации, опирающейся на общепринятые мнения (ἔνδοξα).
– Книга 4 посвящена анализу родов и видов в диалектических спорах, а также правилам корректного определения понятий. Александр подчеркивает важность точности в формулировках и исследует аристотелевские критерии различия категорий.
– Книга 5 рассматривает стратегии работы с акциденциями (случайными свойствами) и их роль в построении аргументов. Особое внимание уделяется ошибкам, возникающим при смешении существенных и несущественных признаков.
– Книга 6 исследует методы выявления тождества и различия, а также правила сравнения понятий через родовидовые отношения. Комментатор разбирает аристотелевские примеры, иллюстрирующие логические уловки в дискуссиях.
– Книга 7 фокусируется на практической диалектике: анализируются способы построения вопросов, стратегии опровержения и защиты тезисов. Александр дополняет Аристотеля разъяснениями о роли умозаключений (силлогизмов) в споре.
– Книга 8 подводит итог, систематизируя правила ведения диалектических диспутов. Здесь обсуждаются этические аспекты спора, важность последовательности и честности в аргументации, а также типичные софистические уловки.
В квадратных скобках [] добавлены необходимые для ясности слова. В тексте встречается лакуна (* * * * * *), которую невозможно восстановить без дополнительных данных. Также некоторые фразы могут иметь вариации в интерпретации из-за сложности греческого оригинала.)
К четвертой книге «Топики» Аристотеля
После того как во второй и третьей книгах «Топики» были изложены топы, с помощью которых можно строить конструктивные и деструктивные аргументы относительно проблем, возникающих из акциденций – будь то просто вопрос о том, присущ ли акцидент субъекту или нет, или же сравнительный вопрос относительно другого (поскольку сравнительные проблемы также подводятся под акцидентальные), – далее речь пойдет о других родах проблем. А именно: о проблемах, возникающих из рода, из собственного свойства и из определения. Ведь все диалектические проблемы относятся к этим родам.
Вопрос «почему нечто есть так-то», например, «почему мир имеет сферическую форму» или «почему луна затмевается», является исследованием и проблемой, но не диалектической, ибо исследование причины относится скорее к научному знанию. Точно так же и вопрос «что есть это?», например, «что есть душа?», не является диалектическим. Исследовать, является ли данное определение определением души, – это диалектический вопрос. Но вопрос «какова природа или сущность воды, способной предсказывать будущее?», не диалектичен. Да и сами такие вопросы не являются диалектическими, ведь диалектический вопрос предполагает противоречие, а вопросы «что это?» или «почему это так?» не содержат ни противоречия, ни вообще утвердительного суждения.
Далее излагаются соответствующие топы для построения и опровержения аргументов в проблемах, относящихся к этим родам. Сначала рассматриваются топы для родовых проблем, поскольку после акциденции род является наиболее общим среди остальных. Акциденция – это самый простой и универсальный вид проблем, ибо её существование заключается лишь в принадлежности (чему-то). Род же, собственное свойство и определение относятся к качественной принадлежности. Для того чтобы нечто существовало как род, собственное свойство или определение, недостаточно простой принадлежности, как в случае акциденции, но необходимо также показать особый способ принадлежности каждого из них. Ведь то, что так называется, имеет определенное соответствие с подлежащим.
Род является более общим, так как он применим к большему числу вещей. Собственное свойство и определение не относятся ко многим и различным по виду вещам, но привязаны к одной конкретной природе. Поэтому, поскольку общее предшествует частному, а род более общ, чем собственные свойства, логично сначала изложить топы для родовых проблем.
К родовым проблемам он также относит и проблемы, возникающие из различий, как уже говорилось в первой книге, поскольку различие, будучи частью сущности вещи, подобно роду, является общим и применимым ко многому. К родовым проблемам можно отнести и проблемы, возникающие из видов (если таковые имеются), так как вид также применим ко многому и относится к сути бытия.
р. 120b12 После этого следует рассмотреть топы, относящиеся к роду и собственному свойству.
После топов, касающихся акциденции, говорит он, следует рассмотреть топы, относящиеся к роду и собственному свойству. И добавляет, почему сначала рассматриваются они, а затем уже топы, относящиеся к определению: «А эти [род и собственное свойство] являются элементами для определений». Ведь топы, с помощью которых мы строим или опровергаем аргументы относительно рода и собственного свойства, служат также элементами и началами для аргументов, касающихся определений. Поскольку определение должно включать не только род, но и собственное свойство вещи, конструктивные топы для родов и собственных свойств способствуют и построению определений. Тот, кто доказывает, что данное в определении есть род и что само определение есть собственное свойство вещи, тем самым доказывает, что данный logos (формулировка) является определением.
Но и деструктивные топы, относящиеся к родам и собственным свойствам, полезны для опровержения определений. Тот, кто показывает, что данное в определении как род на самом деле не является родом, тем самым разрушает и сам статус определения. Точно так же, если доказывается, что нечто не является собственным свойством.
Таким образом, топы, относящиеся к роду и собственному свойству, применимы и к проблемам, связанным с определениями, и являются началами как для построения, так и для опровержения определений. Поскольку род и собственное свойство суть элементы определений (ведь определение должно включать их), эти топы справедливо называются элементами топов, относящихся к определениям. А поскольку элементы первичны по отношению к тому, элементами чего они являются, то и топы, относящиеся к ним, должны быть первичными. Среди них же первыми являются топы, относящиеся к родам, так как род более общ, чем собственное свойство, как уже говорилось.
Он также отмечает, что диалектики редко рассуждают о проблемах, связанных с родом, собственным свойством и определением, поскольку большинство диалектических проблем касаются акциденций. Например, в большинстве диалектических проблем исследуются вопросы вроде: «Следует ли вступать в брак или заниматься политикой?», «Является ли богатство или здоровье благом?» Проблемы же, связанные с родами, собственными свойствами и определениями, требуют более точного и научного подхода, чем тот, что свойствен диалектике.
р. 120b15 Если предположено, что нечто является родом для какой-либо сущности.
Первый из предлагаемых топов, относящихся к роду, таков: поскольку род сказывается одинаково обо всех однородных [видах], он говорит, что, когда нечто приписывается чему-то как род, следует обращать внимание на все родственные [виды], то есть те, что имеют ту же природу и подведены под тот же род, как мы делали и в случае с привходящим. Ведь и в вопросах, исходящих из привходящего, он требовал обращать внимание на все сущности той же природы. Но там для построения вопроса было достаточно найти хотя бы у одного из них наличие того, что полагается как привходящее, если только вопрос не был общим [и опровергать вновь, если оно ни у кого не присутствовало]. В случае же с родом, если приписанный род не принадлежит всем однородным [видам] рассматриваемого [предмета], невозможно, чтобы он был родом, даже если он принадлежит ему.
Так можно показать, что благо не есть род удовольствия, поскольку оно не принадлежит всякому [удовольствию]: ведь удовольствия невоздержанных не являются благими. Таким же образом и Платон в «Филебе» предпринял [доказательство], взяв [примеры]: «и невоздержанный испытывает удовольствие, и благоразумный испытывает удовольствие, и безумец, полный неразумных мнений и надежд». К ним он добавил, что справедливо покажется неразумным тот, кто сводит столь различные [вещи], сами по себе неоднородные, в один род – благо.
Таким же образом можно показать, что знание не есть род добродетели: ведь знание относится к необходимым, вечным и не допускающим иного состояния [вещам], тогда как из добродетелей мудрость такова, а рассудительность и так называемые нравственные добродетели складываются относительно того, что допускает иное состояние.
Этот топ полезен для опровержения: ведь если [приписанное] принадлежит всем однородным [видам], то необходимо, чтобы оно было родом. Помимо этого, оно должно также сказываться в сущности [предмета].
р. 120b21 Далее, если [приписанное] не сказывается в сущности.
Как в случае с привходящим он говорил, что нужно проверять, «не приписано ли как привходящее то, что принадлежит иным образом» (ибо тот, кто говорит, что цвет привходит белому или что белое окрашено, приписывал неверно, поскольку называл привходящим то, что принадлежит как род), так и в случае с родом он говорит, что нужно исследовать, не приписано ли привходящее как род. Ведь нечто может принадлежать всем однородным [видам], но не как род, а как привходящее.
Свойством рода, как и вида, является сказываться в сущности [предмета]. Если же приписанное не сказывается таким образом, можно показать, что оно не есть род.
Так можно доказать, что ни белизна не есть род снега, ни движение или самодвижение – души, как полагает Платон. Ведь белизна не входит в сущность снега (ибо снег не есть белое как таковое), равно как и самодвижение не входит в сущность души. Ни определение белого не применимо к снегу в его сущности, ни определение движения – к душе.
Если снег есть белое как таковое, а белое есть цвет как таковое, а цвет есть качество как таковое, то снег окажется качеством как таковым. Ведь когда одно сказывается о другом как о подлежащем, все, что говорится о сказываемом, будет сказано и о подлежащем. А в сущности сказываются те [признаки], которые принадлежат самому предмету.
Точно так же, если душа есть самодвижение как таковое, а самодвижение есть движение как таковое, а движение есть незавершенная деятельность, то душа окажется незавершенной деятельностью.
Но что самодвижение не есть род души, можно показать и из следующего: если самодвижение есть род души, оно должно сказываться и о других [сущностях] как о видах, противопоставленных душе. Однако здесь мы доказываем не то, что оно не есть род, а то, что оно не входит в сущность – это другой топ.
р. 120b26 Далее, движущееся не есть сущность.
То, что движение не есть род души или вообще какой-либо сущности, можно показать и так: род обозначает сущность, а движение и самодвижение не обозначают, что есть душа, но что она делает или претерпевает. Ведь поскольку она называется движущейся, она претерпевает, а поскольку движется сама собой – действует.
Выражение «но как нечто действующее или претерпевающее» может относиться к движущемуся, поскольку движущееся либо действует, либо претерпевает в движении.
Далее, движение сказывается о движущихся [предметах]. Но если бы душа была движением или самодвижением, она больше не двигалась бы – иначе получилось бы, что движение движется.
Сначала он показал, что [приписанное] не входит в сущность, исходя из того, что подлежащее не называется через него как через род. Во-вторых, [он показал], что род, сказываясь в сущности, обозначает, что есть подлежащее, а данные [признаки] не обозначают, что есть подлежащее, но каково оно или что оно делает или претерпевает.
Подобным образом можно доказать, что ни сладость не есть род меда, ни горечь – полыни, ни удовольствие – прекрасного. Ведь даже если удовольствие неотделимо от прекрасного, оно не сказывается в его сущности.
Этот топ отличается от предыдущего тем, что там доказывалось, что подлежащее не есть то, о чем сказывается [признак], а здесь, наоборот, что сказываемое не обозначает сущность подлежащего.
р. 120b30 Особенно же следует обращаться к определению привходящего, применимо ли оно к указанному как род.
Он говорит, что особенно нужно обращаться к определению привходящего, чтобы проверить, принадлежит ли оно чему-то из приписанного как родов. Определение привходящего – «может как принадлежать, так и не принадлежать». Если к белому, которое приписано как род снега, или к самодвижению, приписанному как род души, применимо определение привходящего – «может как принадлежать, так и не принадлежать», – то ни то ни другое не будет родом.
Можно спросить, как белое может как принадлежать, так и не принадлежать снегу, или самодвижение – душе, если некоторые полагают душу вечно движущейся. Или он говорит не об этих [случаях], что они могут как принадлежать, так и не принадлежать, но вообще и просто всякой сущности.
Ведь если для них [эти признаки] принадлежат как видовые, то и для других сущностей, которым они принадлежат, они должны принадлежать как видовые. Но если есть сущности, которым они могут как принадлежать, так и не принадлежать, не будучи их родами, то они не будут родами и для тех, которым принадлежат по аналогии.
Как белое, принадлежа некоторым сущностям, может как принадлежать, так и не принадлежать им, так и самодвижение (ведь животные, будучи самодвижущимися, не всегда движутся). Таким образом, сказанное равносильно тому, что ничто из того, что может как принадлежать, так и не принадлежать некоторым [сущностям], не может быть родом тех, которым принадлежит, даже если для некоторых из них оно принадлежит неотделимо.
Ведь цвет – род не тех, которым он принадлежит, а тех, в чьей сущности он находится.
Или не следует понимать сказанное как относящееся к этим примерам, но поскольку иногда и такое, и так принадлежащее чему-то может быть приписано как род, то подобное нужно опровергать, исходя из определения привходящего, что оно не есть род.
Ведь и сказанное сейчас, что они не суть роды тех, которым могут как принадлежать, так и не принадлежать, можно доказать из определения привходящего.
Ни самодвижение не есть род животного, хотя оно и самодвижущееся (поскольку бывают случаи, когда оно само себя не движет), ни белое – того, которому оно может как принадлежать, так и не принадлежать.
Таким же образом и ощущение не есть род человека: ведь он может как ощущать, так и не ощущать. Ведь ощущающее и ощущаемый – не одно и то же.
р. 120b36 Далее, если род и вид не в одном и том же делении.
Род и вид должны быть в одной и той же категории, в одном и том же роде и в одном и том же делении, ибо оба должны быть одной природы. Если же род, приписанный чему-то, окажется под одной категорией, а вид, для которого он был приписан как род, – под другой, то приписанное не будет родом. Например, если одно есть сущность, как снег и лебедь, а другое – качество, как белое, то белое не может быть родом снега или лебедя. По этой же причине и движение не может быть родом души, если душа есть сущность, а движение – не сущность, но либо состояние, либо качество, либо отношение, либо количество. Но и благо не может быть родом знания или прекрасного, если прекрасное есть качество, а знание относится к относительному. Можно также спросить, как знание может быть родом геометрии, музыки и других наук, если знание относится к относительному, а они – к качествам. Ничто не мешает знанию быть и качеством, поскольку оно есть состояние, и относительным, и быть родом упомянутых наук, взятых как качества. Подобным образом и добродетель может быть родом умеренности и мужества, взятых не как относительное, но как качество. Это возможно только в случае относительного, поскольку относительное обозначает отношение некоторых вещей, которые сами по себе уже не являются относительными. Таким образом, относительные вещи могут подпадать под два рода: под относительное – по отношению, а под другой род – по своей собственной природе, взятой без отношения. Ибо сначала нечто есть само по себе, а затем уже имеет отношение к другому; потому оно будет и под тем родом. Ничто не мешает и благу, будучи под качеством, или прекрасному быть родом знания, поскольку и само знание есть качество. Ибо как относительное знание есть род подчиненных ему наук (геометрии, музыки и других, не являющихся относительными), поскольку их род не в отношении, так и ничто не мешает, в свою очередь, знанию, будучи относительным, иметь родом благо или прекрасное, взятые как качества, если роды их берутся не как относительное, но как качество; ибо знание не только относительно. Поэтому в других родах следует наблюдать это: ибо невозможно, чтобы одно и то же подпадало под несколько категорий. Можно также показать, исходя из этого места, что курносость – не вогнутый нос, ибо нос есть сущность, а курносость – не сущность, но качество (ибо это некоторое свойство); потому правильнее называть ее вогнутостью в носу. Можно также показать, что звук – не ударенный воздух, ибо воздух есть сущность, а звук – не сущность, но некоторое свойство и качество; правильнее называть его ударом в воздухе. Это место полезно только для опровержения: ибо если приписанное и подлежащее не под одним делением, то приписанное не будет родом; однако если оба в одном роде, то еще не необходимо, чтобы одно было родом другого.
р. 121a10 Далее, если необходимо или возможно, чтобы род участвовал в приписанном ему виде.
Что значит «участвовать», он сам пояснил: ибо принимать определение того, в чем говорится участвовать, значит участвовать в нем. Приписанное в роде есть вид, которому род приписывается как род. Итак, виды принимают определения родов, а роды уже не принимают определений видов; потому виды могут участвовать в родах, но уже не роды в видах. Итак, если то, что приписывается как род некоторому виду, принимает или может принять определение и разграничение того, что приписано как его род, то приписанное не будет родом. Например, если кто-то назовет «нечто» родом сущего или «одно» – ибо что-то из этого, приписанное как род, непременно примет и определение сущего, и определение одного; ибо все, что существует в действительности, есть и сущее, и одно. Так можно показать, что стоики неправильно считают «нечто» родом сущего: ибо если нечто, то ясно, что и сущее; а если сущее, то оно принимает определение сущего. Но они, постановив у себя, что «сущее» говорится только о телах, избегают затруднения: потому они и говорят, что «нечто» более общее, чем оно, ибо приписывается не только телам, но и бестелесному. Но поскольку «нечто» – самое общее, то под него попадет и «одно»; однако и «одно» можно приписать к «нечто»; потому «нечто» – не род «одного», принимающий его определение. Так можно показать, что «множество» – не род числа: ибо множество есть число, и к нему применимо определение числа. А если так, то неправильно определяют число как множество единиц: ибо само множество есть много единиц. О сущем и одном он сказал, что у них есть определения и разграничения, либо более общие и общепринятые, либо потому, что они применимы к многозначно говоримым вещам, как говорится «от одного и к одному», и есть определения (таковы сущее и одно), либо потому, что согласно тем, кто приписывает что-то из этого как род, у них будут и эти роды.
р. 121a20 Далее, если приписанный вид истинен для чего-то, а род – нет.
Поскольку род высказывается о подлежащем своего вида, необходимо, чтобы и вид, подчиненный ему, высказывался, и они высказывались о них. Ибо вид есть как бы часть рода; а части частей суть части целых. Потому, когда что-то приписано как род, надо исследовать, высказывается ли и подлежащее как вид. О всех, к которым приписанное как род высказывается; ибо если оно не высказывается обо всех, то не будет их родом. Так можно показать, что ни сущее, ни одно, ни познаваемое не есть род мнения, ибо мнение высказывается и о не-сущем (мы ведь считаем и о не-сущем, что его нет, как сказано в «Об истолковании»: «ибо мнение о нем есть, что его нет»), но сущее, одно или познаваемое уже не истинны для не-сущего. Можно также показать, что благо – не род удовольствия, ибо удовольствие высказывается и о невоздержных, а благо – нет. Но и знание не может быть родом добродетели, ибо добродетель высказывается о том, что может быть иначе (ибо нравственная добродетель – о таком), а знание ни о чем из могущего быть иначе не истинно. Это место тоже опровергательное.
р. 121a27 Далее, если ни один из видов не может участвовать.
Поскольку роды делятся на ближайшие виды, а виды, подчиненные роду, в свою очередь делятся, будучи сами родами для других (ничто не мешает, чтобы одни были видами одних, а сами – родами других, как птица, делящаяся не на роды, а на виды, то есть ворона и подобное, а они – на единичное), ясно, что подчиненные роду должны участвовать не в первом делении, но в каком-то из видов этого рода и принимать определение видов, находящихся под приписанным родом. Ближайшие виды родов участвуют только в родах и принимают только их определения; а не ближайшие, но более отдаленные, необходимо должны принимать определение какого-то вида, находящегося под родом, если приписанное должно быть их родом. Если что-то приписано как род, надо исследовать, не находится ли то, чему род приписан, ни в первом делении приписанного рода, ни в каком-то из его видов; ибо если так, то приписанное не может быть его родом. Например, если кто-то скажет, что удовольствие есть род движения, то, поскольку удовольствие не в первом делении движения (ибо движение делится на движение по месту, по количеству, по качеству и по сущности, но не на удовольствие), надо, чтобы удовольствие, если оно под родом движения, участвовало в каком-то из этих видов движения и было либо под изменением по месту, либо по количеству, либо по качеству, либо по сущности (пусть теперь возникновение и уничтожение будут движениями). Если же оно не под ни одним из них, то и не под движением как родом. Теперь виды движения можно назвать более общими; ибо движение – не род, но из многозначно говоримого. Но удовольствие – ни перемещение (и не принимает определения такого движения), ни увеличение или уменьшение, ни изменение, ни возникновение или уничтожение; значит, и не движение. Что оно не уничтожение, не увеличение или уменьшение – очевидно. Но и не возникновение или уничтожение: ибо это изменение по сущности. Но и не возникновение в смысле восполнения: ибо удовольствие – не восполнение, но возникает при восполнении; ведь не одно и то же – испытывать удовольствие и восполняться: восполнение – тел, удовольствие – души. Да и не всякое удовольствие – при восполнении: ибо одни возникают после предшествующей боли, но не всякое удовольствие – после боли. Но и не изменение удовольствие, будучи изменением по страданию, как может показаться: ибо если страдание, то еще не изменение по страданию. Не одно и то же: белизна, будучи страданием, – не изменение, но побеление; а белизна и побеление – не одно и то же; подобно и теплота – не изменение, но нагревание; ибо это есть изменение. Так и удовольствие – не изменение, будучи страданием: ибо страдание – не изменение; но изменение к удовольствию, если уж на то пошло, есть изменение по страданию, но не удовольствие есть изменение.
p.121a36 Ни атомов.
Сказав, что удовольствие не есть вид движения, он добавил, что оно не есть и что-либо из атомов, подчинённых движению, ведь атомы в движении подпадают под виды движения. Сказав же «ни атомов», он параллельно добавил «ни того, что под видом движения», ибо все движущиеся [вещи] состоят из атомов. Подобным же образом можно показать, что число не есть род души: ведь душа не подпадает под первое деление числа (первое деление числа – на чётное и нечётное, но душа не есть ни чётное, ни нечётное), и она не причастна ни к одному из них (ибо не подходит ни под определение чётного, ни под определение нечётного). Но и точка, и «теперь» не суть количества, поскольку они не являются ни непрерывными, ни разделёнными, на что прежде всего делится количество. Таким образом, и животное не было бы родом бога, если бог не есть ни ходячее животное, ни летающее, ни водное.