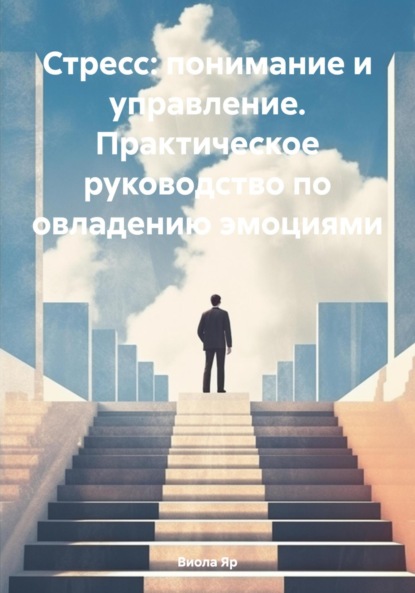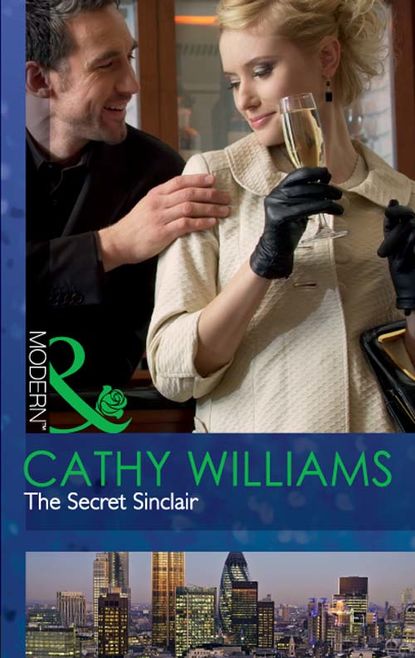- -
- 100%
- +

Глава 1. Зимний вечер
Снежинки беззаботно порхают в морозном воздухе, лёгкие и искрящиеся. Почти достигнув земли, они неожиданно замедляются и взвиваются вверх, подхваченные внезапным порывом ветра, а затем падают снова. Невесомое снежное покрывало будто соткано из миллиардов крошечных белых искорок, которые безостановочно кружатся и переносятся с места на место. Окружающий пейзаж похож на карандашный набросок в ожидании красок. Контуры дорожки, ведущей от дома, едва угадываются под сугробами, по бокам от неё то тут, то там торчат сухие безжизненные былинки, а на кустах лежат пухлые снежные шапки.
Дома тепло, и этот контраст с холодом снаружи заставляет окна покрываться по краям тонким причудливым узором, напоминающим ветки волшебных деревьев или перья экзотических птиц.
Темнеет. Небо стремительно за каких-то полчаса становится чёрно-синим, и на нём появляются первые звёзды. До моих ушей доносится хруст снега под подошвой сапог, оставляющих глубокие следы на его гладкой поверхности, успевшей затянуться с утра. Мерный скрип в такт шагам затихает возле двери, которая открывается и хлопает, а в дом проникает холодный воздух.
***
В комнату вошёл Менхур, стряхивая с волос снежинки. Он каким-то чудом умудряется не мёрзнуть, хотя одет в легкое изумрудного цвета пальто с золотой вышивкой и совсем не носит шапки. Я посмотрела на него поверх вышивки, которой занималась весь день, но только исколола себе все пальцы, не продвинувшись сколько-нибудь заметно. Он снял пальто и отряхнул его, стянул кожаные сапоги, чтобы с них не натекло воды от растаявшего снега, и прошёл на кухню. Вскоре я услышала глухой стук тарелок и ложек, которые он раскладывал на столе. Когда на улице так холодно, еду необязательно съедать сразу, а можно оставить в специальном месте снаружи и доесть потом. Менхур положил себе немного вчерашнего мяса и тушеной капусты, ожидая, что я отложу рукоделие и присоединюсь к нему. Я так и поступила. Конечно, еда была далека по разнообразию от того, что подавали во дворце, но я не жаловалась: мне вообще не нужно было есть, я делала это ради воспоминаний о вкусе пищи и в какой-то степени для того, чтобы получить удовольствие от ужина.
Маг поправил ворот голубой туники и сел за стол. Мы не сказали ни одного слова друг другу, но это был самый приятный момент за весь день. Рано утром Менхур уходил в соседние деревни (сам он жил подальше от других людей), чьи жители обращались к нему за помощью. Чаще всего это касалось здоровья, но иногда одинокие старики просто искали кого-то, кому могли выговориться, не опасаясь, что назавтра сплетни поползут по всей округе. Я хотела было сопровождать его, но он сказал, что если местные жители узнают во мне ворожею, то это вызовет волну недоверия и страха. Я была вынуждена с ним согласиться, ведь именно такими эмоциями встречали меня все, кто со мной сталкивался. Поэтому я просто сидела дома, готовила еду, иногда вышивала или гуляла неподалеку. Книг, к моему удивлению, у Менхура в доме не было, даже тех, которые пригодились бы ему в работе. Всё, что нужно, он держал в голове. Тем не менее, скучно мне не было. По крайней мере, так я себя убеждала, потому что всякий раз, когда для меня начиналась нескучная жизнь, это оборачивалось крупными неприятностями и чудовищным стрессом. Уж лучше страдать бездельем в тепле и безопасности, решила я и сразу же поймала себя на мысли, что ворожея из Лангареда согласилась бы со мной в этом целиком и полностью. Она всю жизнь целенаправленно шла к богатству и роскоши; статусный любовник, драгоценности и жизнь во дворце были тем, к чему она стремилась. И добилась, в конце концов, и я не была уверена, что хочу её осуждать. С людьми вообще легко спорить, если их видение отличается от моего, и гораздо сложнее рассмотреть и признать их точку зрения как имеющую полное право на существование. Многообразие мнений больше пугает людей, чем помогает, оно крадёт у них территорию, сужая их собственный ареал до размеров их мировоззрения, за пределами которого простирается обширная неизведанная враждебная территория со своими правилами, законами и знаниями. Ступить на неё означает лишиться всех своих оберегов, стать уязвимым. Многообразие мнений – это признание самому себе, что мир невозможно объяснить одной формулой или измерить одной мерой, а значит, и охватить его полностью тоже нельзя. Это как пытаться засунуть в мешок пригоршню игл или вязальных спиц: что-нибудь да будет торчать наружу. Такой мир становится опасным, непредсказуемым и неуправляемым, ибо на чужой территории не действуют рычаги управления, ей не принадлежащие. Поэтому многие люди настолько непримиримы, что им проще притвориться слепыми, чем признаться, что они увидели что-то, что выбивается, как шило из мешка, из их привычных и удобных представлений.
Я сама была такой: неудобные факты я или игнорировала или наряжала в знакомые наряды, не стесняясь переиначивать их и перекрашивать на свой лад. Я легко могла бы сказать, что ворожея из Лангареда глубоко несчастна, но никогда в этом не признается, потому что не хочет превратить все свои прошлые достижения в погоню за ложными целями. Но то, что я действительно видела, было: она была вполне довольна своим существованием и тем, как сложилась её жизнь, и я внезапно рассмотрела её мир, с неудовольствием отметив про себя, что он имеет право быть. Более того, это оказался не самый худший из миров.
Самое трудное испытание для человека, на мой взгляд, это внутренние изменения. Их до последнего стараешься не замечать, пока они не дадут о себе знать недвусмысленно и чётко. Их считаешь предательством, ведь весь мир рушится как бы исподтишка, не сразу. Сначала человек просто перестает пылать гневом от какой-то мысли, ранее казавшейся ему абсолютно неприемлемой, потом уверяет себя, что ему всё равно, как живут другие, он верен принципам, потом он начинает сомневаться. Его принципы перестают казаться сверхценными и на весах более не перевешивают принципов, которые он раньше презирал, и он начинает искать доводы в их защиту, что заранее обречено на провал, потому что зачастую люди действуют совершенно неосознанно и придерживаются правил, близких им на данный момент. Осознав, что аргументы в защиту собственной точки зрения по силе сопоставимы с аргументами в пользу противоположной, человек сомневается ещё больше, а его мир трагически раскалывается. Приходит осознание, что его принципы ничем не лучше тех, других, они равнозначны и одинаково жизнеспособны, и это становится точкой невозврата. Кто-то, приоткрыв покров над этой истиной, в ужасе отползает назад, будто получив тяжёлое увечье, от которого не сможет оправиться больше никогда, его мир необратимо меняется, превращаясь в лоскутное одеяло, одни лоскутки которого он ревностно оберегает, а другие игнорирует. Кто-то, напротив, продолжает трансформацию, решив, что он вырос из своих прошлых горячо любимых убеждений, которые перестали отвечать вызовам окружающей действительности и нуждаются в замене. Он впервые, сначала у себя в голове, пробует и примеряет новые для себя мысли и способ действий, а затем, осмелев, включает их в свою жизнь. Какая-то часть его, которая помнит, как было раньше, пытается протестовать, и иногда этот голос (некоторые зовут его совестью) продолжает звучать до конца жизни, так и не смирившись. Он постоянно сравнивает и напоминает, что «абсолютно неприемлемое» со временем превратилось в обыденное, и вопрошает, как же это могло произойти. Некоторым удается заглушить этот голос настолько, что они начисто забывают себя в прошлом и изумляются, столкнувшись с ним, настолько, будто встретили совершенно постороннего человека. Такие и под пытками не сознаются, что когда-то придерживались иных взглядов, как будто эти взгляды порочат их честь, и они просто обязаны их извести под корень и начать все с чистого листа. Как бы то ни было, изменяясь, человек чувствует неуверенность, колеблется и не знает, сколько ещё таких колоссальных сдвигов ему предстоит пережить. И чем старше он становится, тем больше его захватывает отчаяние от мысли, что за всю его жизнь в ней не нашлось ничего постоянного, незыблемого, что он не построил себя раз и навсегда, а лишь постоянно перестраивал, сносил и начинал с нуля. Он боится не успеть закончить главный труд всей своей жизни и потому решает оставить всё как есть, закрыв глаза и наслаждаясь иллюзией постоянства. Возраст делает человека несгибаемым, он замораживает душу, будто примеряясь: таким тебя запомнят после смерти, можешь полюбоваться.
Я впервые заметила изменения в себе ещё в Альвдоллене. Мне не нравилось постоянное пристальное внимание со стороны всех и каждого, сопровождающее публичную жизнь королевы и часто проникающее на территорию частной жизни, но мне было приятно сознавать себя значимой и пользоваться всеми благами, которые я приняла вместе с короной. Мне было позволено едва ли больше, чем прислуге, но хотя бы с внешней стороны я сама себе казалась внушительнее, чем была на самом деле. Я подписывала документы, определяющие судьбу королевства, объявила войну и заключила перемирие, и тысячи людей, сжимающих оружие в руках, последовали моим указам. Я ежедневно выслушивала доклады советников о том, как продвигается военная кампания и что ещё необходимо сделать, чтобы успех не заставил себя долго ждать. Они убедительно водили пальцем по карте, рисовали схемы и наглядно демонстрировали результаты, к которым привели действия, изложенные в документах, которые я подписывала своей рукой. Всё это создавало приятную видимость моего непосредственного участия в приближении победы над Валльбеном, и я взаправду начинала считать заслуги армии Альвдоллена и её командиров своими, хотя поначалу отчётливо осознавала свою беспомощность и зависимое положение. Увы, приняв корону, я окунулась с головой в ту часть монаршей жизни, о которой благоразумно молчат: с завидной регулярностью ко мне в частном порядке подходили люди, которых я считала порядочными и честными, и просили меня решить их споры в их пользу. Они поджидали меня на выходе из зала с витражами, изображавшими ясный день, где обычно проходили совещания, и выглядели так рассеянно, будто случайно замешкались и никак не хотели подстроить нашу встречу. Самые осторожные караулили у лестницы, чтобы не вызывать подозрений и обставить всё как совпадение. Они с напускной расслабленностью заводили разговор о совещании, высказывали надежду, что принятые решения окажут исключительно положительное влияние на ход кампании против Валльбена, иногда выражали притворное сочувствие мне, говоря, что нелегко, должно быть, находиться во главе целого королевства, а они, мол, всего лишь советники, не более, хотя все мы знали, каково реальное распределение полномочий. И наконец, достаточно уменьшив себя и свою значимость, они постепенно подбирались к сути дела. Каждый из них стремился выставить себя в выгодном свете, то есть предстать в образе жертвы несправедливого обращения, и надеялся на правосудие со стороны королевы. В их словах то и дело сквозили намёки, что я, конечно, ничего тут не решаю, и что именно этому человеку я обязана своим восхождением на трон, а долг платежом красен. Наконец, тон их становился деловым, и они озвучивали свои притязания. А на следующий день я встречала на лестнице новых советников и слуг, и эта сцена повторялась опять. От этих честных и порядочных людей я услышала столько обвинений и грязных подробностей касательно их друзей и членов семьи, сколько не смогла бы нафантазировать при всём желании. Они без стеснения за глаза выкладывали мне самые нелицеприятные факты биографии своих родственников, которые имели неосторожность перейти им дорогу, что казалось, будто они только для того и поддерживали общение, чтобы собрать побольше порочащей информации и успеть использовать её прежде, чем кто-нибудь использует что-либо против них самих. Я вначале кивала, изображая сочувствие, но затем отвращение перевешивало, и я стремилась поскорее свернуть разговор под любым предлогом. Я говорила, что обязательно что-нибудь придумаю, но потом, а сейчас не самое подходящее время для принятия подобных решений. На самом деле мне не хотелось ни во что вмешиваться, и как я себя ни уговаривала, внушая, что эти люди мне, в общем-то, совершенно чужие, я не могла однозначно встать на сторону одного из спорщиков. Я не знала наверняка, какие последствия будет иметь для меня поддержка одного из советников и немилость по отношению к другому. Очевидно, что они боролись внутри своего тесного сообщества, но не могли найти сил для борьбы и пытались черпать их во мне. Они стремились моими руками устранить конкурентов и занять более выгодные позиции, пока это возможно. Пока Ютан не вернулся и не отменил все перестановки. Иногда я задавалась вопросом, подходили ли эти же самые люди к Ютану со своими проблемами, и кому симпатизировал законный король. Или же они сидели тихо и лишь в мечтах лелеяли свои грязные планы, понимая, что с ним этот фокус не пройдёт.
Нет, я никогда не была настоящей королевой Альвдоллена, но, притворяясь ею, в какой-то момент ощутила пьянящий вкус власти, который неизбежно что-то во мне изменил. У меня как будто появилось место в этом мире, которое никто не оспаривал. Появился выбор, с которым считались. Мне впервые не было нужды опускать глаза перед кем бы то ни было. В Альвдоллене я впервые ощутила себя зодчим, а не плотником. И я с нетерпением ждала новой возможности испытать это чувство.
Менхур подпёр подбородок кулаком и посмотрел на меня. От одного его взгляда перехватывало дыхание, и в груди будто стремительно расширялся воздушный шарик. Бывший придворный маг нравился мне настолько, что мне хотелось, чтобы он оказался особенным. Я хотела найти причину своего чувства, но её не было. Он не незаконнорождённый наследник престола, не член тайного магического ордена, не наёмный убийца, не прорицатель, за предсказаниями которого охотились бы все короли мира. И эта несправедливость заставляла меня страдать и злиться на него. Даже от предложения Леддарена, якобы рассмотревшего в Менхуре какой-то проблеск таланта, он отмахнулся легко и без сомнений, хотя я бы на его месте ночей не спала бы, взвешивая все за и против. И на лесть магической общины Берсареда он не купился, что на секунду заставило меня думать, что у него где-то под матрасом запрятаны несметные сокровища, и он, помня о них, с презрением относится к предложениям поправить его материальное положение. Но нет, его дом, хоть и просторный, не утопал в роскоши, а местные жители, которых он лечил, не стремились осыпать его благами в знак признательности. Все они прекрасно общались между собой и знали, кто сколько заплатил за услуги целителя, и потому никто не чувствовал себя неловко, давая столько же, сколько и сосед, пусть это были и совсем не большие деньги.
Я не могла смириться с тем, что Менхур так легко проглотил обиду на Ютана за его несправедливые обвинения и отказ выслушать нашу точку зрения, хотя и понимала, что в сложившихся обстоятельствах она больше тянула на жалкие попытки оправдаться, которые не добавили бы убедительности нашему рассказу. Но Менхур и Ютан были друзьями довольно давно, и я не могла представить себе, чтобы настоящую крепкую дружбу уничтожило бы одно обвинение в адрес брата короля. Маг, в свою очередь, зная прекрасно, что Рекнар и Морракен по-прежнему остаются безнаказанными, покинул Альвдоллен, оставив Ютана без защиты. Этого я тоже не могла понять.
Вечера в доме Менхура, однако, приносили мне умиротворение, прогоняя все тревожные мысли далеко за пределы сознания. Когда он сидел у камина, я подходила и клала голову ему на колени, и он рассеянно гладил мои волосы, касаясь их так легко, как будто боялся, что оттуда вылезет какое-нибудь чудовище и оттяпает ему полруки.
Вот и сегодня маг затопил камин, сходил за дровами, снял пальто по возвращении и извлек из кармана забытые ещё днем письма. Некоторые он даже не читал, другие вскрыл серебряным ножичком и быстро развернул. Пробежал глазами и вздохнул, потирая переносицу. Увидев мой заинтересованный взгляд, он пояснил.
– Мельник из соседней деревни опять просит прийти. Третий раз за неделю.
– Он что, так болен? – спросила я, искренне недоумевая, что такого могло случиться с человеком, если его даже магия не может поставить на ноги.
– Если бы! – устало выдохнул Менхур. – Будь он болен, у меня была бы надежда закончить наши встречи, но от одиночества лекарства ещё не придумали.
– О чём ты?
– Старик сидит один на своей мельнице, поговорить ему не с кем, местные жители его сторонятся, считая колдуном, вот он и выдумывает жалобы на своё здоровье, чтобы я к нему пришел.
– Почему ты ему не откажешь, если он симулянт?
– Потому что тогда тоска его совсем заест.
Менхур подошёл к полке, тянувшейся вдоль стены, взял оттуда коробку, одним быстрым движением сунул туда нераспечатанные письма и закрыл крышку так стремительно, будто они собирались оттуда выскочить обратно. Потом вернулся к камину, сел и долго молча смотрел на огонь, лишь изредка подкидывая пару коротких берёзовых поленьев. Я лениво прикрыла глаза и вытянула босые ноги. Лицо мага с оранжевыми бликами огня на щеках казалось мне красивым в тусклом свете, я представляла себе, что мы живем тут в этом доме, как законные супруги, и смеялась этим мыслям, пока мне не становилось горько от осознания, что я и вправду хотела бы, чтобы это стало реальностью. Никогда раньше я ни к кому не привязывалась и ни на кого не рассчитывала. В моём мире за мной пытался неумело ухаживать один юноша, но никто из нас не был готов к настоящим отношениям и не пытался заглядывать дальше совместных походов в кино и прогулок по городу. Я была даже благодарна ему за то, что его смелости хватало только на комплименты, и никогда – на поступки, потому что мне не нужно было примерять на себя роль заботливой жены, писать список для походов в магазин, развешивать его рубашки после стирки, собирать ему обед на работу и делать все те вещи, которые, как мне казалось тогда, являются необходимым атрибутом семейной жизни, без которого она распадается на атомы. Начитавшись книг, я думала, что брак – это испытание длиной в жизнь, постоянные жертвы и бремя ответственности, что это труд, и он не может быть лёгким по определению. Что создание семьи сродни экзамену на зрелость, этакий обряд инициации, после которого становишься настоящим взрослым и получаешь все права взрослого, а до него – увы! – остаёшься неполноценным. И только теперь до меня дошло, что нет и не было на свете никаких правил, которыми измеряется ценность человеческого опыта, и никто не вправе кривить губы, услышав о том, что кто-то живёт иначе, чем он сам. Нет никаких инструкций и готовых рецептов, что и в каких пропорциях смешать, чтобы получилась семья. Люди живут, как хотят того сами, но настолько боятся выделяться из толпы, что постоянно оглядываются, проверяя, идут ли они в ногу с остальными. Меня всегда мучил этот витальный страх: боязнь быть отвергнутой. Я старалась всем угодить и понравиться, лишь бы не остаться одной без помощи. В этом новом мире у меня просто не было выбора: что бы я ни делала, я не могла заслужить хорошего отношения к себе, а значит, всё время шла не в ногу и в конце концов устала с этим бороться. И я перестала оглядываться на остальных и размышлять о том, одобрили бы они моё поведение или нет. Разумеется, никогда не одобрят. Для них я навеки останусь непознанным чудовищем, лживой искусительницей, в чьих руках находится их самое ценное: жизнь.
Тем не менее, кажется, во все времена страсть человека к заигрыванию со смертью оставалась неистребимой. В поисках средства, способного продлить свой срок, люди заходили настолько далеко (или это отчаяние заводило их на опасную землю), что были готовы на сделку с любыми сверхъестественными силами. Сделку, грозившую ужасными последствиями и убытками. Люди тряслись и заикались от страха, но раз за разом приходили к ворожеям, дабы выторговать у них несколько лет сверх положенного времени.
Я поморщилась. Ни одна из встреченных мной «сестёр» не относилась к своему дару серьёзно. Ворожея в Даарне сказала, что ей не жаль нескольких лет для богачей, которые всё равно не сумеют ими грамотно распорядиться, а ворожея в Лангареде вовсе колдовала редко и употребляла свои способности ради личной выгоды и наживы. Даже хозяйка тела, в которое я попала, ни разу не упомянула помощь людям, целиком поглощённая борьбой за собственные переживания. Она настолько сильно хотела чувствовать жизнь, что не понимала очевидного: именно осознание её быстротечности и неизбежного завершения придавало ей краски, которых ей так не хватало. Страх смерти, радость от созерцания красоты мира, который пока ещё – на короткое время – доступен для органов чувств, тревоги и муки выбора, восторг от больших и маленьких побед – всё это насыщало человеческое существование, а ворожея была этого лишена.
Я редко думала о смерти, потому что слишком её боялась. Все мои попытки рационализировать это явление, представить его как неотъемлемую часть логической цепочки, как очередной этап жизни, с треском разбивались о всепоглощающий леденящий ужас, накатывавший на меня в минуты осознания, что смерть не абстрактна, а вполне конкретна и она меня обязательно коснётся когда-нибудь, как бы я ни пыталась её игнорировать. Я спорила сама с собой, но не переставала бояться. Главным образом не того, что после смерти ничего не будет, а того, что исчезнет всё хорошее, что есть у меня сейчас. Я боялась не успеть доделать что-то, увидеть, испытать. Любопытство было моим противоядием и оберегом.
Каждый раз, когда я ложилась спать, умирало и становилось историей всё, что было до сего дня, и только память сохраняла образы, связывая прошлое в единое целое. Если бы не она, каждая ночь стала бы для меня подобием смерти, потому что сегодняшней меня не существовало бы завтра. Память была моим вторым сокровищем, помимо, любопытства, которое я боялась потерять.
Когда я попала в новый для себя мир, память о прошлом стала стремительно угасать, будто была несовместима с нынешним телом. Я не придавала этому большого значения до тех пор, пока случайно не обнаружила, что мне становится трудно до невозможности вспоминать события, произошедшие до моего перемещения в тело ворожеи. И я испугалась, что за потерей памяти последует разрушение моей личности, и я стану неузнаваемо другой. Я попыталась себя неуклюже успокоить тем, что успела немного пожить в этом мире с моими прошлыми убеждениями и накопить несколько памятных событий, связанных с моей новой ролью здесь, но страх не отпускал, а в голове крутился всего один вопрос: успею ли я вернуться до того, как забуду, куда и зачем я хотела попасть? Или мне суждено перешагнуть ту грань, за которой возвращение уже не будет иметь никакого смысла?
Менхур пошевелился и, поколебавшись немного, обнял меня одной рукой, а я уткнулась носом в его шею и закрыла глаза. До сих пор все его проявления заботы были мне в диковинку, да и он тоже, наверное, чувствовал себя неловко. Мы как будто ожидали друг от друга какого-то знака, одобрения, без которого подобные жесты оставались чем-то за гранью приемлемого. Прижимаясь щекой к его плечу, я чувствовала себя преступницей, по счастливой случайности оставшейся безнаказанной, но мне всё время казалось, что он вот-вот остановит меня, отстранится, скажет, что мы не должны позволять себе слишком много. Всё, что мне оставалось – это довольствоваться малым и притворяться счастливой. Однако посещали меня и другие мысли и страхи. Часто я одергивала себя, не позволяя замечтаться, и напоминала, что Менхур просто был первым в мире магии, кто отнесся ко мне по-доброму, и потому неудивительно, что он мне нравится, но у этой привязанности совершенно нездоровая почва. Он помог мне, стал моим проводником и наставником, и все же это не было прочным основанием для любви. Возможно, мне лишь казалось, что я влюблена, а на самом деле я всего лишь неверно истолковывала чувство защищенности и надежности, которое маг мне внушал.
В доме Менхура у меня была своя спальня, но, когда он уходил утром лечить людей, я на цыпочках перебиралась в его постель, залезала под одеяло и нежилась еще пару часов, прежде чем начать повседневные дела. Ему я об этом, разумеется, не рассказывала, стесняясь своей сентиментальности, но я также часто носила его одежду, пока он не видит. Каждая вещь в доме хранила память о хозяине, начиная от расставленных на полках склянок и свечей и заканчивая веточками рябины и сушёной земляникой в стеклянной банке в деревянном настенном шкафчике. Я всегда с улыбкой представляла Менхура на рынке, выбирающего глиняный чайник или коврик в спальню, или тканые полотенца, хотя при мне он ни разу ничего не покупал для себя, и моё воображение охотнее рисовало его на лугу или в лесу с плетёной корзиной, полной разнообразных даров природы. Дом был отражением интересов и привязанностей мага, и я всегда с интересом рассматривала всякие мелочи, попадавшиеся мне на глаза, и каждая из них казалась мне загадкой, наполненной особым смыслом.