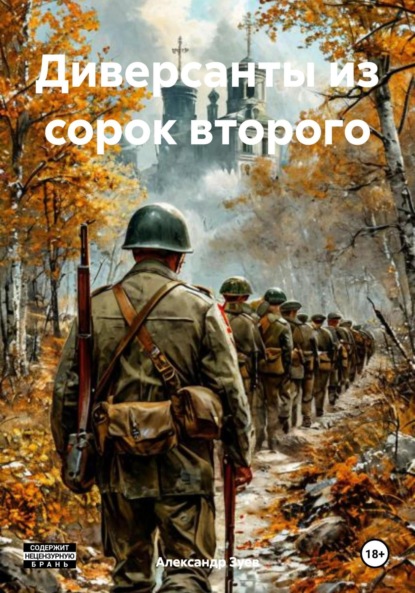- -
- 100%
- +

Всё началось с того, что Марина Леонидовна, наш завуч по воспитательной работе, вызвала меня после педсовета и сказала, глядя куда-то мимо – в окно, на стену, на собственные руки: «Вы бы, Игорь Петрович, подстриглись что ли». Я тогда ещё не понял, что это начало конца – или, если угодно, начало начала, смотря с какой стороны посмотреть на эту историю, на эту жизнь, на самого себя. Мне было сорок два года, я преподавал русскую словесность в обычной московской школе, носил одни и те же джинсы и свитер уже лет пять подряд (зачем менять, если целые, если удобные, если привычные?), и последний раз серьёзно задумывался о собственной внешности, кажется, в восемьдесят девятом или девяностом, когда пытался отрастить бороду, но она выросла какая-то неубедительная, клочковатая, явно не толстовская.
«Зачем?» – спросил я, искренне недоумевая. Мне казалось, что вопрос логичен.
«Ну как же, – она замялась, покраснела даже, – родительское собрание скоро. Вы же классный руководитель одиннадцатого "Б"».
Я пошёл домой через парк – ноябрьский, сырой, с голыми деревьями, похожими на нервную систему великана, разложенную для анатомического изучения, – и думал о том, что Марина Леонидовна, в сущности, конечно, права. Я действительно выглядел не очень. Вернее, никак не выглядел – был невидим, прозрачен, как та самая толстовская рубаха, которую носят якобы для души, а не для глаз. Но меня это устраивало, более того – я этим гордился. Я считал, что важно лишь то, что внутри, – мысли, идеи, способность разбудить в учениках интерес к Гоголю или хотя бы, на худой конец, к Пелевину, которого я терпеть не мог, но признавал его педагогическую полезность. Всё остальное – суета, иллюзия, как говорили буддисты, которых я в то время активно читал, наивно полагая, что восточная мудрость как-то поможет мне пережить российскую действительность.
А потом случилось то, что случилось. И теперь я не знаю, благодарить мне судьбу или проклинать её.
Зеркало первое: Сашка Громов
Саша Громов был моим учеником – одиннадцатый класс, умный мальчик с нервным лицом, читал не только программу, но и Бродского, которого я ему подсунул, и даже Мандельштама, что для современного подростка редкость не просто невероятная, а почти невозможная, граничащая с чудом. После уроков мы иногда разговаривали о поэзии, и в эти моменты я чувствовал себя не учителем, а старшим товарищем по цеху, таким вот условным Маяковским при условном Асееве, хотя, если честно, мне было бы приятнее быть Пастернаком при Цветаевой, но что имеем, то имеем. Сашка собирался на филфак МГУ, хотя отец – преуспевающий адвокат – настаивал на юридическом факультете Плешки, где сам когда-то учился.
Однажды – это было в середине октября, я помню, потому что за окном уже темнело рано – он зашёл ко мне в учительскую, худой, нескладный, в мятой рубашке, с вечно всклокоченными волосами, и положил на стол распечатку какой-то статьи. Я сначала подумал, что это что-то про Пастернака, которого мы тогда проходили.
«Игорь Петрович, – сказал он без предисловий, – я тут почитал про одно исследование. Оказывается, внешность влияет на успех даже в академической среде. То есть если профессор выглядит убедительно, его научные работы цитируют чаще. Удивительно, правда?»
Я пробежался глазами по тексту – там действительно были ссылки на какие-то эксперименты, на психологические исследования, цифры, проценты, графики. Честно говоря, меня это слегка покоробило – так коробит всё, что разрушает привычную картину мира. Неужели и правда всё настолько поверхностно? Неужели имеет значение, во что ты одет, когда говоришь об «Униженных и оскорблённых» или о «Преступлении и наказании»?
«Саш, – сказал я, откладывая бумагу, – это всё чепуха. Главное – содержание, а не форма. Помнишь Сократа? Уродлив был, как сатир, а какой ум, какая диалектика!»
Он посмотрел на меня странно – с жалостью, с какой-то недетской грустью, что ли? – и тихо сказал, почти шёпотом:
«Игорь Петрович, а вы посмотрите на себя в зеркало. Ну, просто посмотрите».
Я не посмотрел. Тогда.
Зеркало второе: Родительское собрание
Родительское собрание состоялось в пятницу, двадцать седьмого октября. Я пришёл в том же свитере – тёмно-сером, с затяжкой на локте и с пятном от кофе на груди, которое я пытался отстирать, но безуспешно, – и уселся за учительский стол. Родители заполняли класс постепенно, как вода заполняет корабль с пробоиной: мамы в основном, несколько пап, бабушка Сашки Громова – худая, сухая женщина с пронзительными птичьими глазами и поджатыми губами.
Я начал говорить про успеваемость, про литературные вечера, которые мы планируем провести к Новому году, про важность чтения в эпоху клипового мышления. Говорил увлечённо, как умел, как всегда – с цитатами, с примерами, с отступлениями. Но в какой-то момент поймал себя на том, что меня не слушают. То есть делают вид, что слушают, кивают головами, но взгляды скользят мимо, поверх, сквозь меня, кто-то проверяет телефон под партой, кто-то перешёптывается с соседкой, кто-то просто смотрит в окно на осенний дождь.
А потом встала мать Кати Соловьёвой – статная женщина лет сорока пяти, директор какого-то салона красоты на Маросейке, в дорогом костюме, с маникюром, с причёской, с этим особенным запахом дорогих духов – и сказала громко, внятно, с интонацией человека, привыкшего быть услышанным:
«Извините, Игорь Петрович, но у меня вопрос. Вы действительно считаете, что можете быть примером для наших детей?»
Повисла тишина – такая, что слышно было, как дождь барабанит по подоконнику. Я почувствовал, как краснею, как горят уши, как перехватывает дыхание.
«В каком смысле?» – голос мой прозвучал чужим, писклявым.
«Ну вот посмотрите на себя, – она сделала неопределённый жест рукой, охватывающий всю мою фигуру целиком. – Простите за прямоту, но вы выглядите… как бы это сказать… неухоженным. Дети же на вас смотрят каждый день. Они же видят, что учитель не следит за собой. Какой это пример?»
Я хотел возразить, сказать что-то про внутреннее содержание, про то, что я – филолог, а не манекен в витрине, про Сократа, в конце концов, но слова застряли в горле, как кость от селёдки. Потому что в её глазах – в этих красиво подведённых, профессионально накрашенных глазах – я увидел не злобу, не осуждение, а искреннее, неподдельное недоумение. Для неё было очевидно, аксиоматично, не требовало доказательств, что человек, который не может позаботиться о себе, не сможет позаботиться и о чужих детях. Логика железная. Я даже возразить не мог.
После собрания ко мне подошла бабушка Сашки – та самая, с птичьими глазами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.