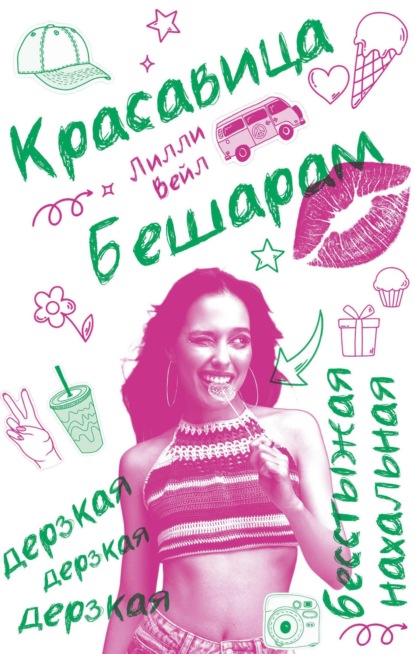Реставрация душ Агафья

- -
- 100%
- +
– А… А Агафья? – выдохнул он, не в силах вымолвить больше.
– Жива, жива, родимый! Устала только. Сильная она у тебя, молодец!
Он влетел в горницу. Агафья, бледная, измождённая, но сияющая, лежала на кровати. В её руках, завёрнутый в пелёнки, лежал маленький, красный комочек с тёмным пушком на голове.
– Смотри… – прошептала она. – Наташенька… наша дочь.
Илларион опустился на колени у кровати, не решаясь прикоснуться. Он смотрел на это хрупкое существо, и его сердце, закалённое в боях и лишениях, растаяло, как весенний снег.
– Здравствуй, дочка, – прошептал он, и его голос дрогнул. – Здравствуй, Наташенька.
Счастье, поселившееся в доме, было осязаемым, как запах свежеиспечённого хлеба. Мария, бабушка, не находила себе места от радости.
– Наточка, Натушка моя! – приговаривала она, качая внучку на руках. – Глянь, Семён, нос курносый, точь-в-точь как у Агаши в младенчестве!
Семён Васильевич, стоя рядом, улыбался своей мудрой, спокойной улыбкой:
– Вылитая мать. И глазёнки… васильковые, как и положено.
Илларион, этот грозный казак, превратился в самого нежного из отцов. По вечерам, вернувшись с обхода владений, он первым делом, не снимая даже полушубка, пробирался в горницу к колыбели. Он сам смастерил её из каповой березы, вырезав на изголовье узор из тех самых васильков, что были на кольце Агафьи. Он мог подолгу стоять, затаив дыхание, боясь потревожить сон дочери, и слушать её тихое, ровное дыхание.
– Илларион, да она не фарфоровая, не разобьётся, – смеялась Агафья, наблюдая за ним.
– А вдруг? – серьёзно отвечал он. – Она такая маленькая…
Он учился пеленать, и первые его попытки были настолько неуклюжими, что вызывали дружный хохот всей семьи.
– Батюшка, да ты её, как тульский пряник, заворачиваешь! – хохотала Мария. – Дай-ка сюда, я сама!
Но он упрямо тренировался, и вскоре его пелёнки стали почти такими же аккуратными, как у Агафьи.
Однажды вечером, когда Наташе было больше года, она, делая первые неуверенные шаги, держась за ножку стола, вдруг громко и четко произнесла:
– Па-па!
Илларион, читавший в углу, выронил книгу. Он поднял дочь на руки, высоко подбросил к потолку, а потом прижал к себе, пряча влажные глаза в её тёмные волосы.
– Слышала, Агаша? – кричал он жене. – Она сказала «папа»! Первое слово – «папа»!
– Ясно слышала, – улыбалась Агафья. – Видимо, ты производишь большее впечатление.
– Ну конечно! – гордо заявил он. – Я же её главный защитник!
Наташа росла тихой, ласковой и невероятно чуткой девочкой. Её васильковые глаза, казалось, видели больше, чем положено в её возрасте. Она могла подойти к расстроенной Агафье, забраться к ней на колени и, ничего не говоря, просто обнять. И тревога отступает.
– Чувствует, – говорила Мария, качая головой. – Внученька моя Натка всё чувствует. Дар в ней, Агаша, твой дар.
Агафья с трепетом наблюдала за дочерью. Она и сама ощущала ту самую тонкую, незримую нить, связывающую их. Иногда ей казалось, что дочь не просто подражает ей, а впитывает её состояние, её тихую радость или мимолётную грусть. Она молилась, чтобы этот дар, если он действительно перешёл к Наташе, стал для неё благословением, а не проклятием.
Так и текли их дни, наполненные простыми, но такими драгоценными мгновениями.
Зимой 1879 года, когда Наташе пошел 5-ый год, в их устоявшийся мир ворвалась беда. Сначала у девочки просто заложило носик, она стала капризной и вялой. Агафья, по старому обычаю, поила её тёплым молоком с мёдом и малиной, ставила горчичники.
Но ночью у Наташи поднялся жар. Она металась в кроватке, её щёки пылали неестественным румянцем, а из ушка показались гнойные выделения. Девочка плакала от боли, заливаясь в беззвучном, страшном плаче, когда слёз уже не было.
Семья была в панике. Вызванный деревенский лекарь лишь развёл руками. Состояние Наташи ухудшалось на глазах. Она уже не плакала, а лежала, бледная, как полотно, с остекленевшим, отсутствующим взглядом, её дыхание стало прерывистым и хриплым.
Агафья не отходила от кроватки, сжимая горячую ручку дочери, пытаясь своей волей, своей любовью удержать её в этом мире. Она чувствовала, как та самая незримая нить, связывавшая их, натягивается до предела, грозя оборваться.
– Не отдадим, – шептала она, стискивая зубы. – Не отдам тебя.
Илларион, видя её отчаяние и беспомощность знахаря, вдруг резко встал. Лицо его стало каменным.
– Всё, – отрывисто сказал он. – Ждать больше нечего.
Он наскоро натянул полушубок, схватил шапку и, не слушая уговоров Семёна («Куда ты, ночь на дворе!»), выскочил во двор. Через мгновение послышался яростный стук копыт по мерзлой земле он скакал в усадьбу к Волынскому.
Примчавшись туда, не слезая с коня, влетел в освещённый двор, сметая с ног удивлённого лакея.
– Волынскому! Немедленно! – прогремел он таким голосом, от которого зазвенели хрустальные подвески люстры.
Его впустили в кабинет. Сергей Александрович, невозмутимый, как всегда, поднял на него брови.
– Илларион? К столь позднему чаю?
– Врача! – перебил его Илларион, не соблюдая никаких норм. Его грудь вздымалась, с губ срывались клубы пара. – Моя дочь умирает! Нужен врач! Сейчас же!
Волынский внимательно посмотрел на него. Он видел не бунт, не дерзость, а животный, отчаянный страх отца. И, к удивлению Иллариона, кивнул.
– Распоряжусь. Будет у вас к утру.
На следующий день, когда в доме царила похоронная атмосфера, к их воротам подкатила кибитка. Из неё вылез молодой человек в очках, с взъерошенными волосами и большим чёрным чемоданом в руках. Это был Матвей Белов.
Он не тратил времени на светские любезности. Скинув пальто, он сразу подошёл к кроватке Наташи. Его движения были быстрыми и точными. Он осмотрел девочку, постучал пальцами по её груди, заглянул в уши.
– Гнойный отит, – констатировал он сухо. – Перешёл в менингит. Счёт на часы.
Агафья, услышав это, едва не лишилась чувств. Но Матвей уже открывал свой чемодан, доставая странные инструменты, склянки и пакетики с травами.
– Кипятку! Чистые тряпицы! И чтобы мне здесь никто не мешал! – скомандовал он, и в его голосе прозвучала такая уверенная власть, что даже Илларион беспрекословно подчинился.
Несколько суток Матвей Белов не отходил от Наташи. Он делал проколы, выпуская гной, ставил пиявки, чтобы снять воспаление, готовил сложные отвары из привезённых с собой трав и заставлял девочку по капле проглатывать лекарство. Он почти не спал, его лицо осунулось, но глаза за стёклами очков горели яростной решимостью.
Агафья, сидя в углу, чувствовала его невероятную концентрацию. Это была не просто работа, это была битва. Он вкладывал в спасение ребёнка всю свою душу, всю свою науку, весь свой талант.
Илларион, измождённый страхом, тихо спросил как-то раз, когда Матвей ненадолго вышел из горницы:
– Доктор, отчего ж она такая… белая? Словно кровушка вся отлила…
Матвей, поправляя очки, ответил уклончиво:
– Все силы на борьбу с недугом уходят, Илларион Васильевич. Крайне ослабела. Это пройдёт.
Но он лукавил. Его, человека науки, смущало не только это. Он прекрасно помнил, как всего несколько дней назад на него смотрели два василька яркие, живые, удивительно глубокие глаза. Теперь же, когда жар отступал и девочка ненадолго приходила в себя, её взгляд был туманным и отсутствующим. А цвет… Цвет глаз изменился. Яркая, сочная синева померкла, уступив место приглушённому, светло-серому оттенку, словно небо после сильной грозы.

На пятый день кризис миновал. Наташа уснула ровным, глубоким сном. Матвей, вытирая лоб, обернулся к бледным, как призраки, родителям:
– Пронесло. Вытащили. Теперь нужно восстановление.
Радости не было предела. Илларион, не в силах сдержать эмоций, схватил молодого доктора в объятия и чуть не задушил.
– Спасибо, – хрипел он. – Жизнь мою проси – всё дам!
Матвей, высвобождаясь, смущённо поправил очки:
– Да полно вам, Илларион Васильевич. Я своё дело делал.
Агафья подошла и, не говоря ни слова, низко, до земли, поклонилась ему. В её глазах стояли слёзы благодарности.
Матвей остался у них ещё на неделю, наблюдая за состоянием девочки. Он заметил и перемену в глазах, и ту странную пустоту, которую ощущала Агафья. Однажды, оставшись с ней наедине, он тихо спросил:
– Агафья Семёновна, а вы… чувствуете, что что-то… изменилось? Не только в её здоровье?
Она посмотрела на него с уважением. Он был не только врачом, но и очень наблюдательным человеком.
– Чувствую, – тихо ответила она. – Дар… он ушёл. Сгорел в лихорадке. И слава Богу.
– Вы… рады? – удивился Матвей.
– Да, – твёрдо сказала Агафья, глядя на спящую дочь. – Главное, что жива. Дай Бог ей быть самой что ни на есть обыкновенной. Дай Бог ей счастья.
Матвей кивнул и позже сделал в своём дневнике аккуратную запись, пытаясь найти научное объяснение связи между недугом и утратой «особой чувствительности».
Когда Наташа окончательно поправилась и встала на ноги, дом вновь наполнился смехом. Но это было уже другое, выстраданное счастье, окрашенное в оттенки благодарности и осознания хрупкости жизни. Матвей Белов, этот юркий, говорливый эскулап, стал своим человеком в их семье. Он приезжал под предлогом проведать Наташеньку, а оставался на вечерний чай, внося в дом струю московской образованности и жаркие споры с Семёном Васильевичем о вере и науке.
– Не может сего быть, батюшка, дабы всё в мире одной лишь верой держалось! – восклицал он, размахивая ложкой. – Вот, к примеру, микробы – под стеклом микроскопа, наглядно, зримо!
– А кто ж микров сих сотворил, как не Господь? – невозмутимо возражал Семён. – И стёкла для микроскопа тоже. Посему всё равно к Нему всё возвращается.
Споры всегда заканчивались общим смехом. Даже Илларион, обычно хмурый, улыбался, слушая их. Агафья с любовью наблюдала за этой странной дружбой могучего, молчаливого стража и юркого, говорливого доктора, который подарил их дочери вторую жизнь.
Их семейное счастье, пройдя через страшное испытание, окрепло и закалилось, как сталь. Они знали теперь его истинную цену. И готовы были беречь его пуще прежнего.

Глава 4: Крепкая родословная нить
Лето 1880 года, Звенигород
Июль выдался жарким и грозовым. Воздух над их домом на окраине деревни дрожал от зноя, внутри было душно. В самый разгар жары небо потемнело, налетел шквальный ветер, хлопая ставнями, и хлынул ливень, смешанный с градом. В просторной горнице, где когда-то всё пахло новизной, а теперь – жизнью, было тревожно.
Роды у Агафьи на сей раз были тяжелыми. Лицо Иллариона, привыкшего к виду крови и смерти, было серым от страха. Он не отходил от двери в их спальню, сжимая кулаки так, что кости трещали. Каждый стон жены отзывался в нем физической болью и мысль потерять её, его Агашу, была невыносимой.
Когда же за дверью наконец раздался новый, мощный крик, а акушерка, вытирая пот со лба, вышла и сказала: «Мальчик! Крепкий, здоровый!», Илларион, могучий казак, опустился на дубовую лавку в коридоре, спрятал лицо в ладонях и заплакал, как ребёнок, от счастья и снятого напряжения.
– Леонидом назвали, – добавила акушерка, улыбаясь. – По желанию Агафьи Семёновны.
Илларион лишь кивал, не в силах вымолвить ни слова.
Леон рос его точной копией молчаливым, упрямым, крепким. Дом стал для него идеальным полем для игр и первых открытий. С самого детства он пытался копировать отца: ходил за ним по пятам по всему дому и двору, с серьёзным видом «помогал» ему чинить калитку, а свои первые, кривые деревянные игрушки лошадку и медведя Илларион хранил в своём кабинете как величайшие сокровища.
– Смотри, Агаша, – говорил он, устроившись с трехлетним Леоном на широком подоконнике, вкладывая в его маленькую руку нож для резьбы по дереву. – Держи вот так. Не бойся. Дерево чувствует уверенность.
– Илларион, да он же ещё мал! – тревожилась Агафья, наблюдая за уроком из-за своего пяльца.
– Ничего, с мужского дела никогда не рано, – отмахивался отец. – Вот, смотри, как узор ведётся.
И Леон, сжав губы и нахмурившись, с недетской концентрацией водил ножом по мягкой липовой дощечке. Он был наследником, его продолжением.
Наташа, которой уже шёл девятый год, стала маминой главной помощницей. Она обожала большую, светлую мастерскую, где с интересом наблюдала, как Агафья плетёт кружева, подносила ей нужные клубки. Её глаза, светло-серые и ясные, были просто глазами в них не читалась та древняя глубина, что была у матери. И Агафья была бесконечно благодарна за это.
Дом наполнялся жизнью, шумом и теплом, а по вечерам за большим дубовым столом на просторной кухне собиралась вся семья. Теперь Илларион был не молчаливым стражем, а хозяином дома. Он уже не сидел, сгорбившись, а занимал своё место во главе стола, спрашивал детей об их успехах, обсуждал с Семёном Васильевичем новости.
– Леон, сегодня дрова колол? – спрашивал Илларион, разламывая душистый ржаной хлеб.
– Колол, батя! – бойко отвечал мальчик, стараясь говорить так же сурово, как отец.
– Молодец. Сила есть – умей управить. А ты, Наташа, что сегодня делала?
– Маме помогала, – скромно отвечала девочка. – И бабушке пирог с капустой лепила.
– Пирог-то тот уже в животе, – с любовью ворчала Мария, подкладывая внукам в тарелки ещё по куску. – Растут как на дрожжах.
Особое оживление царило в доме, когда приходили гости. Мирон с женой Дашей и девочками-близняшками, были частыми и желанными гостями. Девочки, Аннушка и Иришка, лет шести-семи, были точными копиями матери – с пышными каштановыми кудрями, сбивавшимися из-под платочков, и смышлёными карими глазами. Они, как два весёлых ручья, врывались в дом, заполняя его звонким смехом.
– Тётя Агаша! дядя Иллаша! – хором кричали они, снимая в сенях валенки. – Мы к вам!
Наташа, обычно тихая, преображалась в обществе сестер. Они бежали в её комнату на втором этаже, где тут же начинали свои игры.
– Давайте в прятки! – предлагала Аннушка, самая бойкая.
– В таком большом доме самое то! – подхватывала Иришка.
Их смех и топот разносились по коридорам, и даже Илларион только качал головой с ухмылкой, когда одна из неугомонных племянниц выскакивала из-за портьеры в столовой прямо перед ним.
Взрослые в это время собирались в гостиной. Мирон, повзрослевший и похорошевший, с гордостью рассказывал о своих хозяйственных успехах.
– Землицу под овёс прикупил, – говорил он, попивая чай из блюдца. – Урожай нынче, слава Богу, выдался на загляденье.
– То-то, смотри, не зазнайся, – с улыбкой ворчал Семён Васильевич. – Богатство испытание, а не награда.
– Знаю, батюшка, знаю. Потому и делюсь, кому трудно, – отвечал Мирон.
Даша, румяная и добрая, помогала Марии и Агафье по хозяйству, и их разговоры о детях, о рецептах и о деревенских новостях текли неспешно и тепло.
Однажды вечером, когда такие посиделки были в самом разгаре, а дети, наигравшись, устроились на ковре у печки и рисовали, в дверь постучали. На пороге стоял незнакомец, он молча протянул Иллариону плотный конверт с печатью «Стражей».
Воздух в комнате на мгновение стал гуще. Илларион вскрыл конверт, пробежал глазами по тексту и нахмурился.
– Что там, сынок? – спросил Семён.
– Вызов, – коротко бросил Илларион, переводя взгляд на Агафью. – В Особняк. Сергей Александрович и генерал Мещерский желают побеседовать. С тобой, Агаша.
Тревога, давно забытая, ёкнула в сердце Агафьи. Она молча кивнула.
Визит в старый особняк на Остоженке был словно путешествие в прошлое. Тот же запах старой пыли, воска и ладана, те же дрожащие тени от газовых рожков. Но кабинет Верховного Хранителя теперь делили двое: постаревший, но не утративший холодной проницательности Волынский и грузный, с тяжёлым взглядом генерал Мещерский.
– Агафья Семёновна, рады вас видеть, – начал Волынский, указывая ей на кресло. – Надеемся, семейная жизнь и материнство лишь укрепили ваш дар.
– Я живу своей жизнью, Сергей Александрович, – с достоинством ответила Агафья. – А дар… он приходит сам.
– Именно о его приходах мы и хотим поговорить, – вступил Мещерский, его голос был глухим и властным. – Нас интересуют нечто большее. Видения, связанные с могуществом империи. Полезные ископаемые, пути сообщения…
Он смотрел на неё пристально, ожидая немедленного ответа.
– Генерал, я не карта и не компас, – мягко, но твёрдо сказала Агафья. – Я вижу то, что мне показывают. И не всегда это поддаётся простому толкованию.
– Но показывают-то что-то? – настаивал Мещерский.
Агафья на мгновение заколебалась. Несколько дней назад к ней действительно приходило странное, мутное видение. Оно было слишком обрывочным, непонятным.
– Бывают образы, – осторожно начала она. – Смутные. Горные хребты, незнакомые… Много мужчин, покрытых сажей и пылью. Они бьют по камням, что-то ищут в земле. Грохот, пыль… И чувство… тяжёлое, будто сама земля стонет под их руками.
Она умолкла, не желая делиться больше. Видение было неприятным, тревожным, лишённым того света, что она обычно чувствовала.
Волынский и Мещерский переглянулись.
– Горные хребты… Сажа… Руда… – задумчиво проговорил Волынский. – Какие горы Агафья Семёновна?
Агафья только пожала плечами и промолчала. Она не знала этих гор и местность для нее была незнакомой.
Она видела что-то смутное, но оттого ещё страшнее. Горные хребты, незнакомые и чужие, встают в её сознании стенами из серого камня. Воздух густ от пыли, он щекочет гортань и застилает глаза, превращая день в вечные сумерки. Много мужчин, их тела покрыты чёрной сажей и бледно-серой каменной пылью, так что они кажутся не людьми, а тенями, порождёнными самой горой.
Они бьют по камням глухой, ритмичный стук железом о камень, бесконечный и унылый. Другие копаются в земле, что-то ищут, их спины согнуты в вечном поклоне незримому хозяину. Грохот, пыль, лязг… И то самое чувство тяжёлое, давящее. Будто сама земля стонет под их руками. Нет, не стонет скрежещет. Стиснув каменные челюсти, она терпит эту боль, и терпение её подходит к концу.
И вот он, миг.
Сначала тишина. Не настоящая, а какая-то вязкая, гулкая, будто гору перехватило под ложечкой. Резкий, сухой щелчок, словно лопнула исполинская кость. Потом другой.
Мужчины замирают, поднимают головы. Их глаза, белые в масках грязи, смотрят в потолок штольни, которую они сами и выгрызли. И тогда земля вздохнула.
Не грохот, а сначала глухой, всепоглощающий ВЗДОХ. Свод над их головами просто шевельнулся, как живое существо, и рухнул. Не камни падали, а падала сама гора, сама твердь. Оглушительный рёв, в тысячу раз громче любого взрыва, поглотил крики, короткие, оборванные, даже не успевшие стать ужасом. Гигантские глыбы, весом в десятки пудов, мягко, как пух, придавили тела, смешали кости и камень в одну кровавую пыль.
Пыль встала стеной, клубящаяся, серая саваном накрывшая всё. В ней мелькали обломки деревянных крепей, словно щепки. И потом… тишина. Глубокая, абсолютная, гордая тишина. Тихое урчание оседающих камней. Земля успокоилась. Она проглотила непрошеных гостей, залечила свою рану их плотью и кровью.
И в этой новой, могильной тишине Агафья чувствует не просто гибель. Она чувствует возмездие. Тяжёлое, древнее, как сами эти скалы. Земля не просто стонала она предупреждала. А они не услышали. И теперь их души, вместе с камнями, навсегда остались там, в темноте, под вечной тяжестью той самой горы, что они так дерзко пытались разгрызть.
Возвращаясь домой в карете, Агафья смотрела в окно на мелькающие огни Москвы. Это новое требование «Стражей» искать источники силы для империи пугало её. Её дар всегда был о людях, об их боли и радости. Теперь же его хотели превратить в инструмент для добычи ресурсов, для усиления власти. И это видение с горами и погибшими людьми… Оно не сулило ничего доброго.
Она решила пока не говорить об этом Иллариону, чтобы не омрачать их покой. Их жизнь и так была полна и без того.
Следующие два года пролетели в привычном, насыщенном ритме. Леон подрастал, становясь маленькой копией отца. Наташа росла, превращаясь в ладную, умную девчушку с тихим, добрым нравом. Вечера с Мироном и его семьёй продолжались, наполняя большой дом смехом близняшек и тёплыми разговорами.
Любовь Агафьи и Иллариона, пройдя через испытания, не угасла, а превратилась во что-то более прочное и глубокое. Это была не страсть первых лет, а тихая, уверенная сила. Они были двумя столпами, на которых держалась вся их маленькая вселенная в стенах этого дома.
Иногда по ночам, когда все спали, они разговаривали, стоя у окна в своей спальне, глядя на тёмный сад.
– Боишься? – как-то спросила его Агафья, имея в виду «Стражей» и новые требования.
– За тебя – всегда, – ответил он, обнимая её. – За детей. Но теперь я знаю, за что борюсь. Раньше я охранял приказ. Теперь охраняю тебя и наш семью. Это совсем другое дело.
Они не знали, что те смутные образы гор и руды, что видела Агафья, это лишь первые отголоски грядущих бурь, которые затронут не только их семью, но и многих других семей. Но пока их крепость стояла прочно, а в сердце Агафьи, рядом с любовью к семье, тихо тлел уголёк тревоги за её неясное и пугающее видение.

Глава 5: Родные просторы и тревожные тени
Весна 1886 года-, Звенигород
Апрель 1886 года ворвался шумным половодьем, заливая солнечным светом просторные комнаты большого дома на окраине. Воздух, напоенный запахом влажной земли и распускающихся почек, врывался в открытые форточки, словно пытаясь смыть последние следы былой затворнической жизни этого места. И словно в унисон пробуждающейся природе, в спальне на втором этаже, под аккомпанемент первой весенней грозы, рождалась новая жизнь.
На сей раз роды прошли на удивление быстро и легко. Когда акушерка, улыбаясь, подала Иллариону туго запелёнатый, энергично протестующий свёрток, он, могучий казак, чьи руки привыкли сжимать ружьё и саблю, взял сына с неожиданной бережностью.
«Крепкий, – произнёс он, внимательно вглядываясь в сморщенное личико. – Здоровый. И взгляд у него… пытливый… учёным, что ли, будет».
«Учёным? – слабо улыбнулась Агафья, счастливая и уставшая, смотря на них с кровати. А почему учёным?»
«Потому что имя ему Николай, – твёрдо объявил Илларион. – В честь государя. Пусть умом и трудолюбием служит России. Не штыком, а головой. Леон у нас воин растёт, а Коля пусть будет мудрецом».
Так в их семье появился Коля. И прозвище «мудрец», данное отцом, пристало к нему с самых пелёнок. Если шестилетний Леон, серьёзный и сосредоточенный, пропадал в сарае с отцом, постигая азы столярного дела и пытаясь вырезать свою первую деревянную саблю, то едва начавший ползать Коля устремлялся в мастерскую деда. Он мог подолгу сидеть на полу, уставившись на то, как Семён Васильевич, несмотря на возраст, уверенной рукой растирает на стеклянной плите кусочки лазурита в драгоценную синеву. Его детский лепет, едва он начал говорить, состоял из бесконечных вопросов: «Деда, а это что? А почему синяя? А кто на доске будет? Зачем ему борода?»
Дом и впрямь наполнился разноголосицей детских звуков от громкого топота Леона, изображающего казака-пластуна, до тихого бормотания Коли, разглядывающего узоры на ковре в гостиной. Их жизнь обрела свой, выстраданный и драгоценный ритм. По утрам Илларион, надев добротный армейский полушубок, подаренный тестем, уходил на обход своих владений теперь он охранял не «объект» по приказу, а свой дом, свою семью, свою крепость. Агафья управлялась с детьми и хозяйством, а потом удалялась в свою светлую мастерскую, пахнущую льняным маслом, воском и сушёным чабрецом.
Слава о её искусстве в кружеве разнеслась по Москве. Скромная мастерская стала негласным салоном, куда съезжались знатные дамы из Москвы. Их привлекала не только феноменальная тонкость работы, но и странная, умиротворяющая атмосфера, царившая вокруг самой мастерицы. К Агафье ехали не только за кружевами, но и за утешением.
Однажды к ней записалась молодая княгиня, Елизавета Петровна, хрупкая, с большими испуганными глазами дикого зверька. Она заказала воротник для предстоящего бала, но всё время теребила в руках платок и вздрагивала от каждого стука в дверь.
«Вам нездоровится, ваше сиятельство? – мягко спросила Агафья, раскладывая перед ней образцы изящных, воздушных узоров.
«Ах, нет, благодарю… просто нервы, – пролепетала та, избегая встретиться взглядом. – Муж… он очень строг. Бал на следующей неделе, а я… я всё время будто на экзамене. Боюсь ошибиться, сказать не то, опозорить его…»