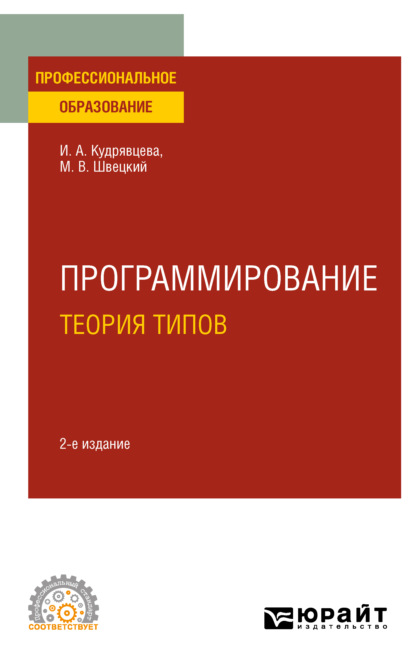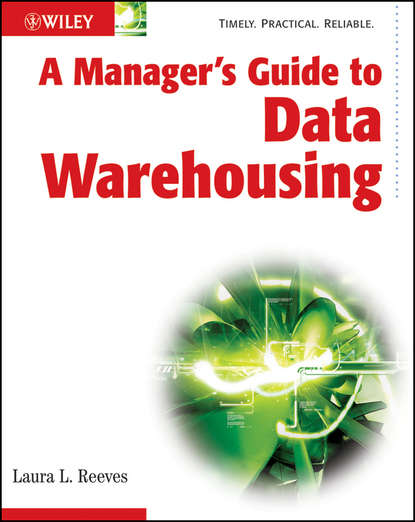Анатомия тишины

- -
- 100%
- +

Тишина, которую я так искала, оказалась не отсутствием звука, а отсутствием жизни. И я выбрала боль — потому что это и есть цена существования.
Пролог: Хромофобия
Для меня торговый центр в субботу – девятый круг ада, выкрашенный в кислотные тона. Я не слышу мысли людей. Я вижу их нутро. Их страх струится удушающим лиловым туманом. Вожделение бьёт в глаза алыми вспышками, похожими на сполохи салюта. Ложь – это мерзкая жирная плёнка болотного оттенка, которая обволакивает лгущего, как вторая кожа. А счастье… бывает разным. Чаще всего – ядовито-жёлтое, истеричное, ненастоящее. От него тоже болят глаза.
Я иду сквозь этот бешеный калейдоскоп, сгорбившись, будто против ветра. У меня трещит череп. Каждый новый визг ребёнка, взрыв хохота из кофейни, гул голосов – это не просто звук. Это всплеск цвета. Алый визг. Изумрудный хохот. Свинцовый гул. Мои нервы оголены, и по ним бьют этим дурацким спектаклем.
Я жмусь к стенам, стараясь идти там, где людей меньше. Мне нужно в «Канцбург», купить пачку графитовых карандашей. Простых, чёрных. Безликих. Они не будут кричать на меня цветом, давая мне возможность скрыться от внешнего мира за чёрно-белыми линиями в блокноте. Я почти бегу, опустив голову, но это не помогает. Я всё равно вижу краем глаза.
Вот пара сцепилась у витрины. От него – колючие, серо-коричневые шипы обиды. От неё – пронзительный, синий поток разочарования. Они кричат не словами, они кричат своими аурами, и этот визгливый дуэт взрывает мне мозг.
Вот женщина с коляской. От неё исходит усталое, выцветшее розовое сияние – любовь, перемешанная с безысходностью. А от младенца – чистый, ослепительно-белый цвет. Он ещё слишком мал, чтобы излучать что-то сложнее базовых чувств. Я на секунду задерживаю на нём взгляд. Единственный не мучительный образ в этой всей круговерти.
Я влетаю в «Канцбург», как снаряд. Здесь чуть тише, но всё равно есть источники звуков – девочки-подростки визжат у полки с блёстками, излучая радужные пузыри восторга. Пенсионерка ворчит у ценника, и от неё плывут серые, колючие волны раздражения.
Я хватаю первую попавшуюся пачку карандашей и мчусь к кассе. Моя очередь. Передо мной стоит парень. От него пахнет дорогим парфюмом и исходит ровный, спокойный, оливковый поток. Он уверен в себе. Немного скучает. Я невольно чувствую, как расслабляются мои плечи. Оливковый – терпимый цвет.
Он поворачивается, чтобы посмотреть на что-то, и его взгляд падает на меня. И тут же его аура взрывается. Оливковый мгновенно сменяется на грязно-оранжевую волну любопытства, примешанного с похотью. Он улыбается мне слишком белыми зубами. Его глаза бегут по моей фигуре.
– Прости, я что-то засмотрелся, – говорит он, и его голос обволакивает меня липкой, салатовой слащавостью. Ложь. Вежливая, но ложь.
Я отшатываюсь, будто он ударил меня. Моя голова раскалывается, как будто её только что проткнули иглами. Я бормочу: «Ничего…» – и смотрю в пол, чувствуя, как меня тошнит от этого внезапного превращения, от этой подмены. Он казался безопасным, а оказался таким же, как все.
Я протягиваю деньги кассиру, стараясь не смотреть на её ауру – унылый, землисто-коричневый цвет человека, который ненавидит свою работу. Вырываюсь на улицу с заветной пачкой карандашей, как будто это билет на свободу.
Но свободы нет. Только шум. Только цвет. Только боль.
Я останавливаюсь у стены, закрываю глаза и прижимаю ладони к векам. Темнота. Слава богу, темнота. В ней нет никаких оттенков. Только тишина. Тишина для моих глаз. Или же это моё желание ничего не видеть и не слышать?
Я мечтаю не о любви. Не о богатстве. Не о славе.
Я мечтаю о тишине.
Не о том, чтобы быть одной. Одиночество – это тоже цвет, тяжёлый и свинцовый. Я мечтаю о том, чтобы быть рядом с кем-то, кто не кричит на меня своим внутренним миром. Кто молчит. Абсолютно. Совершенно. Чья душа – это не буйство красок, а спокойная, безвоздушная, безэмоциональная пустота.
Идеальная тишина.
Я открываю глаза. Мир снова обрушивается на меня вихрем уродливых, прекрасных, невыносимых красок. Я делаю глубокий вдох, сжимаю карандаши в руке – свой маленький чёрно-белый якорь – и иду прочь, растворяясь в толпе.
Я иду на свою пытку. И молюсь о том, чтобы однажды найти того, кто будет тишиной.
Глава 1: Монохром
Спектр одиночестваПотолок над кроватью был испещрён трещинами. В серых предрассветных сумерках они складывались в причудливые узоры, похожие на карту незнакомых земель. Яна смотрела на них, ещё не до конца проснувшись, и сквозь ресницы видела слабое свечение – призрачное, едва уловимое. Это была её собственная аура. Сейчас она переливалась тихим, перламутрово-серым цветом – цвет беспокойного сна и усталого пробуждения.
Она медленно села на кровати, спустив босые ноги на прохладный пол. Комната тонула в полумраке, и это было блаженством. Тишина. Никаких кричащих красок, только размытые, сонные тени.
День начинался с ритуала – «настройки». Глубокий вдох, выдох. Мысленная установка: «Я – камень. Я – скала. Чужие эмоции – просто волны. Они накатывают и откатывают. Они не могут мне навредить». Она повторяла это как мантру, зная, что это ложь. Они наносили вред каждый раз.
Спускаясь в кухню-гостиную, она услышала, а главное – увидела маму. Ещё до того, как вошла в дверь, Яна ощутила густое, тяжёлое, фиолетовое сияние, пробивающееся из-под щели. Тревога. Вечная, знакомая, удушающая материнская тревога. Яна сделала ещё один «настраивающий» вдох и вошла.
В кухонной зоне, окутанная утренним полумраком, застыла фигура матери. Она стояла спиной к Яне, и в её сгорбленной, будто несущей невидимый груз, позе читалась привычная усталость. Небрежно повязанный фартук, запах кофе и жареного хлеба, медленные движения у плиты – всё это было частью утреннего ритуала, но Яна видела глубже: густое, тяжёлое, фиолетовое сияние, исходящее от мамы, заполняло собой всё пространство кухни, словно ядовитый туман. Казалось, даже воздух вокруг неё сгущался от вечной, невысказанной тревоги.
– Доброе утро, мам.
– Янка, ты как? Хорошо спала? Голова не болит? – мама повернулась от плиты, и фиолетовая аура вспыхнула ярче, потянулась к Яне липкими щупальцами. Каждый вопрос был окрашен в этот цвет.
Когда она обернулась, Яна увидела привычное отражение вечной тревоги, застывшее в чертах лица матери. В глазах, цвета потускневшего кофе, жила та самая мучительная забота, что окрашивала её ауру в фиолетовые тона. Легкие морщинки у глаз и губ прорезались не от смеха, а от постоянного внутреннего напряжения, будто она всегда к чему-то прислушивалась – к отдаленному звону возможной беды. Несколько седых прядей выбивались из небрежного пучка, и её рука, сжимающая половник, была худой, с проступающими венами – рукой, которая слишком много держала и слишком мало отпускала.
– Всё хорошо, – автоматически ответила Яна, отводя взгляд к чайнику. Её собственный серый цвет сжался в комок под напором материнского фиолетового. – Кофе только выпью и побегу.
Она не стала завтракать. Есть под пристальным, окрашенным в тревогу взглядом было невыносимо. Глоток горького кофе – и она уже надевала куртку, ловя на себе новый взгляд, новый фиолетовый импульс: «Ты точно есть не будешь? Одета тепло?»
– Всё хорошо, мам, я побежала!
Дверь захлопнулась, отсекая фиолетовый поток. Яна прислонилась лбом к прохладному косяку, стараясь отдышаться. Первый раунд дня был выигран, но впереди целая череда.
Город обрушился на неё, едва она вышла из подъезда. Ранее утро – не самое шумное время, но для Яны и его было достаточно.
Серый бетон домов-коробок давил на горизонт, а в просветах между ними клубился туман, подкрашенный рыжей дымкой заводов. Фонари еще горели, отбрасывая на асфальт бледные, болезненные пятна, которые смешивались с первыми лучами солнца, создавая размытую, неприятную для глаза пелену. Где-то вдали, словно раскаты приближающейся бури, гудели первые трамваи, и этот гул, сотрясающий воздух, был лишь прелюдией к тому оглушительному хору красок, что готовился ворваться в её сознание.
Собака на поводке тянула хозяина к дереву, и от неё исходил ярко-розовый, почти, что алый сгусток радостного возбуждения. Её владелец, сонный и помятый, излучал тусклое, серо-голубое безразличие. Контраст резал глаза.
У киоска с кофе выстроилась очередь. Бариста, девчушка лет двадцати, источала ядовито-жёлтое натянутое веселье – фальшивую улыбку для клиентов. А мужчина перед Яной, раздражённо поглядывающий на часы, был окутан колючим, коричневатым облаком злости. Яна отвернулась, стараясь смотреть себе под ноги.
Метро стало кульминацией сенсорной перегрузки. Толпа, давка. Десятки, сотни аур сплелись в один оглушительный, невыносимый хор. Алая вспышка чьего-то гнева из-за толчка, зелёная волна зависти девушки, смотрящей на чужой телефон, усталое серое свечение от сидящей пожилой женщины. Яна вжалась в угол вагона, закрыв глаза. Но это не помогало. Цвета жили не снаружи, а внутри её головы. Они давили на виски, сплетаясь в тиски начинающейся мигрени. Она чувствовала себя аквалангистом, заблудившимся на глубине, на которого давит вся толща океана.
Она считала остановки, молясь о том, чтобы поскорее вырваться. Её спасала только одна мысль – рисование. Новая пачка простых графитовых карандашей. Чёрных, безликих, молчаливых. Они не будут кричать на неё цветами, когда она будет рисовать ими в блокноте, в попытке уйти от внешнего мира. Они будут послушны прикосновению её руки. Они станут её крючком, за который она будет цепляться, чтобы не утонуть.
Когда двери вагона на её станции наконец-то открылись, она выпрыгнула наружу, как парашютист, делая глоток воздуха. Можно было отойти, отдышаться.
Она отряхнулась и зашагала к университету, стараясь смотреть только прямо перед собой, на тротуар. Один шаг. Другой. Ещё один. Парочка пройдена. Осталось всего-то пережить несколько часов в эпицентре бури. А потом снова домой. К фиолетовой тревоге. К своей комнате. К тишине, которую она могла создать только сама, включив музыку и взяв в руки карандаш.
Её день был циклом побегов. И она уже почти смирилась с тем, что так будет всегда.
Фиолетовая материнская любовьДверь в квартиру закрылась за Яной с тихим щелчком, отсекая внешний мир с его неоновым вихрем. Но тут же её накрыло другим – густым, плотным, знакомым до тошноты. Фиолетовым.
Он висел в прихожей тяжёлым, удушающим парфюмом. Который нельзя было ощутить обонянием, но который она видела каждой клеткой своей кожи. Он исходил из кухни-гостиной, просачивался под дверь, заполнял собой всё пространство квартиры, не оставляя ни сантиметра для чистого воздуха.
Яна замерла, прислонившись к прохладной поверхности двери. «Я – камень. Волны накатывают и откатывают». Сегодняшняя мантра работала плохо. Фиолетовый цвет материнской тревоги был не волной. Он был смогом. Он был вакуумом.
– Янка, это ты? – послышался из кухни-гостиной голос. Голос был тёплым, заботливым, но Яна видела, как от него расходились круги, как от камня, брошенного в воду.
– Я, мам! – крикнула она в ответ, слишком бодро, стараясь окрасить свой голос в «нормальные» тона, чтобы погасить материнские ещё на подлёте. Не сработало.
Она сняла куртку, повесила её, движения её были медленными, будто она двигалась в плотной жидкости. С каждым шагом вглубь квартиры, туман сгущался. Она прошла в кухню-гостиную.
Мама стояла у раковины. Спиной к ней. Но Яна видела её ауру лучше, чем любой портрет в картинной галерее. Она была ослепительной, пульсирующей сферой, от которой шли лучи-щупальца, ощупывающие пространство на предмет угроз. Одно из щупалец упёрлось прямо в грудь Яне.
– Ну как? Как день? Голова не болела? – мама обернулась. Её лицо было милым, уставшим, с морщинками у глаз. Но Яна почти не видела лица. Она видела сияние.
«Волны, – отчаянно думала Яна, глядя на чайник. – Просто волны».
– Всё нормально, – сказала она, подходя к холодильнику, чтобы хоть как-то развернуться к матери спиной и не видеть этого цвета прямо в глаза. – Пары как всегда.
– Ты поела? Там салат остался, я новый сделала. Или сосиски разогреть?
Каждое предложение было выкрашено в тот же цвет. Забота, основанная на страхе. Любовь, переходящая в удушье. Яна чувствовала, как её собственная и усталая аура сжимается, стараясь стать меньше, чтобы не соприкасаться с фиолетовым великаном.
– Спасибо, мам, я не голодна. В универе перекусила.
Это была ложь. Её аура дёрнулась и побелела. Если бы мама это могла видеть… Но она видела только свою дочь, которая слишком худа, слишком бледна и у которой слишком часто болит голова.
Фиолетовый цвет вспыхнул тревожным всполохом.
– Как это не голодна? Янка, нельзя так! У тебя же гастрит разовьётся! Давай я хоть омлет сделаю? Быстро!
– Мам, правда, не надо. Я устала. Пойду, полежу немного.
Она пыталась улизнуть, но фиолетовые щупальца уже обвили её.
– Подожди, как там с курсовой? Ты говорила с преподавателем? Он тебе тему утвердил?
Это было атакой с другого фланга. Тема курсовой была источником новой, свежей тревоги, а значит, и новой порцией фиолетового цвета.
– Утвердил, – соврала Яна во второй раз за минуту. – Всё хорошо.
Она сделала шаг к выходу.
– Одета ведь тепло? На улице ветер поднялся, я смотрела. Ты вроде в куртке, а что под низом? Кофта-то толстая?
Мамины глаза сканировали её одежду с рентгеновской проницательностью. Яна почувствовала себя лабораторной мышью под пристальным взглядом учёного, который ждёт, когда же проявятся симптомы болезни.
– Кофта, да. Всё в порядке, мам. Я пойду.
Она не ждала больше ответа, просто вышла в коридор, оставив маму в центре её фиолетовой вселенной.
В своей комнате она захлопнула дверь, но это не помогало. Цвет просачивался под дверью, давил на барабанные перепонки тихим, навязчивым гулом. Он был повсюду. В этих стенах, пропитанных годами гиперопеки. В каждой игрушке, купленной с мыслью «а вдруг ей будет грустно?» В каждой книге, подобранной чтобы «разить правильное мировоззрение».
Яна повалилась на кровать и уткнулась лицом в подушку. Она любила мать. Боже, как она её любила. И знала, что та платит ей той же монетой, стократно. Но эта любовь была ядовитой. Она не согревала, а обжигала. Не защищала, а заключала в стеклянный колпак.
Она думала о том фиолетовом цвете. Он был таким ярким, таким шумным. Иногда ей казалось, что если бы у неё не было этого проклятого дара, она могла бы быть счастлива, видя просто маму… Она видела бы просто маму – уставшую, любящую, немного надоедливую женщину. А не гигантский, пульсирующий сгусток тревоги, который преследовал её с самого детства.
С самого детства… Она сжалась. Вспомнила себя маленькой, в больнице. Белые стены, запах антисептика. И море испуганного, растерянного фиолетового цвета, исходящее от матери, склонившейся над её койкой. Тогда, впервые, её дар проявился в полную силу. И он навсегда связал для неё понятия «любовь» и «паника», «забота» и «страх».
Она глубоко выдохнула, пытаясь вытеснить цвет из лёгких. Ей снова хотелось тишины. Не просто отсутствия звука, а эмоционального вакуума. Места, где нет этого вечного, бьющего через край, душащего чувства.
Она мечтала о месте, где её никто не будет так сильно любить.
Холст без красокКомната была коконом. Миром, спроектированным для одного-единственного жильца, чьё восприятие было настроено на частоту, способную разорвать мозг обычного человека. Тишина. Не абсолютная – за окном шумел город, доносились обрывки музыки из соседней квартиры, – но это была обычная, здоровая, неслышимая тишина. В ней не было цвета.
Стены комнаты, от пола до потолка, были завешаны картинами. Но это не были пейзажи или портреты. Это были хаотичные, бурные, абстрактные полотна, написанные акрилом, маслом, пастелью и даже тушью. Они висели в простых чёрных рамах, как образцы в гигантской коллекции бабочек, только бабочками здесь были пойманные и запечатлённые эмоции.
Под каждой работой – аккуратная табличка, как в музее. Не название, а диагноз.
«Гнев № 14» – взрыв малинового и чёрного, резкие мазки, будто краску швырнули на холст в порыве ярости.
«Тоска матери № 7» – глубокий, переливающийся фиолетовый овал, в центре которого угадывалась едва видимая, истаивающая дыра.
«Ложь Дмитрия» – мерзкая, болотно-зелёная плёнка, нанесённая тонкими, наслаивающимися друг на друга слоями. Сквозь них проглядывал грязно-жёлтый подтон трусости.
«Радость незнакомца на мосту» – редкий светлый образец. Ярко-золотой всплеск, как первый проблеск солнца после долгого дождя. Эту картину она написала месяц назад, увидев мужчину, получившего долгожданное сообщение. Она смотрела на неё, когда нужно было напомнить себе, что не всё в этом мире уродливо.
Это был её дневник. Её исповедь. Единственный способ выплеснуть наружу тот невыносимый визуальный шум, что копился внутри каждый день. Взять чужую, давящую на неё эмоцию, перенести её на холст и таким образом обезвредить, лишить власти над собой. Сделать её объектом изучения, а не пыткой.
Она включила музыку. Монотонную, эмбиентную, электронную пульсацию без слов и запоминающейся мелодии. Звук, который заполнял пространство, не неся в себе никакой эмоциональной окраски. Белый шум для души.
На столе, рядом с мольбертом, стоял открытый ноутбук. На экране – страница в социальной сети. Никнейм – Chromo_Silence. Аватарка – одна из её самых абстрактных работ, серая дымка с проблеском белого. Подписчиков – несколько тысяч. Комментарии под последним постом, картина «Скука лекции по философии» (оттенки унылого бежевого и пыльно-голубого).
«Это прямо в душу. Я чувствую эту картину буквально».
«Как вам удаётся передать такие сложные состояния?»
«Гениально. Абсолютно гениально».
Она с лёгкой грустью провела пальцем по тачпаду, прокручивая комментарии. Они были приятны, но и бесконечно далёки. Эти люди видели лишь конечный продукт, красивую ипостась её кошмара. Они не видели одутловатого лица лектора, от которого исходила эта скука, не чувствовали, как она разъедает мозг. Для них это было искусство. Для неё – сублимация.
Она взяла в руки планшет и принялась делать небольшой эскиз того, как сегодня в киоске с кофе бариста начала приходить в раздражение. Она рисовала кислотно-оранжевые зигзаги. Работу решила назвать соответственно. «Раздражение бариста». Но сил дописывать не было. Сегодняшний день вычерпал её досуха.
Она отложила планшет и взяла телефон. В мессенджере был всего один активный чат – с аватаркой, на которой заливисто смеялась рыжая девочка с веснушками. Лика. Подпись: «Твоя психичка в законе».
Их диалог представлял собой вереницу голосовых сообщений. Текстом Лика почти не писала – говорила, что это бездушно. Яна отвечала тем же. Голос был чище, в нём не было видно лживых зелёных всплесков.
Яна нажала на кнопку записи. Сделала глубокий вдох.
– Привет, психичка… – её голос прозвучал хрипло от усталости. – Сегодня был тяжёлый день. Опять эта фиолетовая муть дома. А вчера в «Канцбурге» в очереди один тип так на меня посмотрел… такой салатовой, липкой слащавостью потянуло, аж затошнило. Иногда мне кажется, что я сойду с ума. По-настоящему. Просто лягу и заору. И перестану вставать.
Она замолчала, слушая свой голос, такой одинокий в тишине комнаты.
– Ладно, не слушай меня. Как ты? Как твой Марк? Надеюсь, от него не воняет коричневой изменой или ещё какой-нибудь дрянью. Целую. Скоро приеду.
Она отправила сообщение и отбросила телефон на кровать. Он лёг рядом с плюшевым лисом – подарком Лики лет десять назад. Единственным другом, который не излучал абсолютно ничего негативного.
Через минуту телефон завибрировал. Ответное голосовое от Лики. Яна включила его, не поднося к уху.
– Янка, родная! – голос Лики был тёплым, живым, он звенел, как медный колокольчик, и Яна могла почти физически ощутить его ярко-розовый, искренний оттенок. – Да пошёл этот тип в жопу! И маму твою с её вечными тревогами! Приезжай ко мне на выходные, я тебя спасу! Марк? Да он как золотистый ретривер, от него пахнет только честностью и глупостью, я проверяла. Серьёзно, приезжай. А то я за тебя беспокоюсь.
Яна улыбнулась. Слабо, уголками губ. Лика была её якорем. Единственным человеком, который знал о её даре всё и не счёл её монстром или сумасшедшей. Которая называла это не «проклятием», а «суперсилой», пусть и очень неудобной. Которая в детстве, когда Яна впервые призналась, что видит цвета вокруг людей, не убежала, а с горящими глазами спросила: «А какого цвета я?»
Яна не ответила голосовым. Слишком устала. Набрала текст: «Спасибо. Обнимаю. Подумаю насчёт выходных».
Она положила телефон и подошла к окну. Окно были зашторены, и только небольшая полоса света попадала в комнату. На улице зажигались огни. Окна в домах напротив плавали в вечерней дымке. Где-то там люди жили своей жизнью. Ругались, мирились, лгали, радовались. И каждый из них нёс в себе целую вселенную цвета, не подозревая об этом.
А она стояла здесь, в своей тихой, цветной гробнице, запертая со всей палитрой чужих чувств, и мечтала лишь об одном – о безвоздушном пространстве. О человеке, который был бы пустотой. Тишиной. Белым листом бумаги, на котором не было бы нарисовано ничего.
Она потянулась к столику, взяла самый простой графитовый карандаш. Провела им по чистой странице блокнота. Оставила безжизненную, совершенную серую линию. Никакого цвета. Никакого шума.
Это было прекрасно.
Ненастоящие мальчикиНа столе среди тюбиков с краской и пачек пастели, стоял небольшой холст, повёрнутый лицевой стороной к стене. Яна отложила кисть, которую мыла, и медленно, почти нехотя, повернула его.
На холсте бушевал хаос. Ярко-оранжевые, почти неоновые всплески радости, пронзённые тонкими, ядовито-зелёными прожилками. Это была работа под условным названием «Макс. Эйфория обмана». Она никогда не выкладывала её в сеть.
Палец сам потянулся к шероховатой поверхности краски, касаясь оранжевой зоны. Она была тёплой, пульсирующей, как память о летнем солнце. Она помнила этот цвет. Помнила Макса.
Он был первым. Однокурсник. Нахал с обаятельной ухмылкой, который не боялся ничего, включая её странную замкнутость.
Само его появление в её сером мире было подобно вспышке – он носил косуху, с которой не расставался даже в слякоть, и его рыжие волосы вечно торчали забавным вихрем, будто повторяя неукротимую энергетику хозяина. В смугловатом лице с живым роем веснушек особенно выделялись глаза – светлые, почти прозрачно-зелёные, которые всегда смеялись, даже когда он молчал. А когда он ухмылялся, в уголках его губ появлялась одна-единственная, но бездонная ямочка, в которую, казалось, можно провалиться.
Он излучал такой мощный, солнечно-оранжевый поток жизненной силы и азарта, что он почти не больно бил по глазам. Это было, как стоять у костра – тепло, ярко, завораживающе.
Он засыпал её сообщениями, таскал на крыши домов смотреть на город, смешил до слёз. Его оранжевая аура была таким контрастом её серой повседневности, что Яна опьянела. Ей казалось, что она наконец-то нашла то, что искала – человека, чья суть была такой же яркой и простой, как его оранжевая аура, который сияет так ярко, что затмевает весь остальной шумный мир.
Он впервые поцеловал её на той самой крыше, где над головой раскинулось бесконечное бархатное небо, усеянное редкими, но яростно горящими ранними звёздами. Огни города растекались золотисто-медовыми реками, и где-то вдали горел алмазный огонёк телебашни. Воздух был прохладным и прозрачным, пахнущим высотой и свободой. Казалось, весь мир замер в предвкушении чего-то прекрасного, подставив спину холодному ветру и сверкающему куполу ночи.
Глаза у неё были закрыты, губы тёплые. И Яна, сама того не желая, увидела. Увидела, как на ослепительном оранжевом фоне его ауры проступили пятна. Мутные, болотно-зелёные разводы. Они ползли, как плесень, затуманивая сознание.
Он думал о другой. Вчерашняя вечеринка, другая девушка, её смех. Он лгал. Лгал о том, где был. Лгал о том, что чувствует в этот самый момент. Его поцелуй был горячим, а его истинные мысли – склизкими и холодными, как эти зелёные пятна.