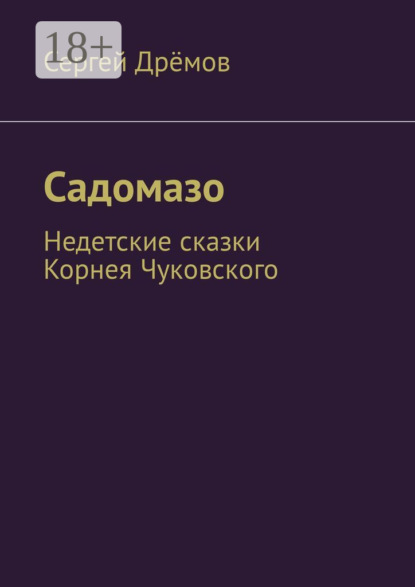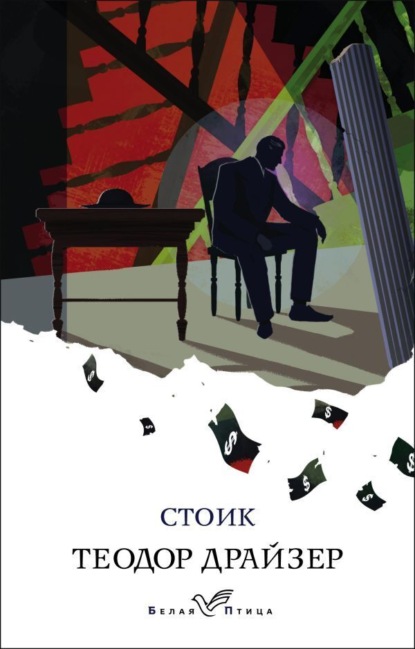- -
- 100%
- +
Церковь стояла в конце улицы – покосившаяся, обледенелая, с потемневшим куполом и крестом, склонившимся, будто уставшим. Двери распахнуты настежь, ветер гонял по крыльцу клочья инея, будто пепел. Ратибор шагнул первым, снял перчатку, коснулся косяка – дерево холодное, гладкое, как кость. Следом вошли Путята и Павел. Остальные остались у порога, словно не смели переступить черту.
Внутри пахло гарью, сыростью и железом. Под ногами скрипели осколки – то ли стекло, то ли обгоревшие свечи. Своды почернели от дыма, стены облетели, штукатурка осыпалась пластами, открывая под белым слоем что-то тёмное. Ратибор провёл ладонью по стене и замер.
Под краской проступали линии, не кресты, не орнаменты – древние знаки, спирали, рога, волчьи морды, нарисованные красной охрой. А поверх – торопливые кресты, наспех выведенные углём, словно кто-то хотел задушить старое новым. Но уголь выцвел, а старые знаки проступали сквозь него, как шрамы сквозь кожу.
– Господи… – прошептал Павел, подходя ближе. – Они переписали святые лики.
На стене висела икона. Когда-то на ней был лик Богородицы, но сейчас лицо было перечёркнуто – вместо глаз два угольных круга, из которых тянулись линии, как когти. Руки, державшие младенца, были обведены жирной чёрной полосой, переходящей в узор, напоминающий клыки.
– Не они переписали, – тихо сказал Ратибор. – Это сделал кто-то после. Когда деревня уже гнила.
Павел поднял крест, хотел перекреститься, но рука дрогнула.
– Осквернено, – выдавил он. – Кощунство.
– Или просьба, – ответил Ратибор, глядя на стены. – Может, они пытались защититься. Старое против нового.
В дальнем углу висела ещё одна доска. На ней был лик святого Георгия, но копьё, которым тот поражал змея, заменено когтем. Тонкие линии охры шли от когтя вверх, как трещины, и в свете солнца из окна казалось, будто змей шевелится под слоем краски.
– Видишь? – Ратибор кивнул Путяте. – Тут крест и коготь – одно.
Путята молчал, вглядываясь.
Павел упал на колени, прижимая крест к губам.
– Господи, верни свет… – прошептал он, но слова опять поглотила тишина. Только где-то в алтаре хрустнуло дерево, и с потолка упала снежная пыль, словно дыхание самого дома.
Ратибор обернулся к двери. Снаружи ветер усилился, небо темнело, хотя солнце стояло в зените. Он понял – Волчье не ждёт ночи, чтобы тьма пришла: она жила здесь всегда, просто днём меняла лицо.
ГЛАВА 3. Крест и коготь
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: тот же полдень, серый свет льётся через разбитое окно церкви, мороз сгущает воздух, пыль инея висит в лучах как пепел.
Павел поднялся с колен внезапно, будто что-то в нём переломилось. Лицо побледнело, глаза горели сухим огнём, руки дрожали, но голос был твёрдый, как камень.
– Всё это – ложь, – сказал он, указывая на стены. – Дьявольская мазня! Призыв к зверю!
Он шагнул вперёд и рывком сорвал со стены икону. Доска ударилась о пол, треснула, и из-под слоя копоти высыпался серый прах. Павел наступил на неё сапогом, раздавив. – Разрушить! Всё до единого! Сжечь, чтобы и следа не осталось!
Воины переглянулись. В глазах одних – сомнение, в других – облегчение, будто приказ вернул смысл происходящему. Путята нахмурился.
– Отец, может, не трогать? – сказал он тихо. – Эти знаки старше нас.
– Старше – значит злее, – отрезал Павел. – Где оставляют коготь, там не ждут милости.
Он вырвал другую икону, бросил к первой. Пыль взвилась, запахло гарью, старым воском, будто само дерево несло память огня.
Ратибор стоял чуть в стороне, глядя, как Павел с остервенением крушит остатки алтаря. Каждый удар отзывался гулом в стенах, будто храм стонал. Из щелей посыпалась штукатурка, и снова проступили древние символы – звериные морды, луны, когти.
– Видишь? – сказал он спокойно. – Сдираешь крест, а под ним – то, что было прежде.
– Тем паче уничтожить! – Павел схватил угольную икону, треснул о скамью. – Свет должен быть един.
Он достал факел, зажёг, и в пламени мгновенно зажглась пыль на полу. Огонь взметнулся вверх, лизнул угол стены, где тянулись охряные линии. Они засияли, как живые – будто кровь внутри досок вспыхнула. Воины отпрянули, кто-то перекрестился.
– Святой огонь очистит, – прокричал Павел. – Пусть горит!
Но пламя шло не вверх, а вглубь – в дерево, в пол, в те самые линии, что были под крестами. Они разгорались, сплетаясь в волчий силуэт. Ратибор шагнул к нему, вырвал факел из рук священника, погасил, втоптав в снег у порога.
– Хватит! – рявкнул он. – Мы не знаем, что будим.
Павел стоял тяжело дыша, на лице пепельные пятна, глаза лихорадочные.
– Всё, что здесь, – мерзость, – выдохнул он. – И если ты не сожжёшь, оно сожжёт нас.
В ответ – лишь потрескивание досок, запах сырого дыма и тихий треск, похожий на шёпот из-под пола.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: тот же полдень, солнце скрыто дымом, воздух в церкви пахнет гарью и воском, на полу тлеют обугленные доски.
Огонь угасал медленно, дым ложился низко, тяжёлый, горький. Павел всё ещё стоял в алтаре, стискивая крест, губы его шептали что-то беззвучное. Ратибор глядел на стены: сквозь копоть всё яснее проступали старые знаки, словно пламя не сожгло их, а пробудило. Тонкие линии охры тянулись, извиваясь, складываясь в звериные силуэты, и казалось, они дышат в полутьме.
Вдруг ветер ворвался в церковь – резкий, порывистый, и все факелы затрепетали. Дверь хлопнула, и в проёме, на фоне белого света, появилась фигура. Женщина. Та же, что у колодца. Милка.
Она стояла босиком на снегу, не дрожа, лишь волосы колыхались от ветра. Внутри церкви стало холоднее, словно вместе с ней вошла зима.
– Что ты наделал, – сказала она тихо, глядя на Павла. – Он услышит.
Павел обернулся, лицо его перекосилось.
– Кто? – выкрикнул он. – Дьявол?
– Тот, что был до твоего Бога, – ответила она. – Хозяин этих стен, что спал под крестами.
Она шагнула ближе, и под её ногами снег не скрипел, будто не касалась земли вовсе. Ратибор поднял руку, останавливая воинов. Милка смотрела прямо на него.
– Ты чувствуешь? – спросила она. – Холод не от ветра. Это дыхание. Он просыпается, потому что вы позвали его огнём и именем чужого Бога.
Павел сжал крест так, что костяшки побелели.
– Колдунья, – прохрипел он. – Замолчи!
– Говори тише, – её голос стал едва слышен, но слова словно прошли по воздуху, как шёпот по воде. – Здесь звук живой. Он слушает каждое слово.
Она посмотрела на стены, где охра уже светилась, словно под кожей дерева бежала кровь.
– Снова узнаёт свой дом, – сказала она. – И когда ночь опустится, он придёт за теми, кто тревожил его.
– Мы не уйдём, – произнёс Ратибор. – Пока не узнаем, что вы все скрываете.
Милка улыбнулась с грустью, качнула головой.
– Ничего мы не скрывали. Просто забыли. А вы вспомнили за нас.
Она отступила к дверям, и с её уходом стало темнее, как будто свет ушёл вместе с ней. Павел упал на колени, шепча молитву, но слова вновь утонули в тишине.
Только в углу, там, где пламя лизало доски, кто-то тихо зашептал в ответ – не голосом, а дыханием.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: тот же день, ближе к вечеру; солнце скрывается за облаками, церковь наполовину погружена в сумрак, дым от сгоревших икон ещё витает в воздухе.
Игнатий сидел на лавке у входа, завернувшись в плащ, чернильница дрожала в руке от холода. Книга лежала на коленях – промокшая, перепачканная пеплом. Он писал, пока пальцы ещё слушались. Чернила густели, превращались в лёд, буквы становились неровными, будто дышали.
«С тех пор, как пламя погасло, свет изменился», – вывел он старательно, глядя на стены. «Теперь вещи отбрасывают тени, но не туда, куда падает свет. Они живут по-своему».
В стороне, у алтаря, Павел молился. Его тень шла по стене – не плавно, а рывками, будто человек подёргивался судорогами. Игнатий вгляделся и понял, что Павел стоит неподвижно, а вот тень за его спиной двигается, скользит по камню, как зверь в клетке. Он сглотнул, опустил взгляд, но заметил другое: у Ратибора на полу лежала длинная чёрная полоса, и когда тот шагнул вбок, тень осталась на месте, не послушалась.
«Они отделяются», – торопливо вывел он. «Сначала – будто не сразу, потом всё яснее. У каждого – свой путь. У Путяты тень двигается медленней, как старик; у Павла – рывками, как больной; у Ратибора – тянется, будто ждёт чего-то».
За дверью закричала ворона, и Игнатий вздрогнул, пролив каплю чернил. Она расползлась по странице, похожая на пятно крови. Он поднял голову и увидел собственную тень на стене напротив. Она не совпадала с движением руки. Он поднял перо – тень не шевельнулась. Только потом, с запозданием, повторила движение, но слишком быстро, как будто торопилась.
«Моя тень живёт быстрее меня», – добавил он дрожащей строкой. «И, если она уйдёт раньше, я останусь пустой оболочкой».
Ветер прошёл по церкви, затрепал страницы, пламя факела затрепетало, и на миг все тени вокруг будто ожили, пересеклись, спутались в единое пятно. Игнатий захлопнул книгу, прижал к груди и посмотрел на Ратибора.
– Господин, – прошептал он, – здесь стены смотрят. И то, что ходит по ним, уже не наше отражение.
Ратибор ничего не ответил. Только тень его вдруг улыбнулась – шире, чем могло человеческое лицо.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: тот же вечер, бледный свет догорающего дня пробивается сквозь щели церковных стен; воздух неподвижен, пропитан копотью и холодом.
Сумерки вползали в церковь незаметно – через разбитые окна, через пол, сквозь дыхание каждого. Ратибор стоял у алтаря, вглядываясь в дальний угол, где, среди обломков досок и угля, виднелся каменный обелиск – наполовину вросший в землю, покрытый инеем. Никто не замечал его раньше, словно сам храм скрывал его до поры. Теперь он выступал наружу, тяжёлый, грубый, как из цельного серого камня, с обнажённой верхушкой, на которой лежал волчий череп.
Павел перекрестился и отступил.
– Что это? – спросил он. – Чужой бог?
– Старый, – ответил Ратибор, подходя ближе. – До вашего.
Он провёл ладонью по камню. Поверхность холодная, будто живая, под пальцами ощутил трепет – едва заметный, но настоящий. Камень вибрировал, как дыхание под кожей. На нём были высечены линии – сплетение когтей, лун и человеческих лиц, перетекающих друг в друга. У основания череп лежал ровно, как будто только что положили. Глазницы пустые, но казалось, из них тянется взгляд.
Игнатий подошёл сзади, сжимая книгу.
– Я видел его в хрониках, – сказал он. – В старых летописях называли Волчьим стражем. Мол, когда кровь проливается на снег, он открывает пасть.
– Тогда пусть молчит, – сказал Путята, сжимая меч.
В этот момент из глубины камня послышался сухой звук – словно кто-то тихо ударил кулаком по полому дереву. Павел вздрогнул, сделал шаг назад.
– Это ветер, – выдохнул он.
Но в церкви не было ветра. Воздух стоял мёртвый. Камень зазвенел тонко, будто от натяжения, по его бокам пошла тонкая трещина. Сначала одна, потом вторая, расходясь крест-накрест. Сухой треск отозвался под сводами, и пыль осыпалась с потолка. Череп дрогнул.
– Назад! – крикнул Ратибор, отталкивая Павла.
Треск усиливался. Камень пульсировал, как живой, свет от факелов метался по стенам. Из трещины сочился иней, не тающий, как дым, только холодный. Потом раздался громкий хлопок, и от черепа отломился кусок. Он упал на пол и раскололся – внутри камня что-то блеснуло, как кость.
Игнатий сжал книгу, прошептал:
– Он просыпается.
Павел бросился к идолу, хотел ударить крестом, но крест выпал из рук – металл покрылся инеем. Камень наконец смолк, трещины остановились, но теперь череп смотрел прямо на них. В его глазницах зажёгся тусклый синий свет, как отблеск далёкой зимней луны.
– Уходите, – глухо сказал Ратибор, не сводя взгляда. – Здесь уже не камень.
И когда они вышли наружу, за спиной церкви послышался низкий протяжный звук – не вой, не треск, а что-то между ними, словно сама земля училась говорить.
ГЛАВА 4. Первая кровь
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: глубокая ночь того же дня; тьма без луны, только слабое пламя костра и снежный свет, отражённый от облаков. Мороз леденит дыхание, церковь позади чернеет как мёртвая гора.
Ночь стояла тихая, мёртвая. Снег сиял как молоко под хмурым небом, будто само небо свалилось на землю. У костра потрескивали тонкие сучья, и в их слабом свете лица воинов казались масками – усталыми, обожжёнными морозом. Ратибор сидел у огня, не спал, слушал, как под ветром скрипят доски старой избы. И вдруг сквозь этот скрип прорезалось другое – тонкое, прерывистое, почти жалобное. Звук детского плача.
Трофим вскинул голову.
– Слышите? – спросил он. – Ребёнок где-то там.
Никто не ответил. Ветер шевельнул полог палатки, будто сам тянул его наружу.
– Может, эхо, – пробормотал Путята.
Но Трофим уже поднимался. Он взял факел, шагнул в темноту. Огонь в его руке казался хрупким, ненадёжным, свет плясал на сугробах, и снег под сапогами жалобно стонал. Чем дальше он отходил, тем слабее становился голос костра, а плач – отчётливее, ближе, живее.
Он остановился у дороги. Пламя облизнуло белую гладь, и в его отсвете вдруг вспыхнуло лицо – маленькое, бледное, почти прозрачное. Ребёнок сидел прямо в снегу, с голыми ступнями, с прилипшими к вискам белыми волосами.
– Господи, живой… – выдохнул Трофим и опустился на колено.
Мальчик поднял голову. На щеках не было ни малейшего румянца, глаза – огромные, почти чёрные. Он улыбнулся, как умеют улыбаться только куклы.
– Не бойся, – сказал Трофим, протягивая руку. – Всё хорошо.
– Холодно, – произнёс ребёнок. Голос его был тонок и пуст, будто ветер говорил чужими губами. – Мне холодно…
Он шагнул ближе, и Трофим хотел обнять его, но в тот миг улыбка мальчика изменилась. На лице появилось что-то звериное: губы дрогнули, обнажив зубы – острые, тонкие, нереальные.
– Мама звала, – сказал он почти шёпотом. – Хочешь – я позову и тебя.
Рывок был быстрым, как вспышка. Трофим не успел даже вскрикнуть: маленькие руки сомкнулись на его шее с силой, которой не могло быть у ребёнка. Воздух хрипло вырвался, снег потемнел. Глаза его раскрылись широко, рот наполнился паром, смешанным с кровью. Мальчик вцепился зубами в горло, будто пил жизнь. Всё длилось секунду – потом тишина.
Когда Путята и двое других добежали, факел Трофима валялся в снегу. На белом насте – пятно, расплывшееся и чёрное. Трофим лежал на спине, глаза открыты, будто всё ещё видел небо. Улыбка застыла на его лице, страшная, непонимающая.
А рядом – следы. Маленькие, голые, уходящие к церкви. Они не заполнялись снегом, словно земля сама берегла их.
Ратибор подошёл, глядя вниз. Снег под ногами скрипел так тихо, что казалось, он слушает их.
– Теперь всё началось, – сказал он вполголоса. – Первая кровь.
И будто в ответ издалека донёсся смех. Детский, короткий, звенящий, как ломающееся стекло – и сразу исчез, утонул в ветре.
Сначала никто не понял, откуда это пошло – будто сама ночь всколыхнулась. Снег под ногами завибрировал, из темноты послышался хриплый визг, и сразу за ним – крик. Путята обернулся: в свете костра мелькнула тень, длинная, неровная, скользнувшая меж домов. Потом ещё одна. В следующую секунду вся тишина деревни разорвалась на клочья.
– К оружию! – рявкнул Ратибор. Голос сорвался, но все поняли. Факелы полетели вверх, вспыхнули неровными столбами пламени. Воины выстраивались спешно, сапоги вязли в снегу, стрелы щёлкали по тетивам. Ветер ревел, глуша команды, а пламя в руках дрожало, бросая по стенам пляшущие пятна.
Откуда-то сбоку донёсся сдавленный вопль – один из стражей рухнул, словно его дёрнули под лёд. Кровь вырвалась из-под его воротника тёмной струёй, мгновенно застыла, но не успела упасть: над телом что-то мелькнуло, будто коготь или клык. Путята натянул лук и выпустил стрелу – та ударила в темноту, и раздался звук, похожий на сдавленный кашель.
– В круг! Держаться! – орал Ратибор, отбивая мечом падающий факел. Снег вокруг них стал красноватым от бликов пламени. Из темноты несло запахом железа и гнили, а воздух, казалось, сам стал плотнее, тяжелее.
Игнатий упал на колени у костра, закрывая уши, – он слышал, как где-то за спиной кто-то смеётся. Смех был низкий, неровный, будто детский голос пробовал звучать как взрослый.
– Они… они здесь, – прошептал он.
Павел держал крест, кричал молитву, но звук тонул в общем реве, словно тьма глотала каждое слово. Над ними летели искры, как дождь из золы, и всё это сливалось в один безумный вихрь – крики, топот, звон железа, визг стрел.
Один из факелов выронили – пламя ударило в снег, рассыпалось. В свете оставшихся огней на краю поляны мелькнула фигура – высокая, обнажённая до пояса, с белыми, как у покойника, плечами. Она стояла неподвижно, пока в неё летели стрелы, а потом просто растворилась, оставив в воздухе запах крови.
– Держи строй! – ревел Ратибор, но стрелы кончались, и воины били мечами по пустоте. Удар – свист – вспышка – снова удар. И снова тьма. Казалось, деревня ожила и кинулась на них всеми своими домами, тенями, дыханием земли.
Пламя гасло. Крики рвались глухо, как через лёд. Ратибор видел только лица – искажённые страхом, выхваченные светом, исчезающие одно за другим. Снег всё глотал, не оставляя даже крови. Когда остался лишь один костёр, он понял: ночь взяла то, что ей принадлежало. И впереди – не враг, не зверь, а сама зима, с тысячью ртов, поющих один и тот же зов.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: та же ночь, снег шипит под искрами, воздух пропитан дымом и страхом, вокруг хаос боя и света.
Пламя металось по стенам домов, отражаясь в замёрзших окнах, словно само село смотрело на их ужас. Павел стоял посреди площади, в одной руке крест, в другой факел, лицо его было белее снега. Ветер развевал рясу, огонь отбрасывал его тень, длинную, искорёженную, пляшущую по стенам. Вокруг кричали, звенели мечи, что-то грызло воздух.
– Демоны! – кричал он, хрипло, срывая голос. – Это слуги ада! Отступите! Покайтесь, пока Господь не отвернулся совсем!
Он размахивал крестом, будто мог отсечь им тьму. Факел в другой руке пылал, чадя жирным дымом, и этот дым стелился по земле, словно в нём шевелились тени. Из огня вырвалась Милка – словно сама тьма сдвинулась, и из неё вышла женщина. Волосы у неё были развёрнуты, глаза блестели в огне, губы, обожжённые холодом.
– Замолчи! – крикнула она. – Не демоны! Это вы! Вы сожгли их дом, вы разбудили древнее, что спало под снегом!
Павел повернулся к ней, лицо искажённое, как маска.
– Ведьма! – заорал он. – Твоя ложь – корень зла! Это ты привела их, бесов твоих!
– Возмездие! – её голос взорвался, перекрыл шум боя. – Это возмездие, глухой раб! Они возвращают то, что вы забрали.
Вокруг них полыхал снег. Путята бился в стороне, где из тьмы выскакивали быстрые силуэты, и каждый удар меча уходил в пустоту. Но Павел и Милка не слышали никого – только друг друга.
– Господь отверг вас! – рычал Павел, крест горел в его руке, металл светился белым пламенем. – Он сотрёт твоё имя с этой земли!
– Твой Господь слаб, – прошипела Милка, и огонь вокруг неё затрещал сильнее. – Его молитвы не слышит снег. А древний слышит. Он голоден, и вы сами принесли ему жертву.
– Замолчи! – Павел бросился к ней, но пламя вдруг сорвалось с его факела, взвилось вверх, упало между ними, разрослось стеной. Огонь не грел – он жёг воздух. В нём мелькнул силуэт – не человека, не зверя, а очертание с головой волка, распластанное по небу.
Люди кричали, кто-то падал, кто-то стрелял вслепую. Милка стояла за стеной пламени, глядя на Павла, и казалось, что говорит не она, а сама земля её устами.
– Не они пришли, – прошептала она. – Он.
Павел отступил, глаза его стали круглыми, губы дрожали. Из темноты донёсся вой – протяжный, будто сама ночь выла от радости. И вся деревня замерла в этом звуке, в котором слышалось и обещание, и конец.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: та же ночь, вскоре после схватки Павла и Милки; бой утихает, факелы гаснут, воздух недвижен и густ.
Тишина легла внезапно – будто кто-то перерезал горло самому звуку. Крики стихли, звон мечей растворился, только ветер ходил кругами, гулкий и холодный, шевеля искры на пепле. Пламя костров трепетало, умирало. Воины стояли, тяжело дыша, каждый в тени своего страха, и не смели смотреть на снег. Но он уже менялся. Сначала незаметно – белый наст будто потускнел, стал серым, затем начал темнеть. Под ногами проступили тени, не от огня – от чего-то внутри. Ратибор наклонился, дотронулся до снега рукавицей: сухой, но под коркой – влага, тёплая. Он поднял руку, на коже остался след, красный, как ожог.
– Кровь, – сказал он глухо.
Никто не ответил.
Снег вокруг впитывал пятна, тянул их в себя, как губка. Там, где падали тела, не оставалось ничего – ни крови, ни следа. Только чернота, которая шла вглубь, и чем больше смотрел, тем яснее видел, как под прозрачной коркой движется тьма, медленная, живая. Она тянулась, ползла, будто снег пил.
Павел стоял на коленях у распавшегося костра, крест в руке дымилась, металл шипел.
– Земля отравлена, – прошептал он. – Она пьёт грех, как младенец молоко.
Милка медленно подняла голову, её волосы трепетали от ветра, глаза отражали безлунное небо.
– Не грех, – сказала она. – Кровь. Он ест кровь. Ему нужна сила, чтобы встать.
Ратибор сжал меч. Под ногами хрустнул наст, и тёмная влага под ним шевельнулась, будто дышала. От каждого шага снег гулко отзывался, как кожа над пустотой. Один из воинов, самый молодой, не выдержал, сделал шаг назад – и тут же упал на колени, потому что наст под ним провалился. Из-под снега поднялся пар, как из раны.
– Назад! – крикнул Ратибор, но голос утонул в этом дыхании.
По земле побежали тонкие прожилки – тёмные, узкие, извивающиеся, как корни. Они соединяли тела, пятна крови, шаги, будто земля впитывала память ночи.
Игнатий отступал, прижимая к груди книгу.
– Он кормится, – бормотал он, – он становится плотью.
Снег рядом с ним всхлипнул, будто втянул воздух, и под коркой что-то зашевелилось, стуком отозвалось в глубине. Пламя последнего факела треснуло, рухнуло в темноту.
И в этот миг всем показалось: сама земля дышит – тяжело, гулко, будто пробуя силу. Каждая снежинка почернела, каждая тень потянулась, и мир стал тёмным, как кровь, которую он теперь пил без меры.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: рассвет после ночной резни; солнце ещё не показалось, но небо уже бледнеет, мороз душит запах крови.
Утро пришло без звука. Сначала стало светлее – не от солнца, а от того, что тьма устала. Тусклый свет скользил по сугробам, по застывшим лицам, по обломкам факелов. Снег теперь был снова белым, будто ничего не случилось. Только Ратибор, проходя мимо кострища, понял: что-то не так. Тела исчезли.
Он замер, переводя взгляд. Там, где ночью лежали убитые, остались лишь неровные вмятины, будто кто-то стоял на коленях, склоняясь в молитве. Следы шли рядами, каждый отпечаток идеален, как от живого человека. Но мёртвых не было. Ни крови, ни оружия, ни клочка ткани. Даже копейные древки, вбитые в наст, пропали, словно их никогда не втыкали.
– Господи, – прошептал Игнатий, подходя ближе. – Они встали.
Ратибор наклонился, коснулся одной из ямок. Снег там был гладкий, плотный, но холоднее, чем вокруг, будто в нём остался след холода, старше ночи. Он не чувствовал пальцев, только дрожь в запястьях.
– Не встали, – сказал он глухо. – Ушли.
Павел стоял рядом, в глазах его не было ни веры, ни страха – лишь усталость. Он держал крест, но крест потемнел, металл будто заплыл инеем.
– В таком холоде тело не исчезает, – сказал он. – Это не смерть, это знак.
Милка вышла из-за полуразрушенной избы, волосы спутаны, глаза блестят, как лёд.
– Они не ушли, – сказала она. – Он забрал их. Ночь насытилась. Снег теперь помнит имена.
Павел повернулся к ней резко, но не успел ответить: с неба соскользнула тонкая тень – облако или птица, трудно было сказать. На мгновение оно накрыло деревню, и в этот миг все увидели, как следы в снегу – эти отпечатки коленей – начали заполняться сами. Белый наст поднимался, словно кто-то снизу выпрямлялся. Потом всё стихло. Следов больше не было.
В воздухе стоял запах сырого железа и мокрого камня. Ратибор оглянулся на пустую улицу, где дома теперь казались чуть ниже, чем раньше. Ветер прошёл, едва тронул его плащ и замер.
– С рассветом тьма не уходит, – тихо сказал он. – Она просто меняет цвет.
Павел закрыл глаза, прижал крест к губам, но дыхание тут же замёрзло, и иней покрыл его бороду. Вдалеке, где начинался лес, снег дрогнул – будто кто-то пробовал землю изнутри. Солнце не появилось. Небо оставалось серым, как пепел, а мир вокруг стал похож на могилу, из которой никто не спешил вставать.