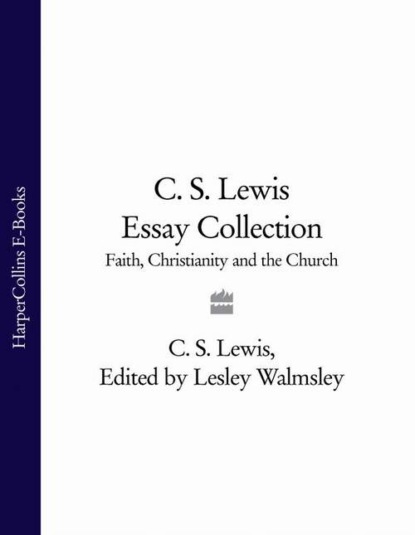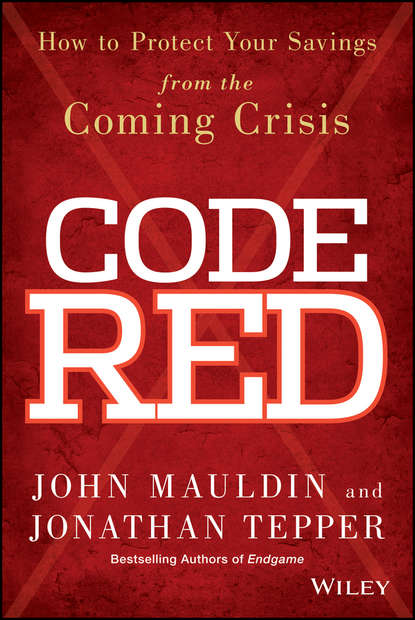- -
- 100%
- +
ГЛАВА 5. Осада
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: поздний вечер того же дня; небо затянуто свинцовыми тучами, снег летит стеной, деревня погружается в серую мглу.
К вечеру не осталось света. Всё вокруг застыло в густом сумраке, будто над Волчьим опустили крышку саркофага. Ветер налетел внезапно – не как обычная буря, а словно сам воздух ожил и возненавидел всё живое. Дома скрипели, крыши выли, ставни бились в судорогах. Из этого хаоса рождался вой – не отдельный, не человеческий, а многоголосый, будто сотни глоток пели одну и ту же ноту, протяжно, без дыхания. Он приходил со всех сторон, и даже снег отзывался, как кожа под пальцами.
Ратибор загнал людей в амбар – старый, пахнущий сеном и железом, единственное здание, где ещё держались стены. Тяжёлые двери захлопнули, перекрестили, подпёрли бревном. Внутри было темно, слышно, как ветер рвёт петли, как за стеной что-то царапает доски. От каждого порыва доски дрожали, пол поскрипывал, а под крышей падала труха.
– Всё равно найдут, – прошептал кто-то из воинов. – Они идут на звук.
– Молчи, – отрезал Ратибор. – Пока живы – нас нет.
Он подошёл к узкому окну, заглянул наружу. Снег танцевал вихрем, но в этом вихре мелькали тени, словно фигуры. Неясные, вытянутые, то встающие на задние лапы, то падающие обратно в снег. И с каждой минутой вой становился громче, сильнее, будто их всё больше, будто сама буря выла вместе с ними.
Павел стоял на коленях у стены, шептал молитву, но слова вязли во рту, не поднимались выше языка. Милка сидела в углу, глаза полузакрыты, губы шевелились, будто она отвечала ветру, подпевая ему на древнем наречии.
– Замолчи, – сказал Ратибор, глядя на неё. – Ты их зовёшь.
– Нет, – ответила она спокойно. – Они уже здесь. Я только слушаю.
Ветер взвыл так, что стены прогнулись. Звук стал похож на песню – протяжную, изломанную, как похоронный плач. Игнатий зажал уши, но слышал всё равно. Путята схватил меч, однако клинок дрожал, будто от холода, будто металл сам понимал, против кого его поднимают.
За дверью что-то ударило – глухо, тяжело, потом снова. Дерево затрещало, осыпалось щепой. Люди инстинктивно прижались друг к другу, как звери в логове.
– Это ветер, – сказал кто-то, но никто не поверил.
Ратибор стоял у двери, ладонь на рукояти меча, и слушал, как буря поёт. Голоса в вое менялись: то женские, то детские, то низкие, звериные. Казалось, хор подхватывает сам себя, каждая нота – имя, каждое имя – зов.
– Он поёт им, – прошептала Милка. – Чтобы знали, где мы.
Ратибор посмотрел на неё, на людей за спиной – бледных, дрожащих, готовых сорваться в бег.
– Тогда пусть поёт, – сказал он тихо. – Мы ответим молчанием.
И амбар замер. Лишь вой снаружи не стихал, кружил над крышей, гремел по доскам, как тысяча глоток, сливающихся в один голос, что тянулся сквозь ночь – долгий, бесконечный, пока даже ветер не стал казаться живым существом, осаждающим их дом.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: ночь продолжается; буря стихла, ветер теперь ровный и холодный, свет луны прячется за облаками.
После долгого рева ветер вдруг оборвался. Остался лишь его отголосок – слабое завывание, будто море шумело далеко под землёй. Тишина была такая густая, что слышно, как у каждого внутри колотится сердце. Ратибор осторожно приподнялся, подошёл к узкому окну и заглянул наружу. Снег лежал ровно, бело-серый, словно небо спустилось на землю. И на этом белом – тени. Они двигались неторопливо, размеренно, по кругу, как будто что-то высматривали.
– Волки, – сказал он, не повышая голоса. – Много.
Воины поднялись, сжимая оружие. Путята подошёл ближе к двери, прислушался. За стеной слышался тихий скрип снега – мягкий, повторяющийся, размеренный. Волчья поступь. Временами прорывался тихий рык, короткий, как предупреждение. Они не бросались, не рычали в ярости, просто ходили вокруг амбара, словно сторожили.
– Почему не нападают? – прошептал Игнатий, дрожа. – Они нас чуют.
Милка подняла глаза от пола, где рисовала углём круги, похожие на следы когтей.
– Потому что не голодны, – ответила она. – Они ждут.
– Чего? —
– Приказа.
Павел резко обернулся, лицо его потемнело.
– Бред! Это звери, не войско!
– Ошибаешься, – сказала Милка тихо. – У зверя нет воли. А у них – есть голос. Слушай.
Все замолкли. И правда – сквозь толщу стен, сквозь треск бревна слышалось: вой не громкий, не угрожающий, а ритмичный, будто кто-то дирижировал им. Волки перекликались, точно знали, когда начинать и где остановиться. Ритм был медленный, древний, повторяющий биение сердца. От него становилось невыносимо холодно, словно мир вокруг стал дыханием чего-то огромного.
– Они считают нас, – произнёс Ратибор, глядя в узкую щель. – Ходят кругами, мерят. Сколько людей, сколько огня.
– Не говори, – прервала Милка. – Они слышат язык. Даже дыхание.
Игнатий прижался к стене, зубы стучали. – Значит, что делать?
– Молчать, – ответил Ратибор. – И ждать.
Так они стояли, в тишине, слушая, как за стенами скребутся когти, как тени движутся по снегу, обходя амбар всё ближе и ближе. Иногда один из зверей выл, другой отвечал – и круг снова замыкался. Это было не нападение. Это был обряд, и каждый шаг, каждый вздох людей внутри звучал как приглашение.
Снаружи что-то шевельнулось. Один волк подошёл ближе всех – Ратибор видел его морду через щель: глаза светились янтарём, неподвижные, разумные. Ветер снова поднялся, принёс с собой тихий, почти ласковый вой.
– Это не звери, – прошептал Игнатий, – это стражи.
– Нет, – сказал Ратибор, чувствуя, как холод поднимается по спине, – это судьи.
И волки, как будто услышав, остановились. Молчание стало полным. Ни звука, ни движения – только взгляд сотни глаз, впившихся в стены, и в этом взгляде было ожидание.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: та же ночь, спустя немного после того, как волки окружили амбар; внутри царит напряжённая тишина, снаружи светится снег, и луна прячется за рваными облаками.
Павел не спал, хотя глаза горели от усталости. Его руки, обожжённые холодом, всё ещё держали крест, словно рукоять меча, и пальцы сводило от напряжения. В амбаре было душно, люди едва дышали, стараясь не шелохнуться. Лишь ветер постанывал, иногда проскальзывая сквозь щели, неся запах сырого меха и чего-то звериного. Волчий круг не расходился.
Павел подошёл к узкой щели между досками и выглянул наружу. Луна выплыла на миг из-за облака, осветила снег серебром. И в этом свете волки засияли, как камни в воде – десятки, сотни глаз, отражающих небо. Они стояли неподвижно, морды подняты, пар из пастей поднимался тонкими струями. Казалось, это не дыхание, а молитва.
– Господи… – прошептал Павел. – Что же Ты создал?
Один из волков повернул голову. Свет лёг на его морду, и Павел отшатнулся. Это не была морда зверя – глаза человеческие, впалые, губы потрескавшиеся, борода слиплась от инея. Лицо, которое он узнал. Брат Киприан – один из тех, кого они нашли в обозе, с вырванным горлом. Только теперь это лицо было живым, но тело волчьим. Оно смотрело прямо на него.
– Не может быть… – прошептал Павел, но волк не исчез. Наоборот, рядом с ним, в полукруге света, вырастали новые силуэты. Волчьи тела, человеческие лица – изуродованные, но знакомые. Брат Сергий, отец Варфоломей, юный послушник с родимым пятном на щеке. Все – те, кого он отпевал, кого хоронил в снегу.
Они стояли бок о бок с волками, и каждый смотрел прямо в окна амбара. Их рты открывались в такт дыханию зверей, и Павел понял, что вой, который он слышит, идёт не из пастей. Он идёт из человеческих глоток.
– Братья… – выдохнул он, прижимаясь лбом к доске. – Это не вы… вы мертвы…
Но одно из лиц дрогнуло, губы шевельнулись, и до него донёсся шёпот, тихий, как шелест инея:
– Ты сжёг храм…
Павел отпрянул, ударился спиной о стену, крест выскользнул из пальцев.
– Что там? – спросил Ратибор.
– Они… – Павел сглотнул, горло пересохло. – Они не ушли.
Милка, сидевшая у стены, подняла взгляд.
– Он зовёт их, – сказала она спокойно. – Тех, кого ты лишил покоя. Они вернулись с ним.
Павел схватил крест, прижал к груди, но металл был холодным, как лёд.
– Это не люди, – шептал он, – это обман. Демоны.
– Может, – ответила Милка. – А может, просто твоя молитва вернулась к тебе лицом.
Он снова выглянул в щель – волков больше не было. Остались только человеческие силуэты, бледные, неподвижные, и каждый из них улыбался, будто узнал своего пастыря.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: ночь тянется бесконечно; кажется, рассвет так и не придёт, внутри амбара гаснут последние огни.
Игнатий сидел у стены, спиной к холодным доскам, прижимая к груди книгу, давно уже промёрзшую. Чернила в чернильнице схватились льдом, перо затвердело, но он всё равно водил им по воздуху, будто писал на невидимой странице. Казалось, что прошёл час, может, два, но время перестало двигаться. Сколько они сидят здесь – ночь, день, несколько? Он не знал. Мерцание факелов сменилось серым мраком, дыхание людей стало редким, и сам воздух внутри будто оброс инеем.
Ратибор стоял у двери, не двигаясь, уже не вслушиваясь – просто смотрел в темноту, где должны были быть волки. Павел молился без звука, губы шевелились, но глаза были открыты и стеклянные, как у статуи. Милка дремала или притворялась, лицо её в полутьме казалось чужим. Всё застыло. Даже дыхание.
Игнатий поднял голову – пламя на фитиле погасло, и он не заметил когда. Он выдохнул, и воздух встал перед ним облаком, не рассеиваясь. «Замёрзло», – подумал он, но облако не исчезло, наоборот, начало медленно двигаться в сторону, отделяясь от него, точно живое. Он моргнул. Вспомнил, что это не первый раз: кажется, ещё недавно его тень делала то же самое. Или давно? Может, той ночи не было вообще, и всё повторяется?
Он взглянул на ладони – кожа сероватая, под ногтями чёрный налёт, будто копоть, хотя огня не касался. Он провёл рукой по лицу – щетина обледенела, будто прошло несколько дней.
– Командир… – позвал он тихо. – Который час?
Ратибор не ответил, даже не повернулся. В его глазах отражался снег, но снег давно должен был кончиться.
– У нас нет часов, – сказала Милка из темноты. – Здесь время спит.
Игнатий попытался вспомнить, когда они ели в последний раз, когда зажигали факелы, когда Павел ещё говорил громко. Воспоминания рассыпались, как стекло. Он прижался к книге, но страницы внутри были пустыми. Он точно помнил, что писал – о тенях, о кровавом снеге, о волках. Теперь ничего. Бумага чистая, как снег за дверью.
– Оно сожрало слова, – выдохнул он. – И теперь ест часы.
Милка усмехнулась – звук короткий, тихий, будто шелест одежды.
– Здесь нет времени, Игнатий. Здесь только ожидание.
Он посмотрел на Ратибора. Командир стоял, словно вырезанный из дерева. Может, уже мёртв. Может, жив. Игнатий не был уверен, жив ли сам. За стенами снова начинался вой – монотонный, убаюкивающий, как колыбельная. И вдруг он понял: ночь не кончается не потому, что рассвет опоздал. Просто теперь не осталось того, кто мог бы увидеть утро.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: та же бесконечная ночь, за стенами воцарилась мёртвая тишина, факелы почти догорели, воздух внутри амбара густой, как дым.
Когда вой стих окончательно, наступила такая тишина, что каждый вдох звучал, как треск. Люди сидели, не двигаясь, словно боялись даже моргнуть, чтобы не потревожить хрупкое равновесие этой тьмы. Пламя последнего факела доживало последние минуты, вытягиваясь тонкой лентой света, будто свеча в чёрном храме. Всё вокруг дышало ожиданием. Ратибор чувствовал, как этот холод просачивается под кожу – не как мороз, а как присутствие.
Милка, до этого сидевшая у стены, вдруг подняла голову. Её глаза блеснули в полумраке – не отражая свет, а будто изнутри. Она долго молчала, будто прислушивалась к чему-то за пределами слуха. Потом сказала негромко, но так, что каждый услышал, даже если не хотел:
– Он уже в вас.
Слова упали тяжело, будто камни на лёд. Павел вскинулся, словно от удара.
– Молчи, – выдохнул он, – нечестивица!
– Не я, – ответила Милка спокойно. – Это он шепчет. Изнутри.
– Что ты несёшь? – Путята поднялся, рука на рукояти меча. – В нас? Кто – он?
– Тот, кого вы разбудили, – сказала она, глядя на Павла. – Когда сожгли храм. Когда кровь упала в снег. Когда первый крик прозвучал в ночи. Вы сами впустили его дыханием.
Павел дрожал, крест у него в руках стучал, как сердце. – Ложь… я… я не…
– Почувствуй, – перебила она. – Слушай, как пульс бьётся не в груди, а глубже, в животе. Как холод живёт между рёбрами. Он дышит вами. Ему не нужен зов снаружи, он уже нашёл дорогу внутрь.
Ратибор стоял у двери, и ему показалось, будто стены сдвигаются. Доски будто дышали, подрагивали, и каждый удар ветра совпадал с ритмом сердца. Он сжал зубы, но почувствовал – губы немеют, пальцы деревенеют, не от холода, от чего-то иного. Изнутри.
Игнатий шептал что-то себе под нос, держась за голову.
– Они не шевелятся… – бормотал он. – Волки застыли, как камни…
– Не нужно им шевелиться, – сказала Милка. – Они в вас теперь. Глядят вашими глазами.
Павел поднял крест, словно хотел ударить, но рука дрогнула – металл потемнел, и из рукояти, как из трещины, сочился иней. Он выронил крест.
– Он внутри… – прошептал он, и голос его стал чужим, глухим.
Милка встала, подошла ближе, её дыхание пахло снегом и железом.
– Поздно бояться, – сказала она. – Когда он входит, страх – это его язык.
Никто не двинулся. Внутри амбара стало тихо, будто всё вокруг слушало их изнутри. И в этой тишине слышно было только одно – общее, тяжёлое дыхание, как если бы все делили одно лёгкое.
ГЛАВА 6. Голод
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: утро после той самой ночи, но света нет – всё небо затянуто серым, беспросветным туманом, и день кажется продолжением кошмара.
Холод стал тише, но глубже – не ветер, не мороз, а что-то тяжёлое, глухое, давящее изнутри. Люди уже не говорили. Они сидели, прижавшись к стенам, обмотанные шкурами, и даже дыхание их не поднималось паром. Костёр потух ещё ночью, и теперь амбар был похож на пещеру, где живут не люди, а ожидание. Запах сена смешался с сыростью, с потом и железом. Мука кончилась три дня назад, вода – вчера. Они пили растаявший снег, но снег теперь пах железом, и тот, кто пил, плевался кровью.
Игнатий больше не писал. Листы его книги лежали на полу, вросшие в иней. Павел молчал, глаза его были мутными, как лёд. Милка не спала, только смотрела в потолок, будто читала невидимые слова. Ратибор считал в уме – сколько осталось людей, сколько живых. Ответ не менялся. Меньше, чем надо.
Сначала они пытались готовить кожу ремней, потом крошили кору с досок. Никто не ел – жевали, чтобы не слышать урчания желудков. Вой снаружи стих, но он остался в ушах, как шум крови. И тогда это случилось.
Один из молодых – Звонарь, так звали его за звонкий голос, – вдруг поднялся. Без причины, без слова. Глаза его были тусклые, губы обветрены, щеки ввалились. Он стоял у стены, и никто не обратил внимания, пока он не засмеялся. Смех был тонкий, безумный, как треск льда.
– Он зовёт, – сказал Звонарь. – Я слышу. Там еда. Там тепло.
– Сядь, – сказал Ратибор. – Никто не выйдет.
– Ты не понимаешь, – выдохнул Звонарь. – Он добрый. Он обещал. Там, за дверью, он даст. Только мне.
Путята шагнул к нему, но парень оттолкнул его. Глаза его горели, как у человека, которому показали солнце. Он сорвал засов, ударил плечом в дверь. Та скрипнула, приоткрылась. Ветер хлынул внутрь, принёс запах снега, гнили и чего-то сладкого.
– Не смей! – крикнул Ратибор, но Звонарь уже выскочил наружу. Дверь хлопнула, и всё стихло.
Несколько мгновений никто не двигался. Потом они услышали – не крик, не вой, а звук, похожий на короткий вздох. Потом – тишина.
Павел перекрестился, рука дрожала.
– Душа ушла, – прошептал он. – Или вернулась.
Ратибор подошёл к двери, коснулся засовов – те были холодны, как лезвие. Он не стал открывать.
– Пусть будет с ним тот, кого он услышал, – сказал он тихо. – Мы ещё дождёмся своего зова.
И в тишине снова послышалось что-то – будто шорох шагов за стеной. Не бег, не бой, а спокойное, медленное движение. Словно Звонарь теперь действительно ел – но не то, что обещал себе.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: то же серое утро, день и ночь слились в одно беспросветное время; холод держит амбар, как гроб.
Сначала был только ветер – сухой, звенящий, будто кто-то натянул струну над крышей. Потом – крик. Короткий, пронзительный, почти нечеловеческий. Он разрезал тишину так резко, что Игнатий выронил книгу, а Павел вскрикнул, словно его самого ударили. Ратибор встал, подошёл к двери, но не тронул засов – только слушал. Крик оборвался внезапно, будто его вырвали с корнем. После – тишина. Та самая, вязкая, тянущаяся, в которой даже собственное дыхание звучало как грех.
Прошло, может, десять минут, может, час – никто не знал. Время потеряло очертания, растаяло в морозном воздухе. Люди сидели неподвижно, лишь Милка не сводила взгляда с двери. Она знала.
Потом – шаги. Не волчьи, не чужие. Тяжёлые, размеренные, человеческие. Сначала далеко, потом ближе. Наст трещал, как ледяное стекло, и с каждым шагом звук становился отчётливее. Павел вскрикнул:
– Не открывать! Это не он!
Но дверь сама дрогнула. Медленно, без усилия, как если бы ветер толкнул. В проём ворвался холод, и с ним – Звонарь.
Он стоял на пороге, сутулясь, как старик. Лицо мертвенно-бледное, губы посинели, одежда заледенела. Но глаза… они были не человеческие. Светились в полумраке зелёным, глубоким, как болотная вода. Ни страха, ни боли – только бездонная уверенность.
– Он пустил меня, – сказал Звонарь. Голос сиплый, низкий, будто говорил кто-то другой. – Я видел снег изнутри. Там нет холода. Там тепло, и всё дышит.
Путята отступил, рука легла на меч.
– Что с тобой?
– Слушай, – прошептал Звонарь и улыбнулся. Улыбка расползлась до ушей, кожа на щеках треснула, но он не заметил. – Он голоден. Как и мы. Но теперь я не боюсь. Я с ним.
Он сделал шаг вперёд, и от его сапог капала вода, хотя снаружи мороз стоял лютый. На полу оставались следы, и каждый из них темнел, как от крови.
Павел поднял крест, но рука дрожала.
– Отступи, – крикнул он. – Во имя…
Звонарь засмеялся. Смех был глухой, рваный, как рычание зверя. Губы его дрогнули, и Ратибор увидел, что зубы стали неровными, острыми, будто ломаными.
– Во имя? – повторил он. – У него тоже есть имя. Только мы забыли, как его произносить.
Милка поднялась, подошла ближе, всматриваясь в его лицо.
– Ты не вернулся, – сказала она. – Ты просто пришёл вместо себя.
Звонарь наклонил голову, улыбнулся ещё шире, и на шее у него зашевелилась кожа, будто под ней кто-то двигался.
Ратибор выхватил меч.
– Вон! – рявкнул он. – Или я рассеку тебя на двоих!
Звонарь медленно отступил к двери, не сводя глаз с Ратибора.
– Уже поздно, – произнёс он, и голос его был не человеческий, а глубокий, хриплый, будто говорил сам снег. – Он ест через вас.
Потом шагнул назад в белое, и дверь хлопнула, как крышка гроба.
За ней раздалось тяжёлое дыхание – не одно, а множество, будто сто голосов дышали в унисон.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: тот же беспросветный день, туман не рассеивается, в амбаре тускло, воздух стоит тяжело, пахнет железом и страхом.
Дверь ещё дрожала от удара ветра, когда Звонарь снова вернулся. Никто не заметил, как он вошёл – будто не открыл дверь, а просто возник из воздуха. Он стоял в проёме, покачиваясь, глаза горели тем же болотным светом, губы искривлены в детской улыбке. На лице снег не таял, будто не ощущал тепла. Путята вскрикнул, поднимая меч, но Павел шагнул вперёд, оттолкнув его.
– Не смей, – сказал он. – Это человек. Его можно вернуть.
Милка усмехнулась, не поднимая взгляда. – Вернуть? Куда? Он уже по ту сторону.
– Замолчи! – рявкнул Павел. – Демон не возьмёт того, кто освящён.
Он достал крест, теперь поблёскивающий инеем, поднял его над головой. Света от него не было, но Павел говорил громко, отчаянно, вкладывая в слова всё, что осталось от веры.
– Господи, спаси раба Твоего! Изгони нечистое, что вошло в плоть его! Верни душу, если в ней осталась искра!
Звонарь стоял неподвижно, потом сделал шаг к нему, наклонил голову, будто слушая. На миг показалось, что он действительно узнаёт голос, будто вспоминает, кто он есть. Губы дрогнули, глаза потускнели. Павел, почувствовав это, решился.
– Во имя Отца… – начал он, касаясь крестом лба Звонаря.
В ту же секунду тот поднял голову. Его движения стали рваными, как у зверя, которого будят. Он поймал руку Павла и впился зубами в запястье.
Крик пронзил амбар. Кровь брызнула на пол, на доски, и в этом крике не было боли – был ужас. Павел рванулся, ударил его крестом по лицу, но тот не отпустил. Его зубы вошли глубоко, кожа треснула, по воздуху пошёл запах горячего железа. Когда Павел наконец вырвался, его рукав был обагрён тёмной кровью.
Звонарь отступил на шаг, медленно облизал губы. Глаза его светились сильнее, дыхание шло паром, но не вверх – вниз, будто холод исходил изнутри.
– Освятил, – сказал он. – Теперь Он знает твой вкус.
Павел отшатнулся, прижимая руку к груди. Милка поднялась, глядя на него без страха.
– Глупец, – прошептала она. – Он же кормится верой. Ты дал ему то, чего ему не хватало.
Павел сполз на пол, губы его дрожали, молитва путалась с бредом. Кровь сочилась из раны, падая на снег у порога. И снег впитывал её – не жадно, а осмысленно, как будто пил медленно, смакуя.
Ратибор подошёл, отбросил мечом тело Звонаря к двери, глядя на Павла.
– Теперь молчи, – сказал он глухо. – Если он в тебе – пусть не услышит, что ты зовёшь по имени.
Павел ничего не ответил, только стонал, глядя на крест в руке – тот уже не блестел, а чернел, словно металл сам пил кровь вместе со снегом.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: то же серое утро, время будто остановилось, снег за окном светится мертвенным светом, внутри амбара пахнет кровью и горелым воском.
Звонарь стоял посреди амбара, качаясь, как колос под ветром. Из уголка его рта стекала кровь Павла, но сам он улыбался – широко, по-детски, будто ничего не случилось. Рана на запястье у Павла продолжала сочиться, и этот звук – капли, падающие на пол – был громче любого голоса. Воины смотрели, не смея шевельнуться, как на что-то, чему нет имени. Звонарь медленно повернул голову, и по шее у него пробежала дрожь, как будто под кожей что-то двигалось.
– Он живёт во мне, – сказал он. Голос стал глуже, будто его произносили два рта сразу. – Теперь я слышу, как дышит снег.
Павел отползал к стене, прижимая руку к груди. Глаза его стекленели, губы бормотали молитву без звука. Милка стояла в углу, неподвижная, словно камень, и только глаза её блестели.
– Не смотри, – сказала она Ратибору тихо. – Убей, пока он всё не забрал.
Звонарь сделал шаг вперёд. Тень его на полу потянулась в стороны, и там, где она проходила, доски покрывались инеем. Он протянул руку к Павлу, пальцы вытянулись, ногти стали длиннее, чернея у концов.
– Я не чувствую голода, – сказал он. – Он насытился.
– Скажи, кто ты, – выдохнул Ратибор, поднимая меч.
– Я – вы, – ответил Звонарь и шагнул.
Ратибор рванулся вперёд, клинок рассёк воздух, потом плоть. Удар был короткий, без крика. Меч вошёл в грудь, прошёл насквозь, и Звонарь дёрнулся, будто струна под напором. Тело выгнулось, изо рта вырвался хрип – не человеческий, а низкий, хриплый, как рёв зверя. Кровь не брызнула, только пар поднялся столбом, густой, с запахом ржавого металла.
– Прости, – прошептал Ратибор, и ударил снова. На этот раз – по шее.
Кость треснула, звук отозвался в стенах, будто раскололась сама зима. Голова повалилась на пол, тело ещё секунду стояло, потом рухнуло. Снег под дверью зашевелился, словно отозвался, и за стеной кто-то коротко выл.
Милка шагнула ближе, смотрела, как пар поднимается из раны, как снег под телом тает.
– Теперь он голоден, – сказала она. – Теперь он будет искать нового.
Ратибор вытер меч о рукав, но кровь не смывалась, будто впиталась в металл. Он стоял над телом долго, не отводя взгляда, и слышал, как сердце внутри него бьётся слишком быстро, как будто внутри, под рёбрами, кто-то повторяет этот ритм.
Павел, побледневший и почти без сознания, прошептал:
– Ты не убил его… ты просто освободил.
Ратибор опустил меч, посмотрел на распластанное тело. Из разрубленной шеи всё ещё шёл пар – ровный, спокойный, как дыхание спящего зверя.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: то же беспросветное утро, спустя мгновения после смерти Звонаря; амбар погружён в гулкую, давящую тишину.