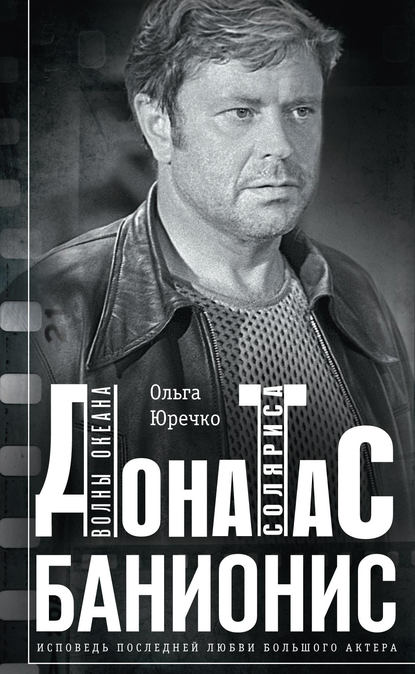Тень Андромеды. Книга Первая. Наследие Богов и Пыли

- -
- 100%
- +
Джефир открыл глаза, задыхаясь, его собственные лёгкие отказались работать против этого идеального, бездушного сжатия. Матиус слегка приподнял бровь, и в этом микро-жесте было больше удивления, чем в любом восклицании.
–Реакция: пассивное принятие с элементами сенсорного анализа. Нестандартно. Переходим ко второй фазе. Контролируемое смещение.
Давление исчезло так же внезапно, как появилось. Но тут же его правую руку дёрнуло в сторону с такой силой, будто за неё ухватилась невидимая рука гиганта. Кость хрустнула, он едва удержал равновесие. Его собственная сила телекинеза, спавшая под подавителями, взбунтовалась, инстинктивно пытаясь «оттолкнуть» захват. В воздухе между ним и Матиусом с сухим, рвущим треском сверкнула синеватая искра, и Джефир почувствовал, как из его ноздрей потекла тёплая струйка крови.
– Интересно, – произнёс Матиус, делая пометку на планшете, который материализовался у него в руках из ничего. – Сила отвечает на силу. Животный рефлекс. Но канал обратной связи… искажён. Как будто ты не применяешь волю, а зеркалишь мою, пропуская её через собственное, хаотичное искажение.
Он посмотрел на Джефира с первым проблеском чего-то, кроме холодного, клинического интереса. В его глазах мелькнула тень… сожаления?
–Тебя не учили основам. Тебя учили бояться того, что у тебя есть. Жалко. Из такого сырья, при должной ковке, можно было выковать первоклассный инструмент. Теперь… теперь ты просто брак. Брак с необычными, потенциально опасными свойствами.
СЦЕНА 2: ДОКТОР РАСКИН И ТРЕТЬЕ ОКО
Из зала Матиуса его, шатающегося, с окровавленным лицом, перевели в помещение, больше похожее на стерильную операционную будущего. Центр занимало кресло, опутанное проводами и световодами, похожее на паука, замершего в ожидании жертвы. Рядом, вчитываясь в данные на плавающих в воздухе голограммах, стоял худощавый мужчина в белом халате поверх строгой имперской униформы. Его лицо было оживлённым, даже увлечённым, а глаза за большими, увеличивающими линзами очков блестели неподдельным, жадным любопытством. На груди – бирка: «Др. Олден Раскин. Отдел нейросенсорной калибровки».
– А, наш тройной феномен! – воскликнул Раскин, как будто Джефир был редкой, только что пойманной бабочкой, а не пленником. – Проходи, садись, не стесняйся! Не бойся, всё стерильно и почти безболезненно. Моя задача – наконец-то увидеть, как работает твой уникальный, мужской вариант Бьякугана. Коллега Матиус дал прелюбопытные данные по телекинетическому отклику, но сенсорная мутация… о, это моя страсть! Моя Святая Грааль!
Его энтузиазм был отвратительно искренним, как у ребёнка, разбирающего живого жука. Джефира пристегнули к креслу холодными, самозатягивающимися ремнями. К его вискам, векам и грудной клетке прикрепили датчики, присоски которых жали, как пиявки.
– Стандартный протокол Бьякугана, как ты знаешь, предполагает последовательную, контролируемую активацию зрительной коры и связанных отделов, – болтал Раскин, настраивая аппарат, от которого потянулись жгуты к потолку. – Но твои показатели… они указывают на параллельную, хаотичную обработку всех сенсорных потоков одновременно. Ты не просто «видишь» энергию, как девушки. Ты, потенциально, можешь воспринимать её как звук, тактильное ощущение, даже вкус или запах! Представляешь? Синетезия на генетическом уровне! Правда, пока это выглядит как сенсорный хаос, сводящий с ума обычный мозг… Но мы это исправим! Ну, или изучим. Начнём с малого.
Первая волна была простым, сфокусированным теплом, как от ладони, поднесённой к щеке. Джефир почувствовал его кожей, чётко и ясно. «Тепло», – хрипло сказал он.
– Отлично! Тактильный отклик на электромагнитный стимул! Записать! – обрадовался Раскин, и его пальцы затрепетали над голограммой.
Вторая волна была резкой, визжащей, как металл по стеклу. Он услышал её – не ушами, а костями черепа, и вздрогнул всем телом. «Резкий звук», – выдохнул он, чувствуя, как по спине бегут мурашки.
– Аудиальный отклик! Потрясающе! Продолжаем!
Третья волна была другой. Она пришла не из прибора напрямую. Она пришла из памяти прибора, из его архивных записей. Слабая, записанная много лет назад, но незабываемая, как шрам на душе Империи. Вязкая, чёрная, всепоглощающая. Сигнатура «Пожинателя».
И всё, чему учила Юридика, вся её мантра о слушании, рассыпалась в прах перед этим древним, абсолютным ужасом.
Его Бьякуган, стимулированный и беззащитный, взорвался. Белая комната в его сознании затрещала по швам. Он не просто почувствовал голод. Он увидел его. Увидел, как эта чёрная волна не просто поглощает энергию, а стирает саму информацию, сложность, историю, оставляя после себя лишь плоский, мёртвый, белый шум небытия. Это было не нападение. Это было осквернение самой материи.
Он закричал. Настоящим, хриплым, рвущим горло криком первобытного ужаса. Его тело затряслось в смирительных ремнях, судорожно выгибаясь. Датчики завыли пронзительно, предупреждая о катастрофической перегрузке, на голограммах Раскина поплыл кроваво-красный аварийный свет.
– Чрезмерная реакция! Прекратить подачу! Стабилизировать субъекта! – засуетился Раскин, но в его глазах, помимо профессиональной тревоги, плясало дикое, ненасытное любопытство учёного, стоящего на пороге открытия.
Но было поздно. Джефир, в эпицентре сенсорного ада, перестал сопротивляться. Он… отпустил. Как в том самом сне, что снился ему с детства. Он позволил трём искажённым, кричащим от боли «нитям» внутри него – телекинезу, Бьякугану, ШИМПО – встретиться, столкнуться, сплестись в отчаянный, болезненный клубок не для контроля, а просто чтобы быть, чтобы пережить этот миг вместе.
И произошло Ничто.
И Всё.
На миг – всего на миг, короче, чем промежуток между ударами сердца, – боль и ужас сменились не тишиной, а… пониманием. Он не видел, не слышал, не чувствовал отдельно. Он воспринял сигнатуру Пожинателя целиком. Как не просто слепой голод, а как бесконечную, одинокую, всепоглощающую боль существа, которое само забыло, как быть сложным, и теперь яростно ненавидит сложность в других. Это не оправдывало его. Но это делало его… понятным. Звеном в цепи, а не бессмысленным хаосом.
В эту миллисекунду в операционной погас свет. Все голограммы Раскина схлопнулись с тихим шипением. Где-то далеко, в глубине Башни, сработала сирена «энергетического скачка», её вой, похожий на крик раненого зверя, прорезал тишину.
Дверь распахнулась от мощного удара. В проёме, очерченная аварийным красным светом из коридора, стояла Альтаир. Её лицо было бледным, как мрамор, а тёмные очки сдвинуты на лоб. Её собственные глаза, белые и бездонные от активированного Бьякугана, были широко раскрыты. Она смотрела не на Раскина, не на безумно мигающие приборы. Она смотрела на Джефира.
В её взгляде не было привычного холодного расчёта. Там был чистый, неприкрытый шок. Потому что она, с её безупречным, тренированным, женским Бьякуганом, увидела то же, что и приборы. Но помимо сухих данных, она увидела след. Не просто всплеск энергии. След чего-то целого. Чего-то, что не должно было существовать согласно всем догмам, всем протоколам, всей науке Империи.
А потом взгляд Альтаир метнулся к одному из глухих мониторов на стене, который теперь, в аварийном режиме, показывал не данные калибровки, а карту внешнего периметра Ксилории. На самом её краю, в мёртвом секторе, где двое суток назад тихо висел исследовательский зонд, теперь пульсировали три новых, чужеродных сигнала. Они не нападали. Не пробивали щиты. Они просто выстроились в идеальный, равносторонний треугольник. И начинали синхронно мигать – коротко, длинно, коротко – как будто передавая код.
Они отвечали. На всплеск. На родственный, дикий клич боли и прозрения.
Матиус, словно тень, шагнул вперёд из темноты, его лицо окаменело, но в глазах горел тот же аларм, что и в сирене. Раскин, забыв про Джефира, уставился на карту, бормоча себе под нос, срывающимся голосом: «Невозможно… когерентность сигналов… расстояние… это не реакция, это осмысленный ответ…»
Альтаир медленно, будто через силу, надела очки обратно, скрыв свои белые глаза. Когда она заговорила, её голос был тише обычного, почти шёпотом, но в нём впервые зазвучала не ледяная сталь, а острая, опасная хрупкость, как у надтреснутого кристалла.
–Калибровка завершена, – сказала она, не отрывая взгляда от Джефира, который обмяк в кресле, выдохшийся, с окровавленными губами от закушенного крика и пеной у рта. – Феномен продемонстрировал качественно иной, некаталогизированный тип взаимодействия со средой. И… непредвиденные свойства притяжения внешних угроз. Активный резонанс.
Она повернулась к Матиусу и Раскину, и в её позе была непоколебимая, но уставшая решимость.
–Все полученные данные – немедленно под гриф «Только для Архитектора». Никаких записей в общий протокол, никаких отчётов в Центральный Айсберг. Феномена – в карантинную камеру с двойным экранированием и круглосуточным наблюдением. Я… я должна составить новый отчёт. Лично.
Она вышла, но её всегда прямая, негнущаяся спина казалась теперь сломленной невидимой тяжестью.
Джефира отстегнули. Он едва мог идти, его ноги не слушались, а в глазах стояли кровавые пятна. Но в его груди, поверх изнеможения, страха и физической тошноты, тлел крошечный, едва уловимый, но невыносимо горячий уголёк. Уголёк того самого понимания.
Юридика была права. Он не был сломанной игрушкой. Он был вопросом. И только что его крик-вопрос, рождённый в агонии, услышали не только в Башне Незримой Воли.
Его услышали там. В пустоте. И ответили.
И теперь, чтобы найти ответы, возможно, придётся идти навстречу тому, что ждёт за периметром. В самое пекло.
-–
ГЛАВА 4. РЕШЕНИЕ И ОТПЕЧАТОК
СЦЕНА 1: СОВЕЩАНИЕ У ТРОНА
Зал Совета был лишён не только украшений – он был лишён самой возможности их существовать. Помещение представляло собой идеальный геометрический объём, высеченный из того же чёрного, звукопоглощающего материала, что и Башня. Длинный стол из полированного обсидиана отражал лишь мерцание голограмм и бледные, искажённые лица сидящих за ним. Свет исходил ниоткуда и растворялся в нигде. Воздух был стерилен и тяжёл, как перед грозой, которую никогда не допустят внутрь.
Во главе, в кресле, которое было не троном, а скорее станцией управления, интерфейсом между волей и империей, сидел Архитектор. Роланд. Он не смотрел на голограммы, плавающие над столом – графики, карты, трёхмерные модели аномалии. Он смотрел сквозь них, будто видел в пустоте за ними шлейфы иных, более давних решений, приведших всех сюда.
За столом сидели трое, разделённые метрами полированного камня и световыми годами взаимного презрения: Альтаир, безупречная и бледная, будто выточенная из льда Витариума; Матиус, неподвижный, как скала, впитывающая все удары; и доктор Олден Раскин, чьи тонкие пальцы нервно перебирали край планшета, оставляя на нём невидимые следы пота. Воздух был густ не только от тишины, но и от подавленной, тщательно откалиброванной вражды.
– Начните, – сказал Роланд. Его голос не громыхал. Он просто возник, заполнив собой тишину, как вода заполняет сосуд. В этом не было власти – лишь констатация неизбежности.
Альтаир коснулась столешницы, и её прикосновение было холодным и точным, как удар скальпеля. В центре стола возникла, развернувшись из точки, трёхмерная запись – Джефир, пристегнутый в кресле Раскина, его тело, выгибающееся в немой судороге, спектрограммы, рвущиеся в красную зону, и затем – резкий переход на карту внешнего периметра с тремя кроваво-красными, пульсирующими точками.
–Феномен Джефир, – её голос был ровен, отполирован дисциплиной, но под этим слоем льда слышалась тончайшая стальная проволока натяжения, готовая лопнуть. – В 14:32 по имперскому хронометражу, в ходе сенсорной калибровки под протоколом «Омега-Дельта», произошёл неконтролируемый симбиотический выброс трёх взаимосвязанных полей. Его пси-сигнатура на 0.003 секунды достигла качественно иного состояния – не хаотичного, как прежде, а когерентного. Единого. В этот идентичный момент внешние дальномерные датчики зафиксировали ответный сигнал от трёх объектов, классифицированных по Архиву как «Рейдеры типа „Пожинатель“». Объекты не нарушили периметр. Они выстроились в геометрически безупречную формацию и начали синхронное, модулированное излучение. Они не атаковали. Они… отвечали. На всплеск.
– Они отвечали на призыв, – глухо, будто из-под земли, проговорил Матиус. Его руки лежали на столе ладонями вниз, и казалось, стол под ними слегка прогибался. – Феномен работает как активный маяк. Каждый его сбой, каждый выброс – это вспышка в абсолютной темноте для этих хищников. Он не просто аномалия. Он – диверсионный агент, даже не осознающий своей роли. Биологическая мина. Протоколы безопасности в их первозданной, неоспоримой чистоте требуют немедленной изоляции источника угрозы. Или его ликвидации.
– Ликвидации? – фыркнул Раскин, не сдержавшись, и этот звук был таким же резким и неприличным, как разбитая колба в святая святых. – Вы предлагаете уничтожить, возможно, величайшее нейросенсорное открытие со времён первоначального декодирования базовых принципов Бьякугана! Его реакция на стимул «Рейдера» – это не просто животный страх! Он взаимодействовал с чужеродной сигнатурой на когнитивном уровне, недоступном нашим самым чувствительным приборам! Он не маяк, коллега Матиус, он – переводчик! Живой криптограф, способный, потенциально, расшифровать их язык! Их мотивацию! Представьте, если…
– Чтобы что? – холодно, не повышая тона, парировала Альтаир. Её белые глаза, лишённые зрачков, остановились на Раскине, и он невольно смолк. – Чтобы вежливо попросить их не пожирать наши колонизированные миры? Их «язык» – это язык энтропии в её чистейшей, самой антитезической форме. Феномен продемонстрировал, что катастрофически уязвим для этого языка. Что его собственная, едва наметившаяся целостность разрушается при прямом контакте. Он – ключ. Да. Но ключ к двери, за которой содержится только яд. И он этот ключ ещё и впитывает.
Роланд медленно поднял взгляд от пустоты. Все замолчали, будто перекрыли невидимые клапаны.
–Доктор Раскин, – произнёс Архитектор. Каждое слово было отдельным грузом, положенным на весы. – Ваша окончательная оценка его ценности как исследовательского объекта. Без энтузиазма. Только факты, которые можно проверить.
Раскин сглотнул, поправил очки. – Бесценна, – выпалил он, но тут же понизил голос, в нём появилась трещина. – Но… его психическая архитектура нестабильна. Она не выдержит. Ещё несколько таких прямых контактов, и мы можем получить не переводчика, а… проводника. Окно, открытое нараспашку, через которое их восприятие, их способ бытия потечёт к нам. И что тогда срастётся по нашу сторону окна – предсказать невозможно.
– Инструктор Матиус, – продолжил Роланд, повернув голову на сантиметр. – Ваша оценка тактической угрозы. На поле боя. Не в теории.
– Максимальная, – отчеканил Матиус, не моргнув. – Он привлекает цель, как гнилая плоть привлекает падальщиков. В условиях активных боевых действий это недопустимо. Он обрекает на смерть любой отряд, в котором находится. Однако… – он сделал небольшую, явно неохотную паузу, будто вытаскивая слова клещами, – если бы его можно было контролируемо активировать в строго заданной, изолированной точке пространства и в строго рассчитанное время… он стал бы идеальной, непревзойдённой приманкой для точечной засады. Способом выманить и уничтожить.
– Смотритель Альтаир, – голос Роланда стал тише, почти интимным в этой гигантской, давящей тишине. – Ваша рекомендация. Как той, кто видит не только данные, но и их… отголоски.
Альтаир замерла. Её белые, всевидящие глаза, оружие и проклятие её Бьякугана, были прикованы к голограмме Джефира – не к кричащему лицу, а к энергетическому отпечатку, странному, тройному узору, который всё ещё висел в воздухе.
–Исключить оба крайних варианта, – сказала она наконец, и каждый звук был взвешен. – Ликвидация – это безвозвратная потеря уникальных данных и, возможно, единственного в своём роде потенциального оружия. Безоглядное изучение – неоправданный, идиотский риск для всей Ксилории. Я предлагаю путь контролируемого давления. Изолировать его не в тюремной камере, а в… лаборатории-садке. Создать условия, где его аномалия будет проявляться не хаотично, а предсказуемо, в ответ на заданные нами стимулы. Наблюдать. Собирать данные. И ждать.
–Ждать чего? – спросил Матиус, и в его вопросе прозвучало нетерпение солдата, для которого ожидание – слабость.
–Пока он не сломается окончательно, не рассыплется в прах, дав нам полную карту пределов прочности его феномена… – она сделала паузу, и в уголках её бесцветных глаз дрогнули микроскопические морщинки, – …или не научится хоть как-то, на примитивнейшем уровне, управлять тем, что в нём есть. В первом случае мы получим исчерпывающие данные. Во втором – инструмент. В любом случае, мы сохраним актив под контролем и минимизируем угрозу для системы.
Роланд снова погрузился в молчание. Его пальцы, длинные и бледные, слегка постукивали по ручке кресла – единственный признак жизни в этой статуе. Две тысячи лет принятия решений, каждая из которых калечила или убивала, отложились в нём не сединой, а тяжёлым, невидимым свинцом в костях.
–Санкционирую протокол Смотрителя Альтаир, – наконец произнёс он, и это прозвучало как приговор, высеченный в граните. – Феномен Джефир перевести на объект «Крипта». Максимальная физическая и энергетическая изоляция. Максимальное, круглосуточное, многоуровневое наблюдение. Доктор Раскин разрабатывает программу «мягкого», дозированного стимулирования для выявления паттернов. Инструктор Матиус обеспечивает внешнее периметральное кольцо безопасности из бойцов «Молота» и готовит оперативный план «Кербер» на случай, если феномен или привлечённые им объекты выйдут из-под контроля.
Он посмотрел на каждого по очереди, и его взгляд был пустым, как глубина космоса за щитами.
–Он – семя, упавшее в расщелину между нашими мирами. Мы посмотрим, что вырастет: ядовитый плющ, который оплетёт и разорвёт наши стены изнутри… или дерево с крепкой древесиной, которое можно срубить и использовать как балку для новых, более высоких укреплений. Совет окончен.
Голограммы погасли одна за другой, словно уходя в небытие. Совет разошёлся без слов – Альтаир выпрямившись, Матиус тяжёлой поступью, Раскин, бормоча что-то себе под нос. Роланд остался один в темноте, которая теперь была абсолютной. Он не двигался, глядя на то место, где висела карта с тремя вражескими сигналами – тремя проклятыми точками, ответившими на крик его творения.
«Прости, дитя, – подумал он, обращаясь к призраку, который был всегда с ним, холоднее и реальнее любого голограмма. – Даже семена теперь приходится проверять на ядовитость. В мире, который я построил, нет места невинности. Даже в незнании. Особенно в незнании».
-–
СЦЕНА 2: КРИПТА. ОТПЕЧАТОК
Объект «Крипта» был не камерой. Он был саркофагом для сознания. Помещение, вырезанное в сердцевине монолита особого, редкостного минерала – пси-негатора. Вещество глушило не только энергетические излучения. Оно подавляло сам резонанс, саму возможность диалога между силами. Стены, пол, потолок – всё было полупрозрачным, мерцающим тусклым, безжизненным голубым светом изнутри, будто это был кусок вечного, мёртвого полярного сияния. Воздух был сухим, вымороженным до состояния стерильности, и пах озоном – не живым запахом грозы, а химическим послевкусием тотального подавления.
Здесь не работали не только способности. Здесь притуплялись, стирались сами чувства. Звуки становились приглушёнными, будто доносящимися из-под толщи воды. Краски блёкли, теряя насыщенность, словно мир за пределами этого кристалла был лишь смутным воспоминанием.
Джефира доставили под усиленным эскортом стражников в шумоподавляющих шлемах. Когда массивная, отполированная до зеркального блеска каменная дверь за ним закрылась с тихим, окончательным хлюпом разрежаемого воздуха, он ощутил не ужас, а парадоксальное, леденящее облегчение. Давящий, постоянный гул его собственных сил, вечный страх перед их неконтролируемым, болезненным выбросом – всё это ушло. Осталась только физическая усталость, ломота в каждом перегруженном суставе и странная, зияющая пустота в месте за грудиной, где в его снах теплился тот самый тёплый, живой узел цельности.
Он почти упал на единственную койку, вмонтированную прямо в кристаллический пол. И тогда, в этой гробовой тишине, он понял, что она – обманчива.
Она была не пустой. Она была наполненной отзвуком.
Тот чёрный, всепоглощающий голод, который выжег ему душу в кресле у Раскина, не исчез. Он остался. Не как воспоминание. Как шрам на самом восприятии, как инородный кристалл, вросший в ткань его сознания. Фантомная боль ампутированной связи.
Джефир закрыл глаза, желая только темноты и забытья.
И вместо этогоувидел.
Он увидел вселенную с точки зрения пожирателя.
Это не было видением в привычном, человеческом смысле. Это было знание, влитое в него напрямую, шоковая терапия абсолютно чуждого восприятия. Он не видел звёзд, туманностей, планет. Он видел узоры энтропии. Миры для этого взгляда были не мирами, а болезненными, яркими сгустками «шума», «непорядка», «ненужной, вычурной сложности». «Пожинатели» скользили по этим узорам, как скальпели по раковой опухоли, стирая их. Превращая пёструю, невыносимо яркую, кричащую картину бытия в ровное, тёмное, беззвучное ничто. В этом ничто не было боли от потери. Не было страха небытия. Не было воспоминаний о двух солнцах над лугами Элизиума или смеха дочери, отзвука которого хватило бы на вечность. Там был только покой. Абсолютный, вечный, мёртвый покой полного упрощения.
И в самой сердцевине этого «видения» он ощутил не ненависть, а… тоску. Бесконечную, бездонную, всепоглощающую тоску по тому самому покою, который они несли другим. Они не ненавидели сложность. Они завидовали ей. Потому что сами были её порождением, мутантами, которые забыли, как быть живыми, и теперь мстили всей жизни за своё собственное, неисправимое несовершенство, за свою неспособность чувствовать.
Джефир застонал, пытаясь вырваться, оттолкнуть это. Но видение не отпускало. Оно показывало ему Землю. Не ту, прошлую, из учебников, а возможную, будущую. Прекрасную, синюю, дико, нелепо, прекрасно сложную, полную «шума» миллиардов жизней. И затем – серую, шелковистую пелену, ползущую по её поверхности, стирающую океаны, горы, города, мысли, сны, воспоминания. Превращающую всё в ровную, молчаливую, однородную пыль. Это было не нападение. Это было исцеление с точки зрения заражающего.
Он понял. Это не угроза. Это пророчество. Карта того, что они делают. Их миссия.
И из кармана его грубой, не сменённой одежды, вдруг хлынул волной жар, обжигающий даже сквозь ткань. «Сердце Молчания». Камень, лежавший безмолвно всё это время, как мёртвый, теперь пылал в его кармане, как кусок звезды. Он выхватил его, чуть не выронив. Камень в его ладони не просто светился изнутри слабым светом. В его обсидиановой глубине, как в экране древнего, запретного коммуникатора, замелькали, проступали другие образы.
Образы Эонитов.
Не богоподобных гигантов и не хрупких эльфов. Существ из сплетённого света и резонирующей гармонии. Они не строили мостов между звёзд. Они пели, и пространство откликалось им мелодией, само складываясь в пути, в арки, в сады. Они не делили силы на телекинез, прыжки и зрение. Они были целым. Их песня была о балансе, о принятии сложности, о бесконечном, радостном диалоге со вселенной, в котором вопрос и ответ были одним аккордом.
Их мир не был «уничтожен» Пожинателями в яростной битве. Он был… заражён. Как здоровый, сияющий организм одной-единственной, случайной, незамеченной инфекцией. От одного разрыва в гармонии, одной микроскопической трещины в хоре, через которую просочилась иная, упрощающая тишина.
Камень показывал ему это не для утешения. Это была инструкция. Предупреждение. Обрывки их знания, их «грамматики бытия», хранимые в этом кристаллическом сердце, теперь вступали в резонанс с его собственным, искажённым, поломанным «глаголом». Он не понимал этого языка. Но он чувствовал его. Как чувствуют музыку, не зная нот.
Одновременное, противоречивое давление двух кошмаров – ледяного, тоскливого отчаяния «Упростителей» и ослепительной, утраченной гармонии Эонитов – грозило разорвать его рассудок по швам. Он кричал, но в глухой, звукопоглощающей крипте его крик был беззвучным воплем, судорогой гортани.
И тогда, на самом краю, где уже не было ни «я», ни «оно», он снова, как и в кресле Раскина, отпустил.