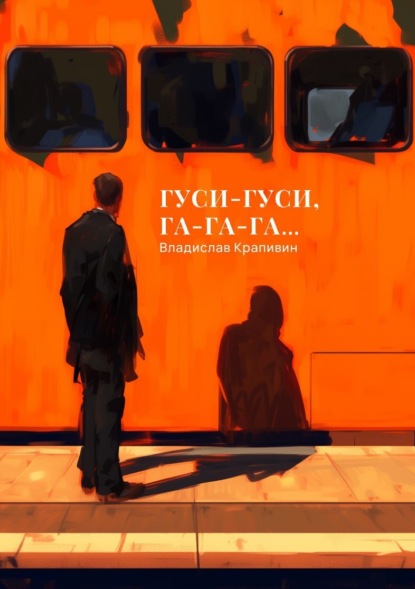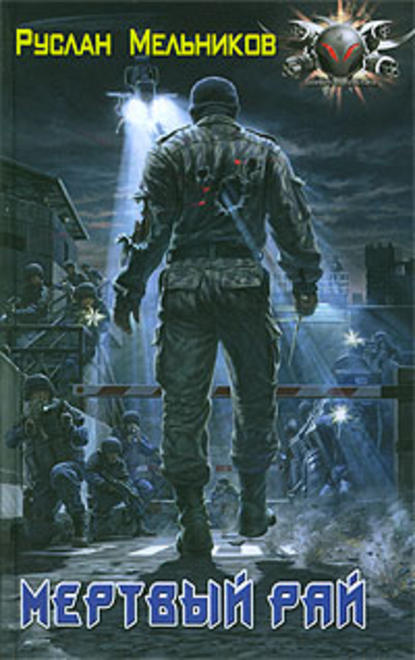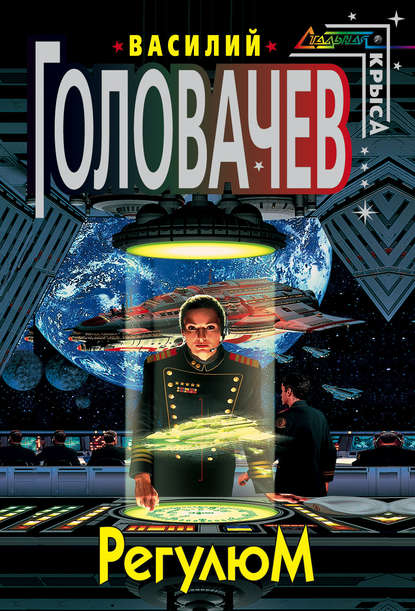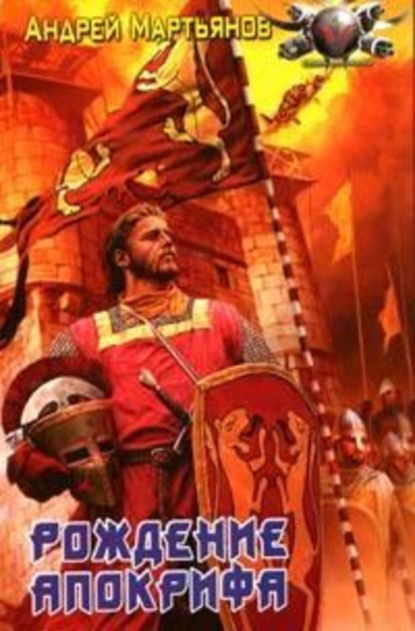Борьба с сионизмом в мировой истории. 12 портретов

- -
- 100%
- +
Здесь следует подчеркнуть, что, когда говорится о нападении на «святилище Артемиды», не имеется в виду, конечно же, атака на греческую религию. Просто у греков был своеобразный обычай видеть своих богов в культах чужих народов, которые, возможно, ни о греках, ни об их богах и слыхом не слыхивали. А вот греки находили у этих народов то «культ Деметры», то ещё что-нибудь подобное. И то, что названо в процитированном отрывке «святилищем Артемиды», другими историками идентифицируется как храм древней месопотамской богини Наны (иногда также отождествляемой с Анахитой). Такая могущественная древняя богиня, конечно же, не могла не покарать того, кто покусился на её храмовые сокровища…
Как понимает читатель, последняя фраза написана автором иронически. Но в целом в политике Антиоха, направленной на выкорчевывание местных религий и на замену их религией греческой, ничего иронического не было, всё было очень серьёзно.
…Антиох стал своего рода «образцом для подражания» многих греков последующих веков (в том числе подражали и его отношению к иудеям). В результате именно греки зачастую выступали застрельщиками антиеврейских погромов и в римской империи, и даже (через много веков) в империи Российской. Но об этом будет говориться в следующих главах книги.
3. КАЛИГУЛА (12 Н.Э. – 41 Н.Э.)
После смерти Тиберия в 37 н.э. к власти в Риме приходит двадцатипятилетний Калигула.
Общим итогом политики Калигулы по отношению к иудеям стало усиление недоверия между иудеями и Римом. Это утверждает немецкий историк Теодор Моммзен, и это его утверждение, кстати, находится в противоречии с его же пренебрежительной характеристикой Гая Калигулы как совершенно никчёмного правителя. Моммзен пишет: «гораздо глубже, чем александрийский погром, запечатлелась в душах иудеев попытка поставить статую Бога Гая в святая святых их храма».28
Об историке Рима Моммзене (1817 – 1903) можно сказать, что он вообще довольно часто противоречит сам себе там, где переходит от изложения фактов к теоретизированию, и, в частности, это относится к его теоретическим выкладкам по поводу иудеев в Римской империи. Соображений об иудеях и иудействе в объемной «Истории Рима» Моммзена довольно много, но я ни цитировать, ни разбирать их, по возможности, в этой книге не буду, в силу указанной их противоречивости.
Если же вернуться к Калигуле, то следует сказать, что его короткое правление (а он царствовал всего четыре года), действительно, оказало весьма сильное и какое-то болезненное влияние на всю империю, быть может, и потому, что он очень углубленно, и чем дальше, тем более углубленно, был озабочен именно иудейским вопросом.
Здесь, в параллель, я приведу пример российского императора Павла I, который тоже царствовал всего пять лет, но царствование его оказалось весьма запоминающимся. В частности, Павел I выдвинул идею похода в Индию, и, по признанию некоторых британских дипломатов, это его намерение настолько серьёзно было воспринято в самой Британии, что одним из главных направлений английской политики в Азии в XIX (и частично в XX) веке стало недопущение якобы планируемой экспансии России в Индию.29 А ведь почти никаких реальных действий для захвата Индии Павел I предпринять не успел…
Вот и Калигула лишь говорил, т.е. произносил слова об установлении своей статуи в Иерусалимском храме, реально это сделать не успели. И, однако, мысль о самой этой возможности не покидала иудеев ещё очень долго, тем более, что нечто подобное уже было в их истории, а именно, действия Антиоха Эпифана, описанные в предыдущей главе.
…Гай Калигула не был родным внуком императора Тиберия, но был сыном Германика, племянника Тиберия, которого тот усыновил. У Германика, погибшего при загадочных обстоятельствах, было девять детей; трое умерли, и шестеро остались в живых: три девочки (Агриппина, Друзилла и Ливилла) и трое мальчиков: Гай Цезарь Калигула (старший, 12 н.э. года рождения), Нерон (не путать с тем Нероном, который позже стал императором) и Друз.
Таким образом, как старший внук Тиберия, Калигула и был его законным наследником, и он особых усилий захватить власть после смерти Тиберия не предпринимал, ждал, что его провозгласят императором. Так оно и произошло.
И начал Калигула свое правление весьма мягко и либерально: за власть не держался, объявил сенат своим соправителем, советовался со старшими родственниками. Собственные же решения были также из разряда не просто либеральных, а каких-то даже чрезмерно прекраснодушных. Например, Калигула восстановил в провинциях власть местных царей и не только отменил установленные Тиберием высокие налоги, но даже вернул уже собранные суммы! Например, царю Антиоху Коммагенскому вернул, ни много, ни мало, 100 миллионов сестерциев, вообще же, по утверждению Светония, меньше чем за год промотал наследие Тиберия в 2 миллиарда 700 миллионов сестерциев.
Казна Рима опустела; и теперь последовал ряд эксцентричных решений Калигулы противоположного свойства. Вместо того чтобы отменять налоги, он вводил новые, неслыханно жестокие; вместо того чтобы швырять деньги направо и налево, он хватал богатых людей, казнил их, а состояние конфисковывал.
Однажды, приговорив к казни какого-то человека, Калигула запоздало узнал, что состояния у него нет, попытался помиловать его, но было уже поздно. «Жаль, несправедливо погиб, – изрек император. – Произошла судебная ошибка».
Возможно, к эксцентричностям прекраснодушного типа относится решение Калигулы приблизить к себе и обласкать молодого иудея Агриппу. По словам Моммзена, этот Агриппа «являлся среди многочисленных проживавших в Риме сыновей восточных государей едва ли не самым ничтожным и опустившимся, но, несмотря на это, – а может быть именно поэтому, – он был любимцем и другом юности нового императора; до сей поры он был известен только своим распутством и долгами, но от своего покровителя… Ирод Агриппа получил в подарок одно из вакантных мелких иудейских княжеств и к тому же ещё царский титул».30
Напомню хронологию событий. Гай Калигула становится императором в марте 37 н.э., а уже осенью 38 н.э. обласканный им и назначенный царем Агриппа на пути из Рима в Иерусалим останавливается в Александрии. Следовательно, Агриппа получил царский титул в 37 н.э. или в первой половине 38 н.э.
Затем происходит александрийский погром (осень 38 н.э.), и Калигула приказывает арестовать, судить и казнить наместника в Египте Флакка. «Нет человека – нет проблемы»? Не совсем так: проблема-то осталась. Флакка можно было убрать, но нельзя было сделать вид, что в Александрии ничего не произошло, тем более что оставался невыполненным приказ устанавливать статуи императора во всех храмах, включая синагоги.
Кроме того, как это можно было понять уже из первой главы книги, александрийский погром, наверняка, вызвал или усугубил многочисленные имущественные и прочие тяжбы. Кто что у кого отнял, и вообще, что кому принадлежит в Египте. (Ведь при погромах не только отнимают ценности физически, но заставляют переписать на других владельцев векселя, право собственности на товары, рабов, земельные угодья; порой богатые люди, даже не дожидаясь начала погромов, заранее фиктивно передают право собственности на богатства подставным лицам, в таком случае Флакк мог заставить их вторично передать эти права собственности, уже другим подставным лицам, а именно тем, кто был предложен им, Флакком, и его приближёнными). Некоторые из этих конфликтов, наверное, могли быть разрешены только в Риме. И вот из Александрии в Рим отправляется группа иудеев, ходатаев по делам александрийской иудейской общины.
Этому посвящен трактат Филона Александрийского «О посольстве к Гаю» (“Legatio ad Caium”). Правда, в трактате утверждается, что было не одно посольство, а два – от евреев и неевреев, – но в этом позволительно усомниться.
Трактат содержит сведения весьма отрывочные, запутанные, в нём отсутствуют датировки, зато очень много рассуждений в довольно-таки выспренном и несколько утомительном стиле Филона Александрийского. Написанный, видимо, после смерти Калигулы, трактат содержит прямые нападки на императора и оскорбления его («Ты, безумец, как ты мог» и т.д.). Руководителем этого еврейского посольства из Александрии в Рим был, судя по всему, сам автор трактата Филон Александрийский (по крайней мере, так он утверждает в трактате, а других свидетельств у нас нет). Правда, Филон ничего не сообщает нам о том, по каким же, собственно, делам прибыли ходатаи в столицу империи. Зато в трактате красочно описано, как много дней Калигула заставил иудеев ждать приёма, а потом принял их, одновременно занимаясь другими делами. Он осматривал только что построенное здание, ходил по комнатам, всё время отвлекаясь на разговоры со строителями и свитой, а иудеи шли следом, стараясь привлечь его внимание к своим просьбам и передать ему письменную жалобу.
Быть может, к этому эпизоду и свелось всё «посольство», но Филон Александрийский, надо отдать ему должное, сумел сделать из этого эпизода довольно объёмный и солидный трактат, который, что, быть может, ещё важнее, был переписан в многих копиях и сохранён для потомства. И, если из книг Тацита, жившего несколько позже Филона, многие утеряны, то этот трактат сохранился и сегодня цитируется в качестве первоисточника многими историками, некоторые из которых не пытаются даже критически осмыслить изложенные в нём факты.
Например, автор этих строк ни у кого из историков не встретил вопроса о том, было ли, действительно, второе, нееврейское посольство, о котором упоминает Филон? Ставить так прямо вопрос считают некорректным и обычно отделываются замечаниями о том, что, мол, заметки Филона отрывочны, противоречивы и т.д. Насчет этого второго посольства в трактате ничего не сказано, говорится только, что оно было. Но не проявилась ли здесь просто иудейская точка зрения Филона Александрийского, согласно которой мир делится на евреев и неевреев, и, если было посольство от одних, значит, должно было быть и от других. Однако я напомню, что Александрию населяли ещё, кроме иудеев, по крайней мере две крупные этнические группы, греки и египтяне, причём, каждая из них была многочисленнее иудеев. И, если каждая группа послала для разбирательства о последствиях погрома своих представителей, значит, посольств было не два, а три. А как насчёт римлян, помощников и сторонников Флакка, они что, должны были терпеливо ждать в Александрии, пока на их действия тут, в Риме, кто-нибудь нажалуется императору, и они последуют той же дорогой, по которой отправили их руководителя, Флакка? Нет; думаю, и римская администрация провинции Египет должна была активно сноситься со столицей, значит, вот уже получается не три посольства, а целых четыре?
Другое дело, что какие-то постоянные лоббистские структуры или представительства от Египта должны были быть в Риме ещё и до александрийского погрома, так что Филон, думается, просто драматизирует события, когда рассказывает нам о том, что, дескать, было два конкурирующих посольства, «иудейское» и «не иудейское» и вот какие козни они друг другу строили, какие интриги плели друг против друга и т.д.
Но хотелось бы для тех, кто не знаком с трактатом «О посольстве к Гаю», процитировать отрывок из него, чтобы читатель мог сам увидеть манеру изложения Филона и, в частности, ту свободу, с которой он нападает на неевреев, конкретно, на египтян, советников Калигулы:
«Большинство из них были египтяне, порочное семя, смешавшие в душах своих нрав крокодила и яд змеи (выделено мной – А. А.). Предводителем и как бы запевалой всей египетской братии был Геликон, проклятый и прóклятый раб, пролезший в самодержавный дом ему на погибель… Есть и предмет, и лучшего искать не надо – дурная слава евреев с их обычаями… Так рассуждая, бездумно и безбожно, Геликон подстегнул себя и окрутил Гая, не отступаясь от него ни днем, ни ночью, но находясь при нём постоянно, чтобы часы его уединения и отдыха употребить для обвинений против евреев… И вот, отпустивши все рифы, как моряки при попутном ветре, он нёсся на раздутых парусах, сплетая для евреев венок вины. Всё это надёжно запечатлелось в голове Гая, и жалоб на евреев ему уже было не забыть».31
Из этого отрывка видно, во-первых, что над молодым императором, так сказать, «работали», т.е. вокруг него имелись советники, питавшие к иудеям определенную неприязнь.
Второе, что следует отметить, это тот аргумент, которым Филон побивает египтян: они, дескать, похожи на животных, подражают животным, поклоняются животным («египтяне, … смешавшие в душах своих нрав крокодила и яд змеи»). В другом месте трактата он этот же аргумент использует чтобы объяснить, почему египтянам и прочим язычникам легко установить статуи императора в своих храмах. Дескать, они и так считают богами кошек, каких-то крокодилов, птиц, почему не добавить ещё и Калигулу?
Правда, этот аргумент Филон особенно не развивает, так как он был скорее для «внутреннего», иудейского пользования. Римлянину он был бы оскорбителен: вы, мол, многобожники, у вас и так в пантеоне чего только нет…
Продолжим хронологическое изложение событий.
Итак, погром в Александрии произошел осенью 38 н.э., посольство иудеев прибыло в Рим тогда же, в конце 38 н.э., может быть, в начале 39 н.э. Весь 39 год ушел, должно быть, на разбор тяжб и взаимных обвинений, вызванных александрийским погромом. Одновременно, по-видимому, нарастало раздражение Калигулы против иудеев. Ведь, жалуясь на погромщиков, они, наверняка, просили о каком-то возмещении убытков. Получалось, что прямое указание устанавливать статуи в синагогах выполнено не было (что и стало формальным поводом для погрома), да ещё при этом у императора иудеи просили каких-то компенсаций! А, как мы помним, к тому времени казна Рима уже опустела…
И вот к концу 39 н.э. Калигула, по-видимому, решает перейти к радикальным действиям против иудеев. И начать решает не откуда-нибудь, а прямо с Иерусалимского храма. Он отдаёт приказ наместнику в Сирии Петронию установить в Иерусалимском храме собственную статую и заставить иудеев поклоняться ей.
Вот как эти события излагает Э. Шюрер:
«В то время как посланцы Александрии ожидали в Риме императорского решения, в Палестине, на их родине, разразилась буря. Всё началось в Ямне (Jamnia), изначально не-иудейском береговом городе, где в то время преобладало иудейское население. Жители города – язычники, для того чтобы выразить свою преданность императору и для того чтобы досадить иудеям, воздвигли в честь императора грубый алтарь, который, однако, иудеями был вскоре разрушен. Об этом доложил императору императорский прокуратор города Эренний Капитон (Herennius Capito), и император отдал приказ, в качестве мести строптивым иудеям, воздвигнуть свою статую в Иерусалимском храме.
Поскольку было ясно, что эти действия натолкнутся на сильное сопротивление, наместнику в Сирии П. Петронию было приказано половину армии, стоящей на Евфрате (т.е. в Сирии) передвинуть в Палестину и с помощью этих легионов выполнить волю императора. С тяжёлым сердцем вдумчивый военачальник начал исполнять этот мальчишеский приказ (зима 39-40 н.э.). В то время как он распорядился чтобы статую изготавливали в Сидоне, Петроний вызвал к себе руководителей иудеев и попытался их по-хорошему склонить к уступчивости. Но тщетно.
Очень быстро новость о том, что предстоит, распространилась по всей Палестине; и народ двинулся громадными количествами в Птолемаиду, где находилась главная квартира Петрония. «Как туча, покрыли иудеи всю Финикию». Очень организованная, разделенная на 6 отрядов (старики, мужчины, юноши; старухи, женщины, девочки), депутация иудейских масс предстала перед Петронием. Их громкие жалобы и стоны произвели на Петрония такое впечатление, что он решил, по крайней мере временно, остановить исполнение решения императора. Всю правду – т.е. что он хотел бы полной отмены решения – открыто он не решился высказать императору. Он написал Калигуле, что просит отсрочки, частично потому, что требовалось время для изготовления статуи, частично потому, что предстояла жатва, и как бы оскорбленные иудеи не взбунтовались после её окончания. Когда Калигула получил это письмо Петрония, он был возмущён нерадивостью наместника. Однако не решился сразу показать свой гнев и написал наместнику похвальное письмо, в котором одобрял его предусмотрительность, но строго требовал поспешить с установлением статуи, так чтобы дело было сделано к концу сбора урожая.
Петроний, однако, не принялся серьёзно выполнять эту задачу, но вступил в новые переговоры с иудеями. Поздней осенью, во время сева (ноябрь 40 н.э.) мы находим его в Тивериаде, где он в течение 40 дней пребывает в окружении осаждающей его толпы, насчитывающей тысячи иудеев, которые его слёзно, как и прежде, умоляют, чтобы он отвёл от их земли грядущий ужас осквернения храма. Когда, наконец, к народу присоединились в просьбах Аристобул, брат Агриппы, и другие родственники Агриппы, Петроний пишет Калигуле решительное письмо, в котором просит отменить приказ вообще. Он переводит войска из Птолемаиды обратно в Антиохию и утверждает в письме, которое для этого пишет Калигуле, что по соображениям денежной экономии и мудрости отказ от решения весьма желателен.
Между тем, события в решающей инстанции, Риме, сами приняли более благоприятное для Петрония развитие. Царь Агриппа I, который в начале 40 н.э. оставил Палестину, встретился с Калигулой осенью в Риме (или в Путеолах), когда тот вернулся после поездки в Галлию и Германию. Агриппа ещё не знал о событиях в Палестине, однако выкатывание глаз императора подсказало ему, что в душе у того кипит гнев. Поскольку он задумался над причинами этого, сам император заметил его озабоченность и спросил, каковы её причины… Агриппа был так перепуган, что почувствовал недомогание, от которого на следующий вечер слёг. После того, как он пришёл в себя, его первым побуждением было направить императору ходатайство, в котором он, напомнив, что никто из предшественников императора ничего похожего не предпринимал, просил отменить приказ. Против всех ожиданий, письмо Агриппы имело желаемый эффект. Калигула приказал написать Петронию, чтобы в Иерусалимском храме ничего не меняли бы. Но эта милость не была однозначной. Было прибавлено, что никому, кто бы вне Иерусалима захотел устанавливать алтари или храмы в честь императора, нельзя в этом препятствовать. Таким образом, значительная часть уступки была тут же сведена на нет, и только то обстоятельство, что предоставленным правом никто не воспользовался, следует благодарить за то, что не возникло никаких новых беспорядков. Вскоре, однако, император пожалел, что предоставил эту уступку, касающуюся Иерусалима. И распорядился о том чтобы, поскольку изготовленной в Сидоне статуе нет применения, в Риме была бы изготовлена новая статуя, которую он сам в предполагаемой в перспективе поездке в Александрию доставит к берегу Палестины, и далее она будет доставлена в Иерусалим. Только последовавшая вскоре за тем смерть императора помешала осуществлению этих планов».32
Здесь я позволю себе некоторые комментарии к изложенному Э. Шюрером.
В целом Шюрер в своей книге выдерживает бесстрастный научный стиль изложения, хотя кое-где, еле заметным намёком, даёт понять свое отношение к характеру тех или иных исторических персонажей. Так в процитированном отрывке наместник в Сирии Петроний назван, как я это перевёл, «вдумчивым военачальником». (Verstandig – «разумный, понятливый, вдумчивый, смышлённый»). Полагаю, это сказано не без сочувствия к Петронию, хотя военачальнику вообще-то полагается быть не столько вдумчивым, сколько чётким в выполнении приказов.
Но Петрония очень даже можно понять, и его образ действий, конечно, вызывает уважение. Ну действительно, кто там разберёт императора: сегодня он приказывает так, завтра – иначе. Думаю, в римском государстве было уже в ходу то, что прекрасно выражено русской армейской поговоркой: «не спеши выполнять приказ, так как может поступить следующий, отменяющий его». Каково бы ни было личное отношение Петрония к иудеям, но вот только что в соседней провинции, Египте, Флакк приказал дотошно выполнить распоряжение по установке статуй – и что же? Начались беспорядки, в которых погибли десятки тысяч людей, а затем казнён был сам проводник этого императорского приказа! Так должен ли был Петроний торопиться по стопам Флакка?
Конечно, нет! И вот Петроний начинает маневрировать с целью оттянуть выполнение приказа, неприятного и опасного для него лично (оставив в стороне значение этого приказа для иудеев). Лучше всего задержку выполнения чего-то оправдывать ссылками на тщательную подготовку мероприятия. Мол, статую делают в Сидоне, в скульптурных мастерских, привлечены лучшие мастера, выбираются наилучшие материалы, будет объявлен конкурс на лучший эскиз и т. д. Всё это, разумеется, потребует времени. На всякий случай, Петроний приводит и более доходчивый аргумент: сезон не подходит. Жатва на носу, какие тут статуи? Потом Петроний ссылаться будет на сев, а потом, глядишь, опять подойдёт время жатвы, уже следующего года…
Казалось бы, от Палестины до Италии – рукой подать, но суденышки тогда были непрочные, а Средиземное море – хотя и не очень бурное, но всё-таки море, в нём тоже случаются шторма, неблагоприятные ветра, словом, на то, чтобы письмо дошло от отправителя до получателя, требуется почти месяц, а чтобы получить ответ, соответственно, два месяца. А если ты, допустим, чего-то не понял и просишь разъяснений? Тогда на твой запрос и на получение ответа уйдет ещё два месяца. Ну, и в крайнем случае, можно прибегнуть к самому экстремальному варианту: начать имитировать сбои в прохождении почты и отвечать по принципу: «куры передохли, высылайте новый телескоп».
…В надеждах, что Калигула сам перестанет настаивать на установке чего-либо в Иерусалимском храме, Петроний оставался весь 40-й год… Весь этот год он вёл бюрократическую переписку, и в конце концов император послал ему приказ покончить жизнь самоубийством. Правда, сам Калигула был убит 24 января 41 н.э., и, по уверению Петрония, новость о смерти императора дошла до него раньше чем приказ о самоубийстве, поэтому выполнять этот приказ он тем более не стал…
Шюрер, на основании, главным образом, трактата «О посольстве к Гаю», но и некоторых других источников, выстраивает следующую схему происходившего в 40 н.э.:
«Последовательность событий представляется нам следующей, при условии, что новости из Рима и/или Галлии в Иерусалим и обратно доходили в среднем за 2 месяца:
Зима 39/40
Петроний получает от Калигулы приказ установить его статую в Иерусалимском храме и прибывает в Палестину с 2 легионами.
Апрель-
Май 40
(Когда предстоит уборка урожая) Переговоры в Птолемаиде, первое письмо Петрония Калигуле (Филон, §32-33; Иосиф. Иуд. Древности, XVIII, 8,2; B.J. (Иудейск. Война), II, 10, 1-3).
Июнь
Калигула получает первое письмо Петрония и диктует ответ, в котором настойчиво требует торопиться (Филон, §34).
Август
Петроний получает ответ Калигулы, однако не спешит с выполнением.
Конец
сентября
Агриппа встречается с Калигулой в Риме (или Путеолах), узнаёт о событиях и вмешивается. Калигула посылает Петронию директиву остановить мероприятие (Филон §35-42, Иосиф. Иуд. Древн.,XVIII, 8, 7-8).
Начало
ноября
Переговоры в Тивериаде (во время сева). Петроний просит императора отменить установку статуи. (Иуд. Древн.,XVIII, 8, 3-6; B. J., II, 10, 3-5).
Конец
ноября
Петроний получает директиву остановить мероприятие.
Начало янв. 41
Калигула получает просьбу Петрония отменить установку статуи и отдаёт ему приказ покончить жизнь самоубийством (Древн., XVIII, 8, 8).
24 янв. 41
Калигула убит.
Начало
Марта 41
Петроний получает известие о смерти Калигулы. (Древн. XVIII, 8, 9).
Начало
Апр. 41
Петроний получает письмо с приказом о самоубийстве (Древн. XVIII, 8, 9; B.J., II, 10).
Схема остается по существу неизменной, даже если мы учтём, что время, которое требуется для прибытия письма из Италии и/или Галлии в Палестину и обратно могло быть несколько меньшим. В среднем, можно принять это время за 1-2 месяца. Следует учесть ещё то, что летом Калигула находился в Галлии, а зимой почта шла более медленно и нерегулярно. Главная трудность для нашей хронологии заключается в том, что как Агриппа, так и иудейско-александрийское посольство впервые услышали о приказе Калигулы касательно Иерусалимского храма в сентябре (см. наши стр. 420 и 423), в то время как, согласно тому же Филону, этот предмет уже вызвал шум в Палестине во время жатвы (апрель-май). Уже Тиллемонт на этом основании оценивал последнее утверждение Филона как не историческое. (Histoire des empereurs, t.I, Venise, 1732, p. 630 sv. [Notes sur la ruine des juifs, note IX]), из более современных исследователей так же полагает Graetz (Monatschr. 1877, S. 97 ff, 145 ff. = Gesch. der Juden Bd. III, 4. Aufl. S. 759 ff). Однако данные Филона в этом пункте столь определенны и детализированны (§33, §34 конец), что такое резкое суждение представляется рискованным».33