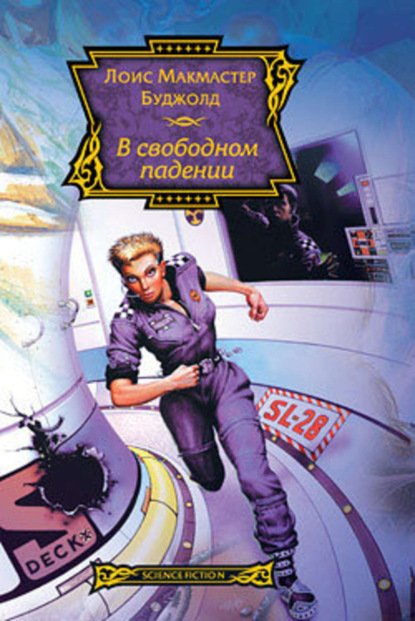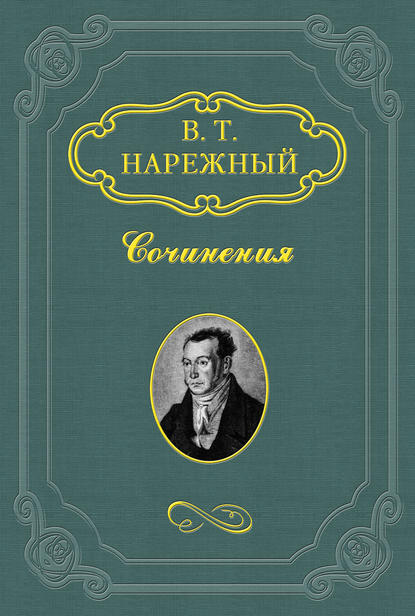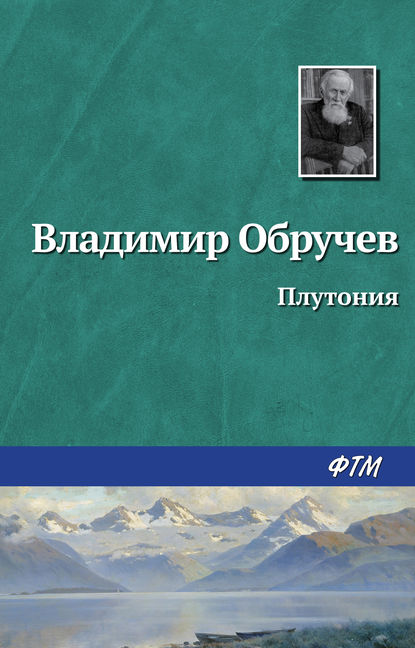Борьба с сионизмом в мировой истории. 12 портретов

- -
- 100%
- +
Такими словами он воодушевил свое войско. Радость гамалян по случаю неожиданной победы была непродолжительна. Вскоре они сообразили, что теперь потеряна всякая возможность мирного соглашения, а надежды на спасение не было никакой…»44
Когда город Гамала в конце концов взяли, последовала расправа, римляне уничтожили всех его жителей, не пощадив даже младенцев, которых кидали в пропасть… Но не хотелось бы давать твердую привязку наказаний Веспасиана к тем или иным городам или эпизодам войны. Как уже сказано, он мог иногда казнить, иногда миловать независимо от того, как именно протекали предыдущие боевые действия. Хотя общую ситуацию он всегда учитывал. И в качестве ещё одного примера того, как Веспасиан проводил карательные мероприятия, процитируем описание его действий после взятия другого города, Тарихеи:
«По окончании битвы Веспасиан сел в Тарихее на судейское кресло, чтобы отделить людей, нахлынувших извне и вовлекших всех в войну, от жителей города и чтобы совместно с начальниками решить вопрос о том, следует ли их оставить в живых. Все считали помилование их делом опасным: как люди без родины, они наверно не останутся в покое и будут в состоянии принудить к войне силой даже тех, у которых они найдут приют. Веспасиан также признавал, что они не достойны пощады и что они своим спасением воспользуются во вред своим освободителям. Он поэтому останавливался только над тем, каким способом удобнее будет их извести. Убив их на месте, он должен был опасаться нового восстания коренных жителей, которые без сомнения не допустили бы добровольно заклания столь многих просящих; кроме того он сам не мог позволить себе напасть на людей, которые, доверившись его слову, передали себя в его руки. Но его друзья взяли верх над ним, сказав: против иудеев всё позволительно и всегда нужно полезное предпочесть достойному, если нельзя и то и другое соединить вместе. Таким образом Веспасиан в двусмысленных словах обещал пришельцам пощаду, но позволил им выступить только по дороге к Тивериаде. Со сладкой верой в свою мечту, ничего дурного не подозревая, открыто неся с собою свои пожитки, они выступили по указанному им пути. Римляне же между тем заняли всю дорогу до Тивериады для того, чтобы никто не завернул в сторону, и заперли их в город. Вскоре туда явился Веспасиан, который приказал всем собраться в ристалище. Здесь он приказал стариков и слабых в числе 1200 убить; из молодых он избрал 6000 сильнейших, чтобы послать их к Нерону на Истм. Остальную массу, около 30400 человек, он продал, за исключением тех, которых подарил Агриппе. Царю он предоставил поступить с людьми, бежавшими из его области, как ему заблагорассудится; они, впрочем, были царём также проданы. Остальная масса из Трахонеи, Гавлана, Иппа и Гадары, состояла преимущественно из бунтовщиков, беглецов и других людей, которые были вовлечены в войну постыдными делами, совершёнными ими ещё во время мира…»45 Их Веспасиан приказал казнить…
* * *
Из других эпизодов войны можно отметить осаду и взятие Гисхалы, а также отказ Веспасиана нападать на Иерусалим в то время, как там (как ему было известно) иудеи разделились на враждующие партии и выясняли отношения силой оружия. Наиболее радикальная партия, зелоты, сумела захватить Иерусалимский храм и оборонялась в нём как в крепости от более умеренных иудеев. Ранее эта радикальная партия проводила по отношению к умеренным настоящий террор, – кстати, эта внутренняя борьба иудеев до странности напоминает нам и террор якобинцев, и террор российских большевиков по отношению к эсерам, меньшевикам и другим своим менее радикальным «попутчикам»…
Зелоты убили вождя умеренных первосвященника Анана и вызвали себе на подмогу идумеев, которые хитростью ворвались в Иерусалим и устроили в нём новую резню умеренных… Зная обо всем этом, Веспасиан воздерживался от осады Иерусалима, давая возможность своим войскам отдыхать на зимних квартирах, а иудеям – убивать друг друга в Иерусалиме.
Более того, Веспасиан понимал, что, если он в такой момент нападет на иудеев, они как раз объединятся и забудут распри, промедление же усилит римлян. «Если же кто скажет, – говорил Веспасиан, обосновывая свою тактику медлительности, – что блеск победы без борьбы чересчур бледен, то пусть знает, что достигнуть цели в тишине полезнее, чем испытать изменчивое счастье оружия. Ибо столько же славы, сколько боевые подвиги, приносят самообладание и обдуманность, когда последними достигаются результаты первых».46
Игра кошки с мышкой – вот, пожалуй, с чем можно сравнить стратегию и тактику Веспасиана. Наверное, все мы наблюдали эту игру кота с пойманным мышонком, и никто из нас не может сказать, что кошка не рискует: мышь, действительно, может проявить прыть и спастись. Но без такой рискованной игры, видимо, невозможно по-настоящему понять, почувствовать своего противника или – скажем прямо – свою пищу. Без этого невозможно в собственные гены и в гены собственных детей вложить интимное знание о поведении этой пищи. А если мышь, и правда, ускользнет, это тоже не беда: она унесет с собой унизительный, парализующий ужас перед высшим существом, и этим ужасом заразит своих соплеменников.
Примерно так вел Веспасиан Иудейскую войну, кажется, сознательно её затягивая. (Думается, многие полководцы не торопятся закончить войну победой, так как после заключения мира они попадают в полную зависимость от главы собственного государства и от его спецслужб.) Веспасиан мог бы откладывать штурм Иерусалима до бесконечности, но Нерон покончил жизнь самоубийством, легионы на Востоке провозгласили именно Веспасиана следующим императором, и ему ничего не оставалось как брать верховную власть в Риме, низложив самозванцев Вителлия, Отона и других.
События, связанные с вступлением Веспасиана на престол, изложены Тацитом в его дошедшей до нас книге «История»; довольно подробно – Иосифом Флавием в его «Иудейской войне», а также многими другими авторами. Поэтому здесь мы лишь кратко коснёмся произошедшего в это время.
…Итак, на долю двадцатидевятилетнего в то время Тита выпала эта задача – разрушить Иерусалим и главный иудейский храм.
Нужно ли описывать перипетии этого заключительного этапа войны, штурма Иерусалима и самого храма? Тит просто выполнил указание своего отца, выполнил в приемлемые сроки (примерно за четыре месяца) и без больших потерь для римлян. Иудеи оборонялись яростно, однако римляне избегали действовать методом «навались», своих солдат зря не губили. В Иерусалиме было тогда несколько обводов стен, и их пришлось штурмовать последовательно. Почти перед каждой стеной римляне возводили свой собственный вал, т.е. свою стену, по высоте, желательно, превосходящую обороняемую. Иногда к этому добавлялись ещё и боевые башни, с которых римляне обстреливали иудейскую стену и не давали иудеям мешать работе таранов. Таранами разрушали иудейские стены и уже в проломы вводили войска. Преимущество доспехов, вооружения, выучки, наконец, физической силы профессиональных бойцов было на стороне римлян, поэтому в прямом бою пехоты лицом к лицу они почти всегда побеждали иудеев и, неся незначительные потери, убивали десятки и сотни иудейских бойцов.
Кроме того, за римлянами было преимущество всякого рода военной техники – наличие у них катапульт и других камнеметательных, стреломётных и т.д. машин, которыми они постоянно обстреливали осаждаемых.
Численного преимущества как такового у римлян не было вовсе – было лишь преимущество в организации. Все римские войска в Палестине насчитывали максимум 20-30 тысяч человек, а в штурме Иерусалима никогда не бывало задействовано одномоментно более нескольких тысяч солдат. Большему количеству просто невозможно было развернуться в узких проломах стен, на улицах и т.д.
Данные о количестве убитых иудеев разнятся у разных авторов, невозможно произвести и подсчёт того, сколько всего жителей было в Иерусалиме во время осады и штурма. Множество народа стеклось в Иерусалим из всей разоренной войной Палестины, но множество и бежало из Иерусалима.
В Главе 9 Книги шестой «Иудейской войны» Иосиф Флавий приводит свою оценку числа пленных и павших за войну иудеев, но автору этих строк подсчёты Иосифа кажутся завышенными. В любом случае можно сказать, что число павших иудеев превысило сто тысяч, и, таким образом, разгром 70 н.э. можно считать одним из крупнейших разгромов в иудейской истории.
Всё-таки, наверное, некоторые подробности взятия Иерусалима привести стоит.
В самом начале Тит во главе разведывательного отряда подъехал близко к Иерусалиму и вдруг был отрезан вылазкой иудеев.
Он чуть не попал в плен, однако сам же и исправил свою ошибку, подбодрив бойцов и бросившись первым пробиваться из окружения.
Вскоре молодой военачальник ещё раз был вынужден рисковать собой. Трём легионам он назначил место для лагеря в трёх местах вокруг Иерусалима. И вот, когда один из легионов был занят строительством лагеря, иудеи совершили неожиданную по массовости и ярости вылазку. Они почти опрокинули легион и заняли лагерь, так что Титу пришлось лично броситься в бой чтобы остановить отступающих и повести их в контратаку. Строящийся лагерь отбили, иудеев заставили отступить обратно в город, и все римляне восхищались мужеством Тита.
Однако через некоторое время ситуация повторилась: опять вылазка, опять отступление римлян, и опять лично Тит с подмогой исправляет положение дел.
Кто кого проверял в этих ситуациях, не вполне ясно; наверное, все проверяли всех. Ведь интрига заключалась в том, что неизвестно было, как поведёт себя Тит в новой роли. Раньше он никогда не командовал целым театром военных действий, служил под руководством отца. Вот и сейчас он опирался на мнение некоторых опытных военачальников, например, Тиберия Александра, наместника в Египте, которому поручил общее командование войсками при взятии Иерусалима.
Как бы то ни было, но Тит не гнушался лично ввязываться в бой, и солдаты его за это, видимо, уважали.
Другая, более важная интрига состояла в том, изменятся или нет цели всей войны после смены императора в Риме. Ведь задачу уничтожить Иерусалим и Иерусалимский храм поставил неистовый Нерон, а захочет ли император Веспасиан доводить её до конца?
Именно в этом уверял иудеев Тит во время многочисленных переговоров с ними: мол, нет, не захочет, у римлян нет радикальных намерений в отношении иудеев, и иудеям лучше сдаться, зачем бессмысленное кровопролитие? Впрочем, в чём именно хотел уверить иудеев молодой военачальник и хотел ли он их уверить в чём-либо, это понять трудновато. Несколько раз Тит поручал вести переговоры Иосифу Флавию – по крайней мере, так утверждает в своей книге сам Иосиф Флавий. Речи Иосифа Флавия к иудеям – образчик двусмысленности (если, опять же, верить книге «Иудейская война», в которой эти речи приводятся). Дескать, «все народы покорились римлянам, одни иудеи сопротивляются; у всех народов достало разума понять, что римская мощь неодолима,
только иудеи упорствуют в своем ослеплении, в своей гордыне и т.д.» Неужели неясно, что такие речи скорее должны были возбудить военную гордость иудеев, чем заставить их сдаться?..
…А переговоров хватало, в том числе и издевательских, со стороны иудеев…
…Римляне уже пошли на штурм очередной стены, и тут вдруг сверху, с этой стены им закричал некий еврей Кастор, чтобы они остановились. Дескать, он и его товарищи – защитники хотят сдаться. Тит распорядился остановить штурм и лично через переводчика вступил в разговор. Дескать, он приветствует желание Кастора сдаться, пусть тот спускается вниз со стены. Кастор, стоя вполоборота, красноречиво описывал, почему он хочет сдаться, но делать это не спешил. Дескать, он ждёт товарищей, и они тогда вместе, целым отрядом, перейдут на сторону римлян. В то же время Кастор послал донесение командующему иудеев о том, что он, дескать, хитро задерживает атаку, и просил подкреплений и припасов…
Вскоре штурм возобновили, но Тита ещё не раз иудеи вовлекали в подобные псевдо-переговоры, и он всякий раз использовал их чтобы внушить, что у римлян, дескать, вполне мирные намерения. Причём Иосиф Флавий сообщает нам, что Тит якобы говорил это вполне искренне…
…Но переговоры переговорами, а штурмовые работы велись – со сбережением сил, но и без промедления. На 15-й день осады римляне овладели первой стеной; через 5 дней после первой взяли вторую стену. Тут, правда, Тит распорядился вторую стену не ломать, так как надеялся, что иудеи «одумаются» и прекратят сопротивление. (Он тогда с ними вступил в очередные переговоры.) Но они не одумались и даже отобрали назад кое-что из того, что однажды уже было захвачено римлянами, так что пришлось штурмовать вторично…
После второй стены взяли третью, потом часть храма; потом весь храм. О том, что собой представлял храм и как его обороняли, историк Г. С. Кнабе пишет следующим образом:
«Главным узлом обороны… являлся храм, периметр которого был равен 1110 м. Его территория представляла собой искусственно насыпанное плато, охваченное со всех сторон стенами, сложенными из параллельных рядов огромных каменных глыб. По краям плато шли дворы и портики, окружавшие так называемый внутренний храм, с его особой оградой, за которой располагался сначала женский двор, и лишь за ним шла стена, отделявшая само святилище». 47
…Итак, храм был взят, и здесь Тит, согласно Иосифу Флавию, попытался запретить солдатам поджигать храм, но они вышли из повиновения и подожгли его… Впрочем, так обстояло дело согласно Иосифу Флавию, а другие историки с ним в этом вопросе расходятся. Вот соответствующая цитата из «Иудейской войны»:
«Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассвирепевших солдат, а огонь между тем всё сильнее распространялся, он в сопровождении начальников вступил в Святую Святых и обозрел её содержимое. Так как пламя ещё ни с какой стороны не проникло во внутренние помещения храма, а пока только опустошало окружавшие его пристройки, то он предполагал – и вполне основательно – что собственно храмовое здание может быть ещё спасено. Выскочив наружу, он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь, как личными приказаниями, так и чрез одного из своих телохранителей, центуриона Либералия, которому он велел подгонять ослушников палками. Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к Цезарю и страх пред его карательной властью. Большинство кроме того прельщалось надеждой на добычу… И вот в то время, когда Цезарь выскочил, чтобы усмирить солдат, уже один из них проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками, а когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом храм, против воли Цезаря, был предан огню».48
Так говорит Иосиф Флавий. Но историк Сульпиций Север, наоборот, утверждает, что Тит настаивал именно на разрушении храма, споря с некоторыми миротворцами из своего окружения. Эти данные Сульпиция Севера, по всей видимости, соответствуют тексту Тацита об этих событиях, который, правда, до нас не дошел…
После взятия полусгоревшего храма войска провозгласили Тита «императором» – это было почти в порядке вещей после крупных военных побед, и тем не менее Титу не хотелось, чтобы его отец заподозрил, будто он хочет отложиться от Рима. Потому Тит поспешил отдать все распоряжения о разрушении Иерусалима и отбыть в Рим – чтобы лично заявить отцу о своей лояльности.
Взятых в плен в Иерусалиме иудейских священников Тит приказал казнить, заявив, что «не должен жить священник после того, как храм его Бога разрушили». Войска Тит наградил и некоторых легионеров отпустил на покой. Солдаты столько награбили, что золото на рынках Сирии сильно упало в цене: его ходило слишком много. Празднуя победу, Тит задал для солдат пир, продолжавшийся три дня…
Затем город и храм римляне сравняли с землей – Тит распорядился оставить лишь несколько отдельно стоящих башен, чтобы они свидетельствовали о высоте когда-то находившихся здесь укреплений и о мощи того врага, которого победил Рим.
В Цезарее Тит устроил праздничные игры, в которых частью представления было то, что пленных иудеев заставляли сражаться со зверями и друг с другом. Таким образом было умерщвлено довольно много иудеев-воинов (по оценке Иосифа Флавия – несколько тысяч). Многих пленных иудеев отправили в Рим и позже использовали на строительстве Колизея, начатого Веспасианом и завершённого уже в годы императорства Тита.
Вся захваченная земля в Палестине, как это было принято, становилась собственностью римского государства (т.е. лично императора); но Веспасиан большую часть земли продал. Согласно Иосифу Флавию, количество римских ветеранов, которых наделили землей недалеко от Эммауса, было небольшим: всего восемьсот человек. Но главное, исчез иудейский этнос как оседлый народ, как влиятельный хозяйствующий субъект именно в этом регионе. Товарные и денежные потоки переключили на себя греки, сирийцы, египтяне, а в первую очередь – сами римляне.
…Погромы прошли во всех городах Ближнего Востока, и везде, где иудеев было меньшинство, их стало ещё меньше, а кроме того у них отняли практически всё имущество. Нечего и говорить, что все религиозные отправления иудеев были теперь запрещены; иудеев даже специально нагружали работами по субботам, чтобы не дать им выполнять субботние обряды. С другой стороны, Иосиф опять показывает нам либерализм Тита (в который, как уже сказано, не увсе историки верят), повествует о том, как Тит отверг просьбу антиохийцев, намеревавшихся выселить всех евреев из Антиохии. «А где же им жить?» – ответил Тит и предоставил антиохийцам разбираться со своими иудеями самостоятельно.
…Из Антиохии Тит, через Иерусалим, вернулся в Александрию и отплыл оттуда в Рим, где ему и отцу был устроен грандиозный триумф.
Победа над иудеями Рима имела не только военный, не только хозяйственно-политический, но ещё и идеологический, духовный аспект, который, возможно, и был самым важным. Размах и пышность триумфа соответствовали этому; среди наиболее замечательного, что было в этом триумфе, историки упоминают громадные башнеобразные сооружения, которые несли в процессии, – некоторые из них были по три, даже по четыре этажа. На этих «башнях» наглядно представлены были основные эпизоды Иудейской войны; триумф включал также шествие многочисленных пленных, демонстрацию захваченных богатств, религиозных предметов…
Вскоре после окончания Иудейской войны Веспасиан воздвиг храм Богини мира…
С воцарением Веспасиана в империи, действительно, установился мир. (Хотя были и восстания германцев, и галлов, и волнения в других областях империи…)
* * *
Веспасиан правил 10 лет, с 69 по 79 н.э.
Это было десятилетие методического «подтягивания гаек», заметно ослабевших за время правления Клавдия, а затем Нерона. Как пишет о Веспасиане Светоний, «он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами, – он презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком!» – а приказ о назначении отобрал».49
Веспасиан, конечно, вошел в историю и своим решением обложить налогом туалеты, и своей фразой, сказанной по этому поводу: «Деньги не пахнут – Non olet pecunia».
Вообще Веспасиан не скрывал своего низкого происхождения и не стремился казаться более культурным или менее грубым чем был на самом деле. Светоний: «Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бранил его при всех и, только жалуясь на него общему другу, сказал под конец: «Я-то ведь всё-таки мужчина!»»50
Скупость Веспасиана вошла в поговорку. Он не брезговал даже тем, что скупал и перепродавал предметы мебели, если видел, что на этом можно заработать. За скупость александрийцы презрительно называли его «селёдочником», однако же на самом деле Веспасиан неплохо владел финансовыми вопросами в масштабе империи.
В начале своего правления он сказал, что нужно 40 миллиардов сестерциев, чтобы империя встала на ноги, и, как знать, может быть, его экономность в итоге заработала римскому государству и больше чем эта сумма. Рассказывали, что он заботливо продвигал некоторых богачей на всё более денежные должности чтобы в конце концов отдать их под суд и конфисковать капитал. Эта довольно распространенная политика императоров называлась «сухой губке дать намокнуть, а мокрую выжать».
Когда однажды царедворцы предложили ему за огромную сумму денег воздвигнуть его статую, Веспасиан протянул руку и изрек: «Ставьте немедленно, вот пьедестал». Другой вельможа за большую взятку обещал устроить человеку назначение на прибыльную должность, называя этого человека своим братом, но Веспасиан эту взятку присвоил себе, заявив царедворцу: «Ищи себе другого брата, это теперь мой брат».
В целом же его распорядок дня Светоний описывает следующим образом:
«Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, ещё до света, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников; затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц: после смерти Цениды у него их было много. Из спальни он шёл в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был он всегда добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки: он был большой насмешник, но слишком склонный к шутовству и пошлости, даже до непристойностей».51
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. СПб., 2008. С. 9.
2
Тацит К. Анналы. II, 85. Цит. по: Корнелий Тацит. Сочинения в 2-х томах, Л., 1969, Т. 1. С. 81.
3
Против Флакка, §1-3. Цит. по: Филон Александрийский. Против Флакка. О посольстве к Гаю.М.-Иерусалим, 1994.
4
Цит. по: Филон Александрийский. Указ. соч. С. 55-56.
5
Филон Александрийский. Указ. соч. § 6-7.
6
Там же, § 9.
7
Schurer E. Geschichte des judischen Volks im Zeitalter Jesus Christi, Leipzig, 1890, Bd I-III. Bd. II, S. 747, 855-860. Английское издание, также цитируемое в этой книге: Schurer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A. D. 135). A new English version revised and edited by Geza Vernon and Fergus Miller. Edinburgh, 1973, Vols. 1-4.
8
Schurer. Op. cit. Bd I. S. 414-416. Англ. издание: т. 1, с. 389-390.
9
Брежнев Л. И. Материалы к биографии. М, 1991. С. 236.
10
А. Мень. История религии. Учебник. Том 1, Глава VI. «На пороге Нового Завета». М., 1997. Т. 1. С. 159.
11
См. Кошеленко Г. А. Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990, и др. работы.
12
O. Morkolm. Antiochus IV of Syria (1966); E. Bickermann. Der Gott der Makkabaeer (1937); S. K. Eddy. The King is Dead: Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenization . 334 – 31 B.C. (1961).
13
Schurer E. Geschichte des judischen Volks im Zeitalter Jesus Christi, Leipzig, 1890, Bd I-III. Bd. I, S. 148-153. Английское издание, Vol. 1. p. 148-151. Согласно англоязычной версии труда Шюрера, второй погром в Иерусалиме произошел в 167 г.
14
Строительство Храма Зевса в Афинах было начато Персеем, продолжено Антиохом IV, а окончено императором Адрианом. Об этом храме упоминают Страбон, Павсаний и другие.
15
Полибий. Всеобщая история в 40 книгах. (В 3-х томах). Книга XXVI, 1-14. Санкт-Петербург, 1995. Т. 3. С.7-8.
16
Полибий. Всеобщая история, XXVII, 18-22.
17
Полибий. Всеобщая история, XXIX, 2.
18
Полибий. Всеобщая история. XXIX, 26.
19
Schurer. Op. cit. Bd. I, S. 153.
20
Лившиц Г. М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима. Минск, 1957. С.66.