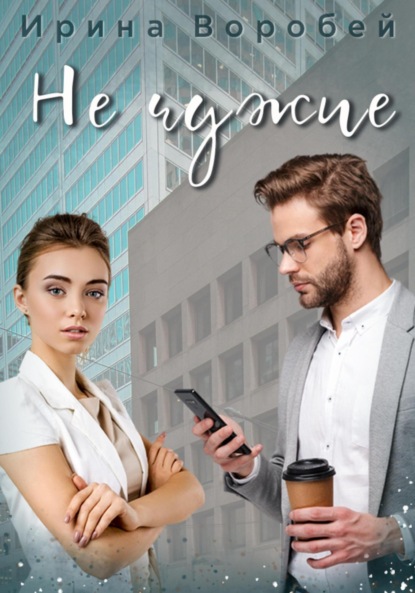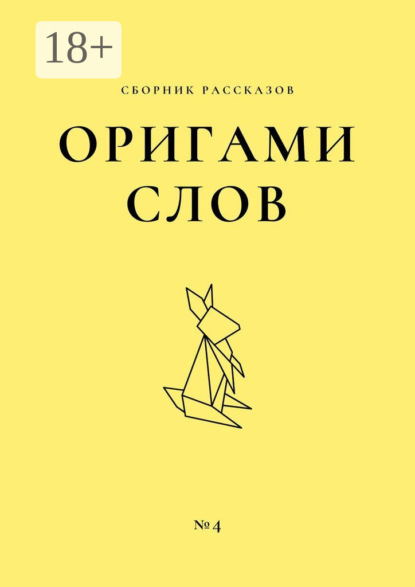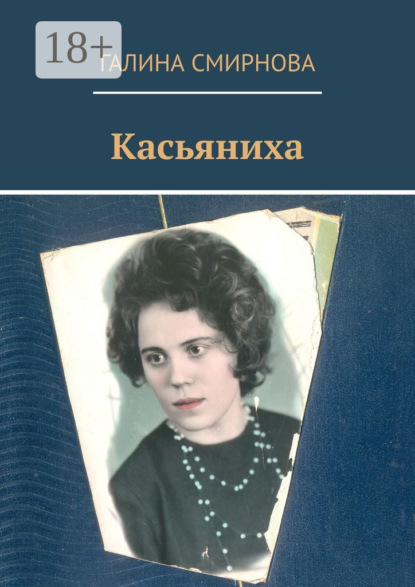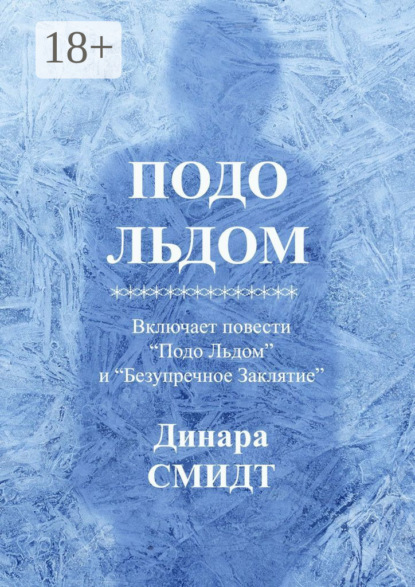Ломоносов. Судьба гения
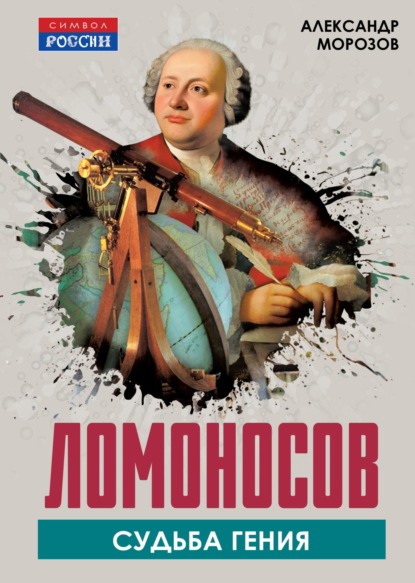
- -
- 100%
- +
В летнюю пору на Мурмане солнце не «закатается». Оно лишь уходит к горизонту, краснеет и вновь подымается почти с того же самого места. Но ночь всегда можно узнать по наступающей тишине, плеску и тревожному гомону птиц на отмелых местах, теплому и нежному ветерку с моря.
Судно Ломоносовых приходило на промыслы, когда там уже давно кипела работа. Пришедшие пешком артели «вешняков» принимались ловить треску и палтусину в апреле, когда еще не унесло в океан все льды и даже на южных склонах еще не зеленели мхи и травы.
Летом здесь людно. На тресковый промысел на Мурмане собираются из самых различных поморских мест. Сюда приходят и с соседнего Терского берега Белого моря, и с далекой Мезени. Здесь можно встретить и жителей Колы и Кеми, и староверов из Онеги и Сумского посада, разбитных холмогорцев и молчаливых «трудников» Соловецкого монастыря. Весь этот люд из года в год оседает на одних и тех же становищах и до глубокой осени занят одной и той же работой, требующей большой сноровки и напряжения.
Ловля трески и палтусины производится в океане на неглубоких местах, иногда довольно далеко от становища. По дну океана растягивается на пять или шесть верст «ярус» – гигантская рыболовная снасть, состоящая из нескольких десятков длинных веревок, сажен по сорок. На них на расстоянии трех-четырех аршин друг от друга навешаны «оростяги» – крепкие короткие веревки с привязанными к ним тяжелыми крючками, или «удами». Чтобы ярус держался на дне, употребляют особые грузила, сделанные из простого булыжника, защемленного в сучковатое полено и обвязанного «вичью» – прутьями и древесными кореньями. Там, где спущено грузило или якорь, прикрепляется большой деревянный поплавок с прибитым к нему веником, или «махавкой».
Полторы или две тысячи крючков, навешанных на ярус, преграждают путь прожорливым стаям трески, появляющимся у берегов и жадно хватающим на лету все, что им подвернется. Наживкой обычно служит мойва, сайка и всякая другая мелкая морская рыбешка, а то и кусочек самой трески или палтуса.
«Трясти треску» отправляется на шняках не менее четырех человек. У каждого из них работы по горло. Кормщик правит судно, стараясь не повредить ярус. Тяглец вытягивает ярус. Весельщик улаживает судно на одном месте, подгребает к ярусу, помогает тяглецу и кормщику. Тем временем наживочник проворно обирает треску и наживляет уды новой наживкой. Сильная и крупная рыба трепещет и серебрится почти на каждом крючке. Палтусов, прежде чем снять с крючков, нередко добивают острогой, так как некоторые достигают пяти, семи и больше пудов. Треску оглушают колотушкой или просто отвертывают ей голову и швыряют в шняку.
«Обобрать» ярус в полторы или две тысячи крючков – дело нелегкое, особенно если подымется на море «взводень». Неуклюжую плоскодонную шняку с высокими набоями из еловых досок так и подбрасывает на волнах, как щепку, пока поспешно поставленный парус не выровняет ее ход. Иногда поморы, оставаясь в шняке, предпочитают «держаться за ярус», чем пускаться в открытое море, где их может отнести далеко от берега или разбить о луды – каменистые мели.
А на берегу, пока не приспело время снова осматривать ярусы, почти круглые сутки кипит работа. Надо управиться с привезенной рыбой. Недавний тяглец отделяет теперь головы, кормщик пластает рыбу, надрезывает ее вдоль спины, вынимает хребетную кость и все внутренности, наживочник отбирает печень, или «максу», из которой вытапливается жир. Распластанная рыба укладывается по жердинам, положенным на тяжелые бревна, укрепленные на козлах. Рыба провяливается и сохнет на этих жердинах до двенадцати недель и потому заготовляется, таким образом, только в начале промысла. Пойманную треску, кроме того, солят (не вынимая хребетной кости) в больших земляных ямах, обложенных дерном. Ее укладывают плотными рядами, скупо посыпая солью. Эта рыба – «односолка» – потом еще досаливается при перегрузке на судно.
Новоманерный гукор Ломоносовых доставлял на промысел соль и служил для перевозки сухой и соленой рыбы, заготовленной промышленниками. Василий Дорофеевич Ломоносов, несомненно, и сам участвовал своим трудом в промысле, вступая в котляну, объединявшую несколько судов и артелей. Он из года в год направлялся на одно и то же становище в Кеккурах и возвращался оттуда только в самом конце промыслового сезона.
Кроме участия в промыслах, В. Д. Ломоносов развозил на своем гукоре «разные запасы» по всему побережью Белого моря и Ледовитого океана – «от города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень», – как утверждает академическая биография М. В. Ломоносова 1784 года.
Гукор «Чайка» заходил на Соловецкие острова. У Василия Дорофеевича Ломоносова всегда находились здесь важные дела.
Соловецкий монастырь, основанный в 1436 году, представлял собой огромную вотчину с разбросанным по всему Поморью обширным и разнообразным хозяйством. Соловецкий монастырь был важным форпостом Московского государства на Белом море. В течение десяти лет – с 1584 по 1594 год – под руководством монаха Трифона, который слыл человеком искусным в военном деле, монастырь был обнесен надежной каменной стеной. Эти меры были крайне необходимы, так как иноземные корабли стали все чаще появляться на Белом море.
В XVII веке, в период кризиса феодального государства, вызвавшего движение Степана Разина и «раскол», Соловецкий монастырь не принял никоновских реформ и поднял в октябре 1666 года открытый мятеж. До 22 января 1676 года горсточка «старцев» выдерживала осаду правительственных войск, ободряемая и поддерживаемая сочувствием местного населения. Монастырь пал только после того, как перебежчик Феоктист показал ход за его стены через ров у одной из церквей. Расправа была ужасной. Изнуренные долгой осадой, «старцы» были выгнаны в жестокую стужу на морскую губу и там заморожены. Все деревья вокруг монастыря были увешаны трупами монахов.
После подавления восстания Соловецкий монастырь пришел в упадок, но скоро оправился. Петр I оценил хозяйственное и военно-стратегическое значение обители и оказывал ей поддержку. Он дважды посетил Соловецкие острова: впервые в 1694 году, после бури у Унских рогов, и 10 августа 1702 года, когда неожиданно прибыл вместе с царевичем Алексеем на тринадцати кораблях, готовясь к своему походу на Нюхчу и Повенец.
Предания о соловецком бунте и рассказы о посещении Петром Соловков были живы в памяти поморов в ту пору, когда юноша Ломоносов впервые увидал Соловки.
Летом на тишине, среди моря, усеянного солнечными дрожащими бликами, неожиданно выступали зеленые острова, изрезанные извилистыми заливами и бесчисленным множеством сверкающих озер. Некоторые из островов гористы и покрыты рослым плечистым лесом. Другие устланы болотами, поросли мхом, чахлым кустарником и низенькими, словно вымерзшими, елочками и сами вместе с ними словно плывут по морю.
На большом острове в удобной и глубокой губе открываются сложенные из огромных валунов серые стены и круглые башни монастыря.
В светлые, прозрачные вечера юноша Ломоносов, ускользнув от церковной вечерни, бродил по притихшему острову, прислушиваясь к ласковому рокоту Белого моря. Его внимание, несомненно, привлекли таинственные каменные «выкладки» из некрупных валунов, образующие запутанные лабиринты, или, как их называли в народе, «вавилоны». Всего в одной версте к югу от монастыря на уединенном полуостровке, отделяющем от моря Кислую губу, находилось три таких лабиринта, высота которых не достигала колен.
Между ними стелются узкие, едва достигающие пол-аршина, дорожки, поросшие темно-зелеными кустиками воронихи и северным вереском, мерцающим розовато-лиловыми цветами. Самый большой лабиринт напоминал подкову с близко сведенными концами, как бы составленную из двух несомкнутых между собой и извивающихся каменных лент. Широкий вход в лабиринт тотчас же расходился на две стороны. Всякий, кто заходил в лабиринт, непременно выбирался из него, но только с противоположной стороны, пройдя в общей сложности 285 шагов. Только повернув направо, можно было почти тотчас оказаться в самом центре его возле довольно большой груды камней, среди которых был особенно заметен врытый в землю с наклоном странный косоугольный валун, а повернув налево, нужно было долго петлять по лабиринту, прежде чем попадешь к его центру. Второй лабиринт, несколько поменьше и уже, по-видимому, полуразрушенный и во времена Ломоносова, представлял собой довольно правильный круг с одним входом и довольно сложной системой переходов, причем некоторые оканчивались тупиками. Третий, совсем маленький, едва достигающий двадцати шагов в окружности, был устроен в виде довольно простой спирали – «улитки».
Такие же лабиринты есть и на острове Анзере, и на Большом Заяцком острове, принадлежащем к числу Соловецких, и на Поное, и в различных местах Кольского полуострова[10].
Пытливый юноша Ломоносов, вероятно, не только забавлялся, пробираясь по извилистым дорожкам каменных «вавилонов», но и задумывался над тем, кем и для чего они построены. Эти загадочные сооружения, обилие всяких древностей на Севере, находки кладов, старинные монеты, иконы, рукописные книги – все это пробуждало в нем живые исторические интересы.
* * *В. Д. Ломоносов доставлял казенные хлебные запасы в Кольский острог, укрывшийся за скалистыми кряжами, обступившими его со всех сторон. Деревянный острог с рублеными массивными башнями защищал бухту. Посреди острога высился огромный собор, сложенный в 1696 году из необыкновенно толстых бревен[11]. Девятнадцать серых чешуйчатых глав придавали ему величавую легкость. Гарнизон, сидевший в остроге, насчитывал до пятисот человек. Для них-то и завозили казенный провиант на всю зиму.
В. Д. Ломоносов принимал участие в таких перевозках регулярно.
В Центральном Государственном архиве древних актов в Москве, в фондах Николаевского Корельского монастыря, обнаружена квитанция, выданная архангельским таможенным головой Иваном Ботевым крестьянину Куростровской волости Двинского уезда Василию Ломоносову и служебнику Корельского монастыря Дементию Носкову о получении с них пошлины с подряда на провоз казенного провианта от Архангельска до Кольского острога «на своих судах». Квитанция выдана 17 июля 1729 года. Из нее явствует, что Василий Ломоносов и Дементий Носков подрядились доставить на своих судах «служителям провианта ржи тысяча триста пятьдесят, овса сто шестьдесят восемь четвертей шесть четвериков». «А за провоз дано четыреста семьдесят рублев пятьдесят две копейки».
Василий Дорофеевич Ломоносов был опытным полярным мореходом, который смело и уверенно ходил далеко в Ледовитый океан. 4 июля 1734 года из Архангельска для осмотра и описания побережья Ледовитого океана отправился на двух кочах один из отрядов Великой северной экспедиции под начальством лейтенантов Степана Муравьева и Михаила Павлова. Согласно «высочайше утвержденным правилам» местные жители были обязаны сообщать «до городов» о всех замеченных в море судах. А 3 сентября генерал-губернатор князь Щербатов прислал в Архангельскую контору над портом со своим адъютантом «холмогорца куростровской волости Василия Ломоносова», который объявил, что «в первых числах августа видел оба судна верстах в двухстах от Югорского Шара». В. Д. Ломоносов, который находился тогда на острове Долгом, сообщил также, что трое суток после этого стоял «способный» ветер. Он провел на этом месте еще три недели, но судов больше не видел.
Из этого сообщения явствует, что В. Д. Ломоносов не только заходил на своем судне в устье Мезени, в Пустозерск, но бывал и значительно дальше, в Баренцевом море, притом довольно часто и во времена юности Михайлы.
Иногда им приходилось забираться далеко в Северный Ледовитый океан. Сам Ломоносов в одном из своих ученых трудов, говоря об искрах, «которые за кормой выскакивают» во время полярных плаваний, добавляет: «Многократно в Северном океане около 70 ширины (то есть широты. – А. М.) я приметил, что оные искры круглы». По-видимому, это указание Ломоносова и относится к восточным районам Баренцева моря и Югорскому Шару.
Северные плавучие льды, словно теряющиеся в беспредельном пространстве, оставляют неизгладимое впечатление. Море и небо отражают друг друга, и в нежных переливах основных цветов светятся и мерцают ледяные кристаллы, словно впитывающие в себя все разнообразие постоянно сменяющихся оттенков.
Художник А. А. Борисов, прославившийся своими пейзажами Крайнего Севера, хорошо подметил эту удивительную особенность северной природы, необычайную утонченность цветной гаммы и поразительных, порой даже причудливых сочетаний тонов. Особенно привлекали его к себе плавучие льды. «Вот где затейливость и неожиданность рисунка, независимо от блеска тонов, превосходит все, что может себе представить человек, одаренный даже сильным воображением, – писал А. А. Борисов. – Иногда, при солнечном свете и на местах, где в море есть значительное течение, это настоящий гигантский калейдоскоп, как бы движимый неведомою силой, в котором картина меняется каждую минуту, и каждую минуту представляет все новое и новое до бесконечности сочетание линий и тонов. Вот громады мерно надвигаются друг на друга, и все теснее становится пространство между ними: вот они столкнулись, но как бы только для того лишь, чтобы раздавить попавшуюся между ними льдину, на которой легко уместилось бы человек пятьсот. Исчезла куда-то раздавленная льдина, и опять врозь идут белые великаны, и опять бешено разбиваются об их изрытые края черные волны океана».
Судно Ломоносовых проходило мимо одиноких северных островов, о которые разбивались огромные пенистые волны. Трехпалые чайки, кайры и альки унизывали отвесные высокие скалы, цепко прилепляясь к скользким уступам, кишели и гнездились в расселинах, на маленьких площадках и по карнизам. Трепещущими тучами поднимались они в воздух, подчас заглушая своими резкими и хриплыми криками даже шум моря. Но затем птицы быстро успокаивались. Самки с доверчивой глупостью продолжали сидеть на гнездах даже при приближении человека. Они лишь вытягивали шеи, норовя клюнуть пущенный в них, но пролетевший мимо камень. Даже выстрелы не особенно смущали их, и они только раздраженно покряхтывали, не обращая внимания на подстреленных подруг, срывающихся в бушующее море.
Вблизи птичьих гор кружатся и промышляют себе корм небольшие хищные птицы, которых поморы метко прозвали «доводчиками». Они преследуют трехпалых чаек до изнеможения и вырывают у них добычу прямо из клюва.
Нет никакого сомнения, что Ломоносова не раз заставали жестокие северные штормы. Шквал налетает почти внезапно на идущее под всеми парусами судно. И если нужно немедленно отдать фал, или, по-северному, «дрог», а большой парус почему-либо не спускается, то кормщик, не теряя времени, бросает в него острый нож или топор, и прорезанный парус раздирается ветром на части, а едва не опрокинувшееся судно стремительно выпрямляется, так что надо цепко держаться, чтобы не сорваться в море.
Плавания с отцом развили в юноше Ломоносове отвагу и неустрашимость, выносливость и находчивость, огромную физическую силу, уверенность в себе и наблюдательность. Он любил суровый север – ледяной ветер в лицо и непокорное море. Впоследствии в звучных стихах Ломоносов убежденно доказывал преимущества северной природы, которая бодрит и закаляет человека:
Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,Что портит в жилах кровь, свирепых ядов злее,Лишает долгой зной здоровья и ума,А стужа в севере ничтожит вред сама…Ломоносов глубоко понимал жизнь на море. Переживания помора, возвращающегося из долгого и тревожного плавания, много лет спустя нашли поэтическое отражение в одной из его од:
Когда по глубине невернойК неведомым брегам пловецСпешит по дальности безмерной;И не является конец;Прилежно смотрит птиц полеты,В воде и в воздухе приметы.И как уж томную главуНа брег желанный полагает,В слезах от радости лобзаетПесок и мягкую траву.Трудные морские переходы не только физически закаляли Ломоносова, но и развивали его ум, обогатив его большим числом самых различных впечатлений.
Ломоносов жил общей жизнью с поморами, узнал их труды и опасности, жадно прислушивался к их рассказам, встречался со множеством сильных и смелых людей, ходивших по морям, лесам и топям, сметливых и зорких, знающих повадки лесного зверя и морской птицы, бесстрашных охотников и зверобоев, опытных лоцманов и навигаторов, различавших малейшее изменение погоды и ветра и умевших провести любое судно через все мели и коварные встречные течения.
Он наблюдал жизнь малых народов севера – ненцев, комизырян и лопарей, сочувственно отзывался о них, встречался с ними и, по-видимому, даже принимал участие в их празднествах и увеселениях. В 1761 году, опровергая неверные известия о северных народах, помещенные Вольтером в его «Истории Петра Великого», Ломоносов указывал на слабосилие лопарей, «за тем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною почти рыбою», тут же замечает: «Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей». Далее он приводит и другие свои этнографические наблюдения: «Лопари отнюдь не черны и с финцами одного поколения, ровно как и с корелами и со многими сибирскими народами… Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают; однако мне их видеть нагих случалось и белизне их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят – свою главную повседневную пищу».
Он видел разнообразные морские, речные и береговые промыслы и занятия, наблюдал кипучую торговую и промышленную жизнь обширного края, сберег в своей памяти множество сведений, которыми потом делился со своими современниками в научных и практических целях, или, как скупо сообщает академическая биография 1784 года, «рассказывал обстоятельства сих стран, о ловле китов и о других промыслах».
Ломоносов повсюду видел природные богатства нашего севера, скрытые не только в море, но и в недрах земли. Он видел залежи серой глины и точильного камня на Зимнем берегу Белого моря и «аспидные горы» на острове Кильдин. В своей книге «Первые основания металлургии» он вспоминает северные шиферы и сланцы, керетскую слюду, триостровские руды, иловые отложения на озере Лаче близ Каргополя, янтари, выбрасываемые морем у Чайской губы, находки мамонтовой кости в Пустозерске; называет Медвежий остров, «откуда чистое самородное серебро», хрустали «по Двине реке в Орлецах» (неподалеку от Курострова, за Вавчугой).
Он видел кусковую, молотую и щипаную слюду, которую везли по Двине или грузили в Архангельске, держал в руках тонкие мутно-прозрачные пластинки с зеленоватыми, желтыми и буро-красными отливами и перламутровыми отблесками на спайках и, вероятно, посещал выработки слюды, разбросанные по берегам Белого моря. Он сам говорит о себе, что задолго до того, как попал за границу, «на поморских солеварнях у Белого моря бывал многократно для выкупки соли к отцовским промыслам и имел уже довольное понятие о выварке».
Вероятно, Ломоносовы приплывали за солью в Нёноксу. Уже издали с моря был виден белый пар, растекающийся по небу, и верхушка построенной в 1727 году затейливой деревянной церкви о пяти шатрах. Верстах в шести от берега, за большим озером, где гнездится множество лебедей, в лощине на правом берегу реки Нёноксы, укрылись длинные и темные, пропитанные копотью и сыростью бревенчатые сараи – варницы. Здесь с давних времен вываривается самая лучшая соль во всем Поморье – «нёнокоцкая ключовка». Рассол поступает из скважин в землю и колодцы, которые назывались Великоместный, Паволочный и Смердинский. Варницы также имеют свое название – Кобелиха, Скоморошница, Коковинская и другие.
Каждая из них принадлежала компании владельцев, в числе которых были почти все северные монастыри. Отдельными долями в варницах владели черносошные крестьяне и посадские. Внутри варниц на камнях замурованы огромные четырехугольные котлы – «црены», служившие многим поколениям солеваров. К цренам подведены деревянные трубы, по которым подается рассол. На выварку пуда соли уходила примерно сажень дров. Всего одиннадцать нёнокоцких варниц вываривали в середине XVIII века до 130 тысяч пудов соли в год. Вываренную соль подсушивали на солнце и перевозили на карбасах через Нижнее озеро и речку Верховку к морю, где перегружали на отправляющиеся на промыслы поморские суда.
Молодой Ломоносов не упустил из внимания даже такой местный промысел, как ловля жемчуга.
«Недалече от Колского острога в маленькой речке ловят жемчужные раковины в глубоких местах, где бродить нельзя, с небольших плотов, опускаясь вниз по речке на веревке, которую человек или два за конец держат с одного или с обоих берегов и вниз по малу опускают. Раковины, которые для светлости воды глубже сажени видеть можно, вынимают долгим шестиком, на конце расщепленным, увязивши раковину в рощеп острым краем», – писал он в 1745 году.
Мелкозернистый синеватый жемчуг сверлился потом в Архангельске и шел на всевозможные «понизки», отделку женских северных нарядов.
Могучая северная природа и неустанный человеческий труд составили первые и самые яркие впечатления детства и юности Ломоносова. В нем рано пробудились острая наблюдательность и пытливость, нетерпеливое желание постичь и объяснить окружающий его мир. Еще мальчиком он научился подмечать многие замечательные явления природы, которые так ярко запечатлелись в его памяти, что спустя много лет он мог с поразительной точностью описать свои наблюдения в научных трудах.
Картины родного севера стоят перед его глазами всюду, где бы он потом ни был. Живая и точная зрительная память помогает ему потом привлекать эти видения детства для научных обобщений. В прибавлении к своей книге «Первые основания металлургии», вышедшей в 1763 году, Ломоносов сообщает, что еще студентом на чужбине, «проезжая гессенское ландграфство», приметил он равнину, поросшую мелким лесом, со множеством морских раковин, «в вохре соединенных». И тотчас же представились ему «многие отмелые берега Белого моря и Северного океана, когда они во время отливу наружу выходят». «Тут бугры скудные прозябанием, на песчаном горизонтальном поле, там голые каменные луды на равнине песчаного дна морского». И Ломоносов, сопоставив виденное, приходит к научному выводу, что эта чужеземная равнина, «по которой ныне люди ездят», некогда, в доисторические времена, была «дно морское».
С юных лет Ломоносову представилась возможность наблюдать природу в гигантских масштабах и чрезвычайном разнообразии ее проявлений – от лесистых двинских берегов до полных дикого величия ландшафтов Арктики. Он бродил по изумрудным заливным лугам, пестреющим яркими цветами, вдоль течения Двины и ее рукавов. И он видел бескрайные ледяные просторы, голубые тени на снегу и грозную темноту полярной ночи, прорезанную оранжевыми отсветами недосягаемого солнца. Он видел холмогорские и пинежские леса, исполинские корабельные рощи, гордо поднимающиеся к небу сосны и лиственницы и низкие, цепкие, прижавшиеся к земле, будто крадущиеся по ней, корявые деревца и кустарники на рубеже тундры. Постоянное общение с природой будило в нем сильное художественное чувство и беспокоило его острый разум. Его поражало медлительное, незаходящее солнце над хрустальной тишиной моря летом:
Достигло дневное до полночи светило,Но в глубине лица горящаго не скрыло,Как пламенна гора казалось меж валов,И простирало блеск багровой из-за льдов.Среди пречудныя при ясном солнце ночиВерьхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.И его манил к себе нежный зеленоватый свет, таинственно озаряющий суровое северное небо, вздрагивающие и набегающие друг на друга светлые столбы, то вспыхивающие на горизонте, то повисающие неровной завесой посреди неба. Спустя много лет с пытливой страстью, владевшей им с юности, Ломоносов спрашивает в звучных стихах:
Что зыблет ясной ночью луч?Что тонкий пламень в твердь разит?Как молния без грозных тучСтремится от земли в зенит?IV. «Врата учености»
«Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей».
А. Н. Радищев, «Слово о Ломоносове»С промыслов возвращались поздней осенью. Давно уже по-осеннему шумит море, ночи становятся все темнее, на улице все ненастней. По всем поморским селам с нетерпением ждут промышленников. Женщины молятся о «спопутных ветрах», гадают, смотрят, куда повернется умывающаяся на пороге кошка, даже сами выходят заговаривать «поветерье», бьют поленом по высокому шесту, на котором водружена «махавка», сажают на щепку таракана и спускают его с приговором: «Поди, таракан, на воду, подыми, таракан, севера»[12]. Ребятишки не слезают с колокольни, дежурят на крышах домов, высматривая далекие паруса. И когда появляются свои «матушки-лодейки», встречать промышленников сбегается стар и млад.