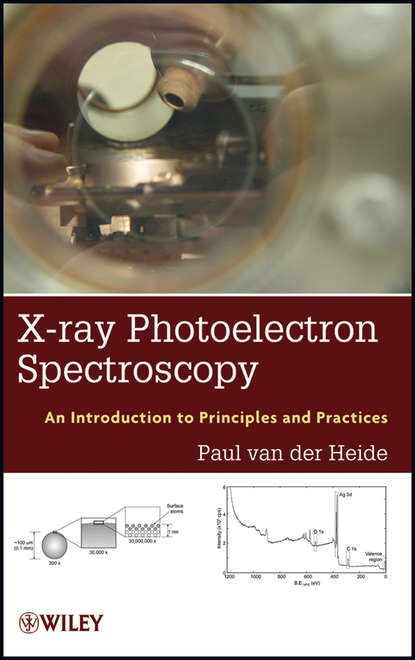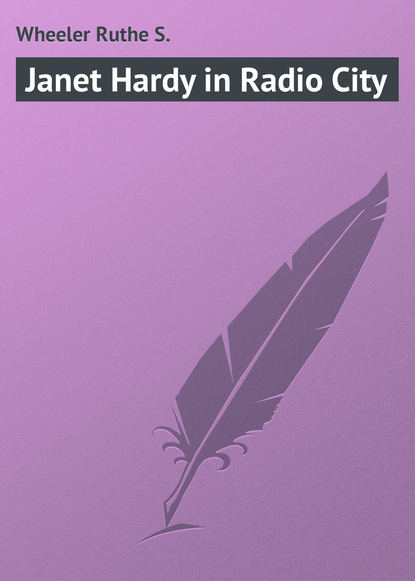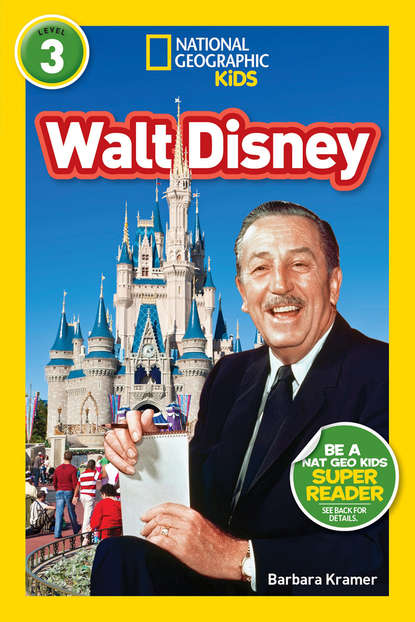Хроники Дома на перекрестке миров

- -
- 100%
- +

Первая
ХРОНИКИ ДОМА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МИРОВ
ЭПИГРАФ:
Шаги и тиканье часов в пустынном доме разносились
шепот вдруг произнесенных слов, едва слетевши растворились
пустынный дом стоящий на сплетении дорог
пристанище для путников и прочих
укроет от обид, хлопот и мелочных тревог
и дел отложит в долгий ящик срочных
в нем тихий треск поленьев за решеткой
к нему сплетаются дороги средь миров
к нему идут уверенной походкой
неся монетки в качестве даров
всяк проходящий мимо, знает
откроются пришедшему врата
если путник соблюдает
старинной клятвы, произнесенные слова:
«Однажды двери, скрытые от многих
Срастаясь кронами деревьев по бокам
Под взглядом сил могущественных, строгих
Откроются уставшим ходокам
И каждый кто заплатит звонкою монетой
Найдет ночлег, возможность отдохнуть
И путеводною звездой, заветной
Ему за это озариться дальний путь»
ПРОЛОГ:
Иван Иванович Клятый был человеком не прихотливым, пятидесяти с небольшим лет от роду. Слово «Клятый» досталось ему от предков, и хоть иные шёпотом толковали, будто корень его от слова «клятва» или, того пуще, «проклятый», сам Иван Иванович на это внимания не обращал. Он был простым лесником, смотрителем таёжных угодий, и клятва у него была одна – молчаливая и нерушимая: беречь свой лес. Детей своих Иван Иванович не знал, но подозревал, что где-то они, возможно, и есть, ибо пару лет по молодости пришлось поездить по разным угодьям и лесным хозяйствам, оставляя по себе не только след на тропе, но и, как водится, добрую память в сердцах местных девчат. Но осела жизнь именно здесь, у подножия седого горного массива, о который, как зелёное море, разбивались его бескрайние владения. Иван Иванович был нем от рождения, но всё остальное при нём было, как и у всякого человека, хорошо и ладно, а кое-что – и куда как лучше. Был он среднего роста, плечист и кряжист, будто старый корень. Волосы его, отливавшие серебром, были белы, как лунь, и резко контрастировали с загорелой, продубленной ветрами кожей. Но главное – его глаза. Цепкие, цвета молодой хвои, зелёные и ясные, они всякого поражали остротой взгляда. Он мог заприметить серую белку на сером же суку метров за пятьдесят, разглядеть след рыси в сумерках и отличить по едва заметной дрожи листвы, дует ли ветер или крадётся зверь. У леса от него не было тайн. Он знал все звериные тропы и лежанки, исходил все ягодные поляны да грибные чащобы. Избушка его, срубленная собственными руками из крепких лиственничных брёвен, стояла на пригорке, неподалёку от подножия гор. Скрипучая, неказистая, пропахшая дымом, хлебом и смолой, она была ему и крепостью, и пристанью. Иван Иванович жил в ладу с собой и миром, и ему большего не требовалось. В тот день тучи нависли плотным, свинцовым покрывалом над владениями Ивана Ивановича с самого утра, отчего в избушке, даже с зажжённой лампой, царил тревожный полумрак. Воздух был неподвижен и густ, предвещая не просто грозу, а нечто большее. Он, как и было заведено уже долгие года, встал с постели, негромко покряхтывая. Старые кости чутко чуяли тяжесть в атмосфере. Постоял у окна, глядя, как ветер треплет макушки сосен, потом поставил на ещё не остывшую печь старый, в мелких оспинах-вмятинах, чайник и ловким движением подкинул горсть лучинок к теплящимся в печном чреве углям. Огонь с тихим шипением ожил, затрепетал багровыми языками, отбрасывая на стены пляшущие тени. Пока Иван Иванович вышел во двор, на крылечко, да освежился после ночи ледяной колодезной водой, с размаху плеснув её на лицо и затылок, чайник и закипел, возвещая об этом дружным, нетерпеливым посвистыванием. Возвращаясь в тепло, он стряхнул с сапог налипшие комья влажной земли. Достав с полки крынку с жёлтым, душистым маслом, нарезав ломтями тёмного, плотного ржаного хлеба, который сам пек по субботам, да достав пару сваренных накануне яичек, Иван Иванович неспешно принялся завтракать. Тишина в доме была не пустой, а наполненной: потрескивание поленьев, мерное тиканье стенных часов, да тихое мурлыканье старого котяры, трущегося о его валенки. Свое небольшое хозяйство Иван Иванович любил без лишних сантиментов, но крепко. Десяток несушек, суетливых и важных, пара спокойных коз, да этот самый старый котяра, вечный и молчаливый спутник, – вот и все, с кем Иван Иванович коротал свою жизнь в немом согласии. И, по своему разумению, был он счастлив. В этом был весь его мир, понятный и обустроенный. Закончив завтрак и накормив животину, Иван Иванович смахнул со стола крошки тяжёлой, натруженной ладонью, взял со стены висевшее на ней потрёпанное годами, но чистое и смазанное ружьишко, и, одевшись для дальнего похода в просмоленную брезентовую накидку и высокие сапоги, вышел во двор. Воздух по-прежнему висел тяжёлой завесой, и первые редкие капли дождя забарабанили по крыше. Заправив из объёмной, замасленной канистры стоявший во дворе старенький, видавший виды внедорожник, Иван Иванович чиркнул замшей, сел за руль, с привычным рокотом завёл мотор и, развернувшись на площадке перед домом, отправился объезжать свои владения. Обычно на это у него уходило два дня, по окончании которых он возвращался в свою избушку, и жизнь продолжалась своим чередом, как ни в чем не бывало.
Но не в этот раз.
Доехав до берега большого озера, идеально круглого и неподвижно-спокойного, что пряталось меж вековых сосен, растущих по его берегам частоколом, Иван Иванович почувствовал укол тревоги. Озеро было правильным, словно его вычертили циркулем на карте. Вода стояла зеркальной гладью, отражая свинцовое небо без единой морщинки. И тут его взгляд, привычный к малейшим отклонениям, зацепился за странность. На противоположном берегу должна была быть его заимка – бревенчатый сарайчик и сложенная поленница. И хоть через все озеро разглядеть что-то определённое было сложно, он отчётливо видел: противоположный берег густо поросший огромными соснами под самый урез воды. Ни намёка на просеку, на прибрежную поляну, на которую вот уж сколько лет он выезжал, чтобы передохнуть и перекурить. Не поверив своим глазам – а своим глазам, он верил безоговорочно, – Иван Иванович резко дёрнул ручку КПП и направил внедорожник по берегу озера, петляя по накатанной годами дороге. Колёса глухо шлёпали по влажной земле, ветви хлестали по стёклам, но он не замечал, весь в одном стремлении – доказать себе, что это ошибка, игра света, его собственная усталость. Спустя десять минут, ровно столько, сколько всегда требовалось, он выехал аккурат на место, где должна была быть поляна и его заимка. Но ни поляны, ни тем более заимки не было и в помине. Совсем. Так словно никогда и не было. На её месте, вплотную к воде, росли такие же древние сосны, их корни, толстые, как удавы, сплетались в единый ковёр, а хвоя лежала толстым, нетронутым слоем. Ни щепки, ни следа костра, ни вмятины от колёс. Он заглушил двигатель, и внезапно навалившаяся тишина оглушила его. Вышел из машины, медленно, словно скованный.
«Приехал не на то озеро», – мелькнула первая, спасительная мысль.
«Да нет», – откинул он её тут же, с силой. Дорога-то одна, накатанная, других и не было никогда.
Он знал каждый её камень, каждый поворот. Тут его цепкий взгляд, уже бессознательно ищущий хоть какую-то зацепку, выхватил из окружающего пейзажа две особенно огромных сосны. Он бы поклялся – хоть убей не помнил их на этом месте. Да и вообще в его владениях такие великаны, в два обхвата, встречались редко и никогда – парой. А тут вот они, возвышающиеся над остальным лесом, словно древние стражи. Сосны-сестры. Меж ними было несколько метров, и это пространство, от самых корней, впивавшихся в каменистое побережье, до самых вершин, скрытых в низких тучах, было заполнено… дрожащим маревом, светящимся изнутри тусклым, фосфоресцирующим светом. Оно колыхалось, переливалось, но не рассеивалось. Ветра, который мог бы его разогнать, не было. Не было вообще ничего. Тишина стояла такая абсолютная, гнетущая, что Иван Иванович, было, подумал, не оглох ли он вдруг к своей немоте. Ни шелеста хвои над головой, ни плеска волн у ног, ни отдалённого крика птицы. Ничего. Лишь собственное сердце, застучавшее с непривычной силой где-то в горле, и этот немой, зовущий проём меж двух сосен.
Иван Иванович, не в силах оторвать взгляд, обошел это немое чудо несколько раз, стараясь найти хоть какой-то изъян, трещину в реальности. Он даже протер свои цепкие, зелёные глаза шершавым рукавом, но марево никуда не делось и продолжало, как ни в чем не бывало, колыхаться прямо перед ним. Он немного поразмыслил, стоя на краю неведомого. Дом? Он был один. Работа? Его владения никуда не денутся. Жизнь? Она и так текла тихо и предсказуемо, как вода в лесном ручье. Пришел к выводу, что терять ему, в сущности, нечего. Да и что может случиться с ним здесь, в его владениях, где он знал каждую тропинку? Решение созрело быстро, как спелая шишка, готовая упасть. Он подошел к машине, взял своё верное ружьишко, привычным движением проверил затвор и вскинул его на изготовку, чувствуя холод металла ладонью. И так, с ружьём наперевес, словно шёл на медведя, он сделал решительный шаг в колышущееся марево меж двух сестер-сосен. Ступив на ту сторону… Нет, не так. Ступив на ту сторону, Иван Иванович не почувствовал ничего, кроме лёгкого, леденящего покалывания по коже. И оказался в клубах белого, абсолютно непроницаемого тумана, который поглотил его с головой. Зрение отказало, звуки тайги исчезли, осталось лишь ощущение плотной, молочной пелены вокруг. А в это время, по крыше одиноко стоявшего внедорожника забарабанили первые тяжёлые капли дождя, мгновенно набирая силу. И вот уже сплошная стена ливня обрушилась на землю, с шумом барабаня по гладкой, как стекло, поверхности озера. Вода смывала странное марево меж двух сестер-сосен, словно краску с холста. Светящаяся дымка, смываемая потоками воды, начала таять, стекая в озеро радужными, переливающимися ручейками. Она сопротивлялась, на мгновение вспыхивая ярче, но сила ливня была неумолима. Спустя несколько минут марево окончательно растворилось в недрах озера, не оставив и следа. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. И после того как последняя капля с неба окончила свой танец на идеальной глади озера, из самой его глубины в прояснившееся небо ударила ослепительная радуга. Она была не просто цветной полосой – она была мостом, аркой, сотканной из чистого света. Изгибаясь над лесом, она устремилась дугой за горизонт, несколько минут провисев в воздухе, наполняя всё вокруг тихим, торжественным сиянием. А затем, выполнив свою неведомую миссию, растаяла в воздухе, как и любая другая радуга после дождя. На берегу остался лишь старый внедорожник, мокрый и безмолвный. И пустота между двух сосен, которые теперь стояли просто деревьями, хранящими великую тайну.
Туман был похож на живое существо. Не холодное и безразличное, а клокочущее, перекатывающееся, теплое. Он протекал белыми потоками меж его натруженных рук, игриво трепал седые пряди волос, нежно гладил по щекам, словно пытаясь стереть с них печать долгого одиночества. И Иван Иванович, к своему удивлению, стал отвечать на эту игру. Всё напряжение ушло из тела. Ружье, верный спутник всей его жизни, беззвучно выпало из ослабевших пальцев и растворилось у ног в белесых вихрях, не оставив и воспоминания. А потом улыбка, широкая и светлая, озарила его лицо. К нему пришло полное, безоговорочное осознание: ничего плохого и страшного здесь нет. Откуда была эта уверенность, он не знал, но всем существом доверял этому чувству, как доверял когда-то шелесту листвы. Мягко, но внезапно, в самой глубине его сознания, оформился Голос. Он не звучал ушами – он рождался прямо в душе, обволакивая её спокойной мощью.
«Ты одинок», – не спросил, а констатировал Голос.
«Да», – мысленно ответил Иван Иванович, и на мгновение его внутренний взор наполнился картинами тихой, немой избушки.
«Ты не будешь больше одинок». И улыбка, шире прежней, снова вернулась на его лицо. Туман, словно почувствовав это, вовсю завихрился вокруг, ласково задевая то с одного бока, то с другого, словно игривый пёс, приветствующий долгожданного хозяина.
«Ты хотел бы заботиться о Путниках? Дарить им кров и покой?»
«Хотел бы», – ответил он без тени сомнения, и в этом желании была вся его простая, ясная душа.
«Прими же свою судьбу. Отныне ты – Хранитель Дорог и Защитник усталых путников».
Лишь только последнее слово прозвучало в его сознании, как туман завертелся вокруг с немыслимой скоростью, перестав быть нежным, но оставаясь таким же любящим. Он не разрушал, а растворял, разбирал тело и душу лесника на мельчайшие, светящиеся атомы, чтобы собрать заново – в вечность. Из его сердца, вмещавшего столько немой любви к своему лесу, вырвался огонь и стал тем самым неугасимым пламенем, что вечно горит в камине Большой Гостиной, согревая всех, кто ступит на порог. Из его силы и выносливости, накопленной за годы таёжных странствий, выросли крепкие стены обширного дома и нерушимый частокол, окруживший внутренний двор. Из его памяти о щедрой тайге, о её дарах, на плите появились щи, настоянные на лесных травах, и дичь, и ягодный отвар, а в духовом шкафу – румяный пирог с рыбой. Из его молчаливой тоски по общению, по другим живым душам, родились тридцать спален, каждая – готовая принять усталого странника. Из самой глубины его души, чистой, как родник, посреди двора сначала забил источник и в мгновение оформился в колодец с чистейшей, живой водой. А из двух самых ярких воспоминаний – о двух молодых дубках, когда-то найденных в лесу и посаженных у себя во дворе, где они стали ему единственной семьёй, – возникли Врата. Могучие и тяжёлые створки встали навечно между двумя исполинами, чьи кроны, сливаясь, образовывали величественную арку, а корни, сплетаясь в причудливый узор, стали той самой узловатой, вечной дорогой, что уходит в миры и возвращается обратно. И наконец, ветры перемен, дующие между мирами, развеяли последние клочья тумана, явив взору вселенной новое чудо: на перекрёстке множества дорог, уходящих в звёздную даль и в багровые бездны, в зелёные луга и в пепельные пустыни, стоял Дом. Обширный, тёплый, с дымком из трубы и светом в окнах. С конюшней, где всегда ждёт свежий овёс, с внутренним двором, с колодцем, с даром пылающего камина и вкусной снеди, с тишиной мягких постелей.
Так исчез лесник Иван Иванович Клятый. И родился Дом на Перекрёстке Миров. Его зелёные, зоркие глаза теперь смотрят на гостей сквозь стёкла окон, вбирая их печали и надежды. А его немая, добрая душа стала нерушимым Законом Гостеприимства для всех, кто сбился с пути.
«Первая»
Он не стоял на земле, ибо земли здесь не было. Он не был пришпилен к скале или астероиду. Сплетение частокола, просторный двор и сам Дом с тёплым светом в окнах неслись в абсолютной пустоте, что была полнее любой полноты. Это был сам Космос. Со всех сторон, насколько хватало взгляда – и предела этому не было – простиралась Вселенная. Галактики, закрученные в светящиеся водовороты, проплывали так близко, что их свет окрашивал деревянные стены в фантастические цвета. Туманности, рождающие звёзды, клубились прямо из-под дощатого пола крыльца, а Млечный Путь опоясывал частокол величественной, сияющей рекой. Здесь не было «верха» и «низа», а лишь вечный, величественный танец мироздания.
И в это сердце бесконечности сходились дороги.
С внешней стороны частокола, словно кольцо Сатурна, опоясывая всё владение, лежала широкая, как проспект, каменная мостовая. И уже от неё – вперёд, назад, вбок, вверх и вниз – разбегались, сплетались и расходились вновь сотни троп. Они не были статичны. Это был живой организм. Одни пути лежали строго прямо, вымощенные неведомым камнем и ясные, как стрела. Другие – петляли, пересекались друг с другом, создавая немыслимые узоры. Третьи – на глазах возникали из ничего или же, наоборот, начинали стираться, проваливаться сквозь реальность, словно набросок на мокром стекле. Все они подчинялись одному простому и неумолимому закону: дорога существует, пока по ней идёт Путник. Если из тьмы между звёзд к Дому направлялась живая душа, то её путь возникал мгновенно – выстраиваясь под самый её шаг. Чем ближе путник, тем дорога была яснее и прочнее. А те тропы, что вели в миры, забытые странниками, потихоньку угасали, стирались из реальности, оставляя после себя лишь намёк, воспоминание о пути. Но они не умирали насовсем. Они ждали. Ждали первого шага нового гостя, чтобы вспыхнуть вновь, протянув ему руку помощи из самой вечности. И в этот миг десятки таких сияющих нитей были протянуты к Дому. Десятки дорог, по которым шли или вот-вот должны были на них ступить те, кто искал кров, ответы или спасение. И для каждого из них Дом был единственной точкой опоры в головокружительном танце галактик.
Простая дорога, отсыпанная мелким щебнем, сквозь который кое-где прорастала упрямая трава, начала формироваться неспешно. Она тянулась к Дому плавно, словно река, находящая своё русло, слегка виляя в звёздной пустоте. Путник пока не появлялся, но сама Вселенная уже знала о его намерении, выстраивая для него путь. И вот, дорога, встретившись с мощёным кольцом у частокола, замерла в ожидании, как протянутая рука.
Он выпал на неё внезапно и болезненно.
Сначала из ничего, из разрыва в самой ткани реальности, показалась нога в высоком, пыльном сапоге. Она мгновенно подкосилась, и колено с глухим стуком ударилось о щебень. Затем – руки в поношенных кожаных перчатках, которые едва успели выброситься вперёд, чтобы смягчить падение. А затем, рывком, будто его вышвырнула неведомая сила, на дорогу выпало всё его тело. Это был молодой человек, лет двадцати пяти. Он был чрезвычайно худ; его щёки впали, а кожа на скулах натянулась, обнажая резкий, уставший контур. Но одет он был прилично, даже богато: прочные, хоть и потёртые в пути, кожаные одеяния добротного покроя, некогда дорогой плащ, собранный в простой узел через плечо. Он не шёл – он спасся. Сейчас он завалился на бок, и из его горла вырывались хриплые, прерывистые вздохи. Казалось, он пробежал не марафон, а всё расстояние между мирами, не переводя дух. Через пару минут, собрав остатки сил, он перекатился на спину. Его грудь всё ещё вздымалась в хаотичном, жадном хватании воздуха, словно у рыбы, выброшенной на берег. Он лежал на холодном камне, раскинув руки, и смотрел вверх. А там, вместо неба, медленно плыла спиральная галактика, заливая его бледное, испуганное лицо холодным, безразличным сиянием.
Отдышавшись, он с трудом поднялся на ноги и, тяжело опираясь на дрожащие колени, пошатываясь, побрёл в сторону Дома. На поясе, рядом с пустым ножнами, беспомощно болтался обломок меча – лишь рукоять и короткий, обломанный край лезвия, уродливый свидетель недавнего боя. Весь недолгий путь до Дома он шёл, запрокинув голову, с немым удивлением в глазах, оглядывая Вселенную, что кружила вокруг, сияя немыслимыми красками туманностей и хороводами галактик. Голова шла кругом от этого величия. «Что это за место? Где я?» – лихорадочно недоумевал путник, и в его душе боролись страх и надежда. Внезапно он вскрикнул и схватился за левое предплечье. Его лицо исказила гримаса острой, жгучей боли, будто изнутри его прожигал раскалённый клинок. Ноги вновь подкосились, и он грузно рухнул на колени, сжавшись в комок и пытаясь переждать спазм. Отдышавшись, он кое-как, почти на четвереньках, дополз до самых Врат Дома. Массивные дубовые створки, навеки вросшие между двумя исполинами, были закрыты. И на их тёмной, испещрённой годовыми кольцами поверхности, будто выросшие из самой древесины, светились таинственным мягким светом вырезанные строки. Они не двусмысленно, как закон мироздания, гласили об оплате за вход:
«Однажды двери, скрытые от многих
Срастаясь кронами деревьев по бокам
Под взглядом сил могущественных, строгих
Откроются уставшим ходокам
И каждый кто заплатит звонкою монетой
Найдет ночлег, возможность отдохнуть
И путеводною звездой, заветной
Ему за это озариться дальний путь»
Стиснув зубы от новой волны боли в предплечье, путник расстегнул правой, ещё послушной рукой, кошель на поясе. Пальцы дрожали, когда он, с трудом поймав одну-единственную серебряную монету, вытащил её. Две другие выскользнули и, звякнув, упали в сплетение узловатых корней, что образовывали дорогу пред вратами, и покатились куда-то в звёздную пустоту, теряясь в сиянии далёкой туманности. Левая рука путника по-прежнему висела плетью, мёртвым грузом, и было видно, что она не слушается своего хозяина, живя своей собственной, тёмной и болезненной жизнью. Монетка, приложенная к древесине, будто растаяла, войдя в створы без единой помехи, как капля воды впитывается в сухую землю. Дом принял плату. С глухим, веским скрипом, полным древней силы, дубовые створы медленно и величественно разошлись, уступая путнику проход. За ними открылся вид на огромный внутренний двор, залитый неестественным, но уютным светом, источник которого было не найти. Воздух пах дымом, сеном и чем-то неуловимо чужим. Прямо перед ним, у конюшни, стояло несколько лошадей разных мастей, мирно жевавших овёс. Поодаль виднелись две кареты – одна простая, дорожная, вторая – с гербами, чьи символы были незнакомы. А ещё правее, прислонившись к частоколу, замерла невиданная машина. Цельная, словно вылитая из металла и стекла, на четырёх чёрных колесах, она поблёскивала в отблесках света от проносящейся по звёздному небу двойной звезды, выглядевшей здесь как причудливая игрушка. Он вошел, и тяжёлые ворота с тем же неторопливым скрипом начали закрываться за его спиной, отсекая внешнюю вселенную. Ощупав левую руку – всё ту же безжизненную плеть, висящую вдоль тела, – путник заковылял к дому. Его путь лежал мимо каменного колодца в центре двора. У его среза сидела пожилая, но прямая как прут женщина. Её лицо было испещрено сетью мелких, старых шрамов, словно её когда-то иссекли тысячи крошечных клинков. Она неспешно пила воду из деревянного ковша, но её взгляд – спокойный, внимательный и пронзительно острый – был прикован к нему. Она не произнесла ни слова, не кивнула, не подала и вида, что заметила его истощённый вид и бесполезно висящую руку. Она просто наблюдала, с холодной ясностью хищной птицы, пока он, чувствуя этот взгляд на своей спине, добирался до широких ступеней крыльца и тяжёлой двери в Дом.
Войдя в Дом, путник словно пересёк незримый барьер. Сразу за порогом его встретила огромная гостевая, уютная и шумная, как сердце всего мироздания. В дальнем конце пылал камин таких исполинских размеров, что в его огненном чреве и впрямь можно было бы зажарить целого быка. Жар от него был живым и осязаемым, он обволакивал, как тёплое одеяло, прогоняя космический холод, что цеплялся к одеждам путника. Посреди зала стояли два массивных, грубо строганых стола с толстыми, будто корневища деревьев, резными ножками. Вокруг них теснилось множество простых, но добротных стульев. Полукругом перед камином, в самом почётном месте, выстроились три широких дивана, обитых потертой, но мягкой кожей. Перед ними стояла высокая кованая решётка, оберегавшая от излишнего жара. И на этой решётке было выковано добродушное, улыбающееся лицо седобородого старика. Создавалось полное впечатление, что это сам Дом, этот невидимый хозяин, наблюдает за своими гостями, согревая их и этим пламенем, и своим вниманием. И звуки… Едва он переступил порог, целая лавина звуков и запахов обрушилась на него, оглушая после звёздной тишины двора. Весёлый, раскатистый смех доносился от окна, где двое людей, откинувшись на спинки стульев, о чём-то оживлённо беседовали. Чарующие, пронзительные звуки скрипки плыли от камина – там, сидя на простом табурете с краю, скрипач, закрыв глаза, полностью отдавался нежной и грустной мелодии. Три женщины, расположившиеся на ближайшем диване, молча слушали его волшебную игру. Воздух был густ и вкусен – в нём витал аппетитный аромат свежей снеди, чего-то томящегося в печи, сдобренный дымом и… чем-то ещё, неуловимо чужим, пряным. Путник пошатнулся, сморщившись от внезапной боли в предплечье, и прислонился к дверному косяку, пытаясь удержать равновесие. И в этот миг все взоры в комнате обратились к нему. Смех у окна резко оборвался. Скрипка на мгновение дрогнула, но скрипач, не открывая глаз, не прервал свою мелодию, лишь она стала тише, превратившись в тревожный фон. Три женщины, сидевшие у камина, поспешно поднялись и подбежали к вошедшему.
– Вам помощь нужна? – тихо спросила одна, с тёмными, серьёзными глазами.
Они, не дожидаясь ответа, аккуратно взяли его под руки и помогли добрести до дивана, усадив на мягкую кожу.
– Евгения, – распорядилась та же женщина, – принеси, будь добра, воды и полотенце.
Девушка с огненно-рыжими, непослушными волосами, собранными в пучок, коротко кивнула и поспешила в дальний угол гостевой к массивной двери, за которой судя по всему, располагалась небольшая подсобка или даже ванная комната. Женщины, действуя слаженно, как опытные целительницы, в четыре руки ловко расстегнули ворот его рубахи, сняли с него потёртый камзол, бережно придерживая бесполезную левую руку. На рукаве рубахи, в районе предплечья, ткань была порвана, а её края обуглены, будто по ней прошёлся раскалённый нож. Путник закрыл глаза, с облегчением осознавая, что находится в умелых и добрых руках, позволив им о себе заботиться. Они закатали рукав рубашки до самого плеча – и замерли. На мгновение в их глазах читался неподдельный шок, сменившийся жгучим любопытством. Вся левая рука путника от запястья до локтя была… каменной. Это была не аллегория, не похожая на камень кожа, а самая настоящая горная порода. Не гладкий, полированный мрамор, а грубый, испещрённый сотнями мелких прожилок и щербинок камень, холодный и неживой на ощупь. Рука была неестественно тяжела, с усилием женщины уложили её на мягкий подлокотник дивана. Он открыл глаза, поймав на себе их изумлённые взгляды.