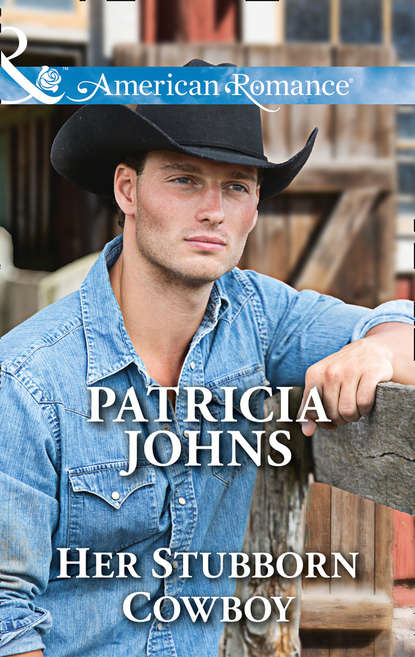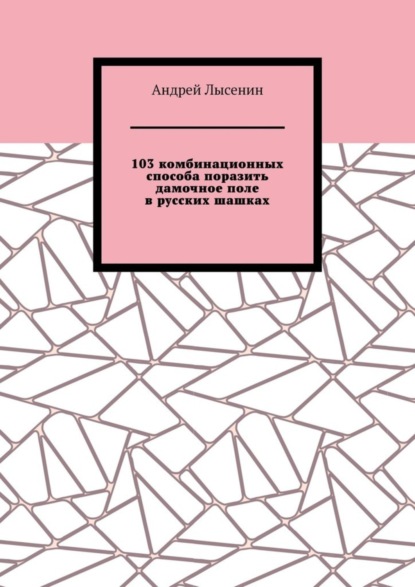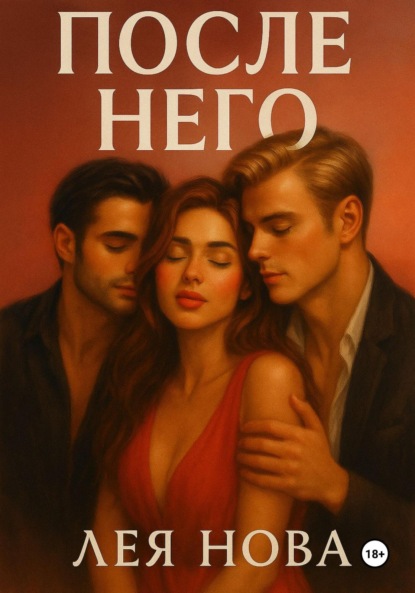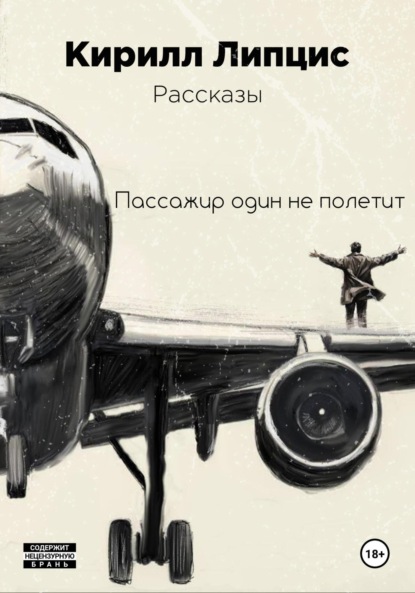Сто выездов за «Волгарь»
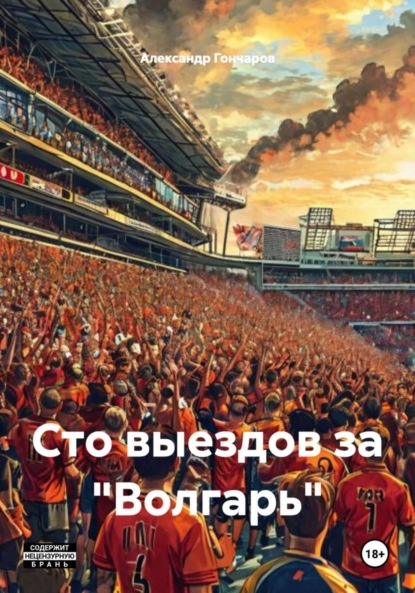
- -
- 100%
- +
Но летом 1992 года мы с Сабом под руководством моей бабушки открыли для себя новое направление – Ленинград. К тому времени он уже вернул своё историческое название – Санкт-Петербург, бабушка же при покупке билетов вообще назвала его Петроградом. Табличка на вагоне поезда гласила «Астрахань – Ленинград», в стране был тотальный хаос, развал и инфляция. Мне же тем временем осталось учиться всего один год в школе, и первый раз мы направились в Северную столицу. Примечательным было то, что мы с Сабом сами разрабатывали и осуществляли осмотр достопримечательностей, оставив бабуле возможность общения с родственницей. Лишь в Петродворец она съездила вместе с нами. Родственница интриговала нас на Эрмитаж, но мы не покупались. В таком возрасте несколько иные интересы. Например, на Финляндском вокзале мы встречали финский поезд из Хельсинки. Во время его прибытия звучал финский гимн и из вагонов выходили сытые довольные интуристы. Но основные достопримечательности, конечно, мы посетили. А что не было осмотрено летом, осмотрели зимой через полгода, приехав уже с Сабушкой вдвоём.
Вот так вот, потихонечку, время тикало, и моё обучение в школе подошло к концу. После получения аттестата о среднем образовании последовал разговор с отцом, который настоятельно рекомендовал мне поступать в институт. Причём в любой. Напомню, ни мать, ни отец не получили высшего образования. По молодости, по глупости, движимый протестным духом, я упёрся рогом и сказал, что хочу учиться в ВТЖТ – Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта на специалиста по ремонту вагонов и обслуживанию подвижного состава. Причём, заочно.
Отец сдался, и вот я уже студент третьего курса ВТЖТ (на заочном отделении всего их было шесть). Три сессии по две недели за учебный год – вот и всё обучение. Для перехода на следующий курс нужно было выполнить рад контрольных работ и сдать несколько зачётов и экзаменов. Расскажу лишь самые яркие впечатления от пребывания в стенах этого славного учебного заведения.
На первом занятии по математике преподаватель почтенного возраста, окинув взором аудиторию, в которой среди загорелых путейцев и слегка отёкших от вечерней пьянки в общаге тепловозников и вагонников разных возрастов (от 25 до бесконечности), затесался 17-летний я, выпускник школы, а по-простому, школота, и нарисовал на доске загадочные буквы:
LOG28=?
И, ехидно улыбаясь, сел на место, призывно приглашая к доске железнодорожников решить оную задачу. Прошло секунд двадцать, никто не отзывался, математик уже победоносно поднял вверх вытянутый палец, как с места на галёрке сорвался я, вихрем долетел до доски, написал мелом = 3 и быстро пошёл на своё место.
– Эй, молодой человек, а решение кто нам растолкует? – молвил гуру.
– А что там решать, два в кубе – восемь!
– Откуда сам?
– Из Астрахани.
– Поднимите руки, кто ещё из Астрахани.
Руки подняло ещё 4 человека.
– Всем вам зачёт!
Эти четыре астраханца стали моими друзьями и вечером учили меня разводить спирт Royal в правильной пропорции и последовательности (практика по химии, так сказать). Пакетик сока Yupi ядовито-красного цвета также присутствовал, всё по классике 90-х. В апофеозе вечеринки кто-то вышел в окно с третьего этажа и даже не ушибся. Утром ходили смотреть след от тела, промявшего траву и культурный слой почвы.
В ВТЖТ был преподаватель, я не стану раскрывать его персональных данных. Он имел коллекцию всех вариантов контрольных работ по всем предметам, преподаваемым в техникуме, и продавал их богатым железнодорожникам. Пришёл к нам в общагу ушлый путеец из Эльтона и, гордо размахивая остатками денежных средств, начал считать, загибая пухлые пальцы: «так, математику купил, экономику купил, техническую механику купил…». Как не на сессию, а в магазин заявился.
Но я всё делал сам. Некоторые затруднения вызвала у меня контрольная работа по технической механике, в которой я напрочь запутался, в какую сторону скручиваются балки, потому что делал её до лекции преподавателя. В конце занятия самый серьёзный препод техникума сравнил две работы – купленную и мою. Купленную работу он не пропустил и поставил «неуд», а моя была вся красная от его исправлений ручкой, но была зачтена с оценкой «4». Но самым эпичным событием первого года обучения, да и всего его периода, явилось то, что я умудрился сдать экзамен по технической механике на «отлично». Когда я принёс зачётку в заочное отделение, то услышал протяжное «чееееего?» от методистки. Она поведала, что ранее никто и никогда в этом техникуме не сдавал этому преподавателю на оценку выше «4» и даже своему сыну он поставил трояк. Вот так, с распёртой от гордости мордой и побитым рекордом, я перешёл на четвёртый курс ВТЖТ.
Поубавилось бравады у меня после летнего вызова в военкомат, где мне непрозрачно намекнули, что ждут и никак не могут дождаться моего восемнадцатилетия. «Папа был прав!» – так ведь поётся в припеве одной известной песни известной группы. Отец ликовал и горел желанием раскошелиться на подготовку к моему поступлению в институт.
Но нет. Опять я решил всё по-своему. Финансовые потоки были направлены в автошколу на организацию моего обучения управлению автомобилем, а готовиться к поступлению в ВУЗ я предпочёл самостоятельно. Проще говоря, забил на это – ведь я же «звезда» заочного отделения ВТЖТ. Что ж я, не смогу сдать какой-то вступительный экзамен…
В качестве ВУЗа мною был выбран Астраханский государственный технический университет из-за слова «технический» в названии. Придя с довольной рожей посмотреть результаты первого экзамена, по физике, я заметил напротив своей фамилии оценку «3». Хорошо, что из пяти – подумал я и ушёл домой уже с грустным ликом. Математику я провалил аналогично, и лишь на сочинении по русскому языку получил оценку «хорошо». Оказывается, на подготовительных курсах учили, что нельзя делать пометки в экзаменационных листах, не относящиеся к твоему заданию. А я по доброте душевной писал там формулы для подсказки моим соседям в экзаменационной аудитории. И за каждую такую шалость мне снижали балл. В итоге, набрав самую низкую проходную оценку, я запрыгнул в последний вагон поезда, уходящего за высшим образованием, в группу ММ-13, с целью учиться по специальности «Механизация перегрузочных работ». Это про подъёмные краны и прочие грузоподъёмные механизмы. Ничего страшного, подумал я, зато я учусь в автошколе.
Справка о моём поступлении в ВУЗ ушла в военкомат, мне стукнуло 18, и наступил суровый период обучения в трёх местах одновременно – АГТУ, ВТЖТ и автошколе. Первая сессия в ВТЖТ выпала на первых две недели сентября и я, прогуляв всё это время в АГТУ, упустил все основные знания, которыми пичкали бедных студентов 1 курса – матрицы по высшей математике и эпюры по начертательной геометрии. Заявившись первый раз на лекцию в АГТУ, я понял, какая пропасть существует между ВУЗом и техникумом / школой и приуныл.
Началась первая чеченская война, приближалась первая сдача экзаменов, она же зимняя сессия, в АГТУ. Отношение преподавателей по двум основным предметам ко всему происходящему было диаметрально разное. И, если Герман Львович Полыновский открыто заявлял: «девушки – готовьтесь к экзамену лучше – юноши у меня не получат оценку ниже тройки, потому что я не хочу нести ответственность за то, что они, не сдав мне, теоретически могут оказаться на войне и, что ещё страшнее, погибнуть», то Виктор Михайлович Дорохов проговаривал на каждом занятии «вот, не сдадите мне экзамен и пойдёте в Чечню…». Как-то раз перед занятием мы написали ему мелом во всю доску жирнющим шрифтом «Хочу в Чечню!». Он пришёл, молча медленно стёр все вышенаписанное и задержал нас на перерыв, ровно на то же время, которое он затратил на стирательные работы. И, я был бы не я, если б не вляпался на его лекции в неприятность: что-то обсуждал с соседом по парте. Михалыч спалил нас, подошёл именно ко мне и сказал фразу: «не интересно? Посмотрим, будет ли мне интересен Ваш ответ на экзамене» или что-то около того. Запомните этот момент.
В ноябре 1994 года я получил водительское удостоверение, причём гаишник, принимавший у меня экзамен, был слегка нетрезв, а я забыл пристегнуть ремень безопасности, но он этого не заметил. Но «права» мои оказались чистой формальностью: отец доверять мне руль не спешил.
Началась зимняя сессия в АГТУ, состоящая из четырёх экзаменов и я из кожи вон лез, чтобы получить пятёрку, но каждый раз чего-то не хватало. Три четвёрки за первые три экзамена и вот я уже в кабинете у Дорохова. План был такой: нужно было решить пример – взять производную функции и тебя допускают до экзамена, далее берёшь билет, в нём два теоретических вопроса и практическая задача. Производная взялась играючи. Ответы на два вопроса я знал идеально, а вот с задачей не справился. Сидел и тупил. Возможно, я пропустил это занятие, когда ездил в ВТЖТ, возможно, просто переволновался. Дорохов вызвал меня отвечать и убил выстрелом в сердце: «что ж, давайте начнём с задачи…». До теоретических вопросов ход так и не дошёл, как я не старался убедить гуру, что их знаю.
Вы когда-нибудь получали «2» на экзамене? Я – да.
Выйдя из кабинета и отмахнувшись от одногруппников, я пошёл к бабушке пешком. Мне кажется, это был Татьянин день или что-то около того. Было холодно, дул мерзкий ветер, но мне было всё равно. Прокручивая снова и снова в голове всё то, что сейчас произошло, я никак не мог в это поверить. Да, звезда ВТЖТ по совместительству жидко обделалась в АГТУ! А ведь мы уже наметили с группой, где будем отмечать окончание первой сессии. Впрочем, группа, наверняка, прекрасно отметила это памятное событие и без меня.
На этом мои злоключения не закончились. Когда я пришёл через день узнавать свою судьбу, выяснилось, что Дорохов уехал в отпуск, назначив свою подмастерью – старшего преподавателя – принимающим пересдачу. Я собрал всю силу воли в кулак и направил её на изучение азов высшей математики, не поверив, что раз Дорохов уехал, то и сдать получится теперь легче пареной репы. Прошло три дня, и я заявился на пересдачу.
Производная в этот раз была трёхэтажной, с логарифмами и кучей скобок. Я пыхтел, но принял этот переданный привет-вызов от Дорохова с честью. Мне дали билет. Другой, там была другая задача, и это был уже совсем другой коленкор. Я её решил! Говорить, что теоретические вопросы отлетали из моих уст, как будто бы я проглотил учебник, вряд ли нужно. Ответив на гору дополнительных вопросов от страшного преподавателя, я получил свою заслуженную оценку. Удовлетворительно. Теперь можно было позвать Саба и выпить с ним по бутылочке пивка.
Впрочем, на первом курсе АГТУ мне так и не удалось получить пятёрку на экзамене. Летнюю сессию я успешно сдал на все четвёрки, в том числе и Дорохову. Поздравьте меня – я студент второго курса АГТУ и пятого курса ВТЖТ.
Как-то, набравшись смелости, я испросил у отца машину, и он написал мне доверенность. Поехали с Сабом на рыбалку. Едва выехали за город, настроение рыбачить резко сменилось на настроение кататься. Катались, катались, катались весь день по каким-то сёлам, даже в Красный Яр зачем-то попёрлись через паром. Это называется – дорваться до автомобиля. Хорошо, что не забыли дозаправить бак и купить рыбы на Татар-базаре.
Осенью 1995 года отец сдружился с очередным рыболовом/охотником/грибником/спортсменом/алкоголиком Сергеем из поселка Досанг и часто стал там пропадать, привозя то мясо, то рыбу, то грибы, то просто нетрезвого себя. Я же решал очередную проблему, возникшую в АГТУ: на военной кафедре, где началось моё обучение на офицера запаса, на втором курсе, резко осудили два моих прогула занятий (два полных учебных дня) по причине поездки на сессию в ВТЖТ. Мало того, что я после занятий по основной теме зависал в библиотеке военной кафедры, так ещё и зачёт сдавал за каждую прогулянную тему. Вдобавок к этому однажды, ноябрьским вечером воскресенья явился помятый отец и декламирует, что они с Сергеем перевернулись на машине, возвращаясь в Досанг с охоты. Был дождь, оба были, скорее всего, нетрезвы, наехали на глиняную обочину и привет-кювет, но самое страшное, что машина была Сергея, а за рулём находился отец. Это был финиш. Мало того, что наутро отец слёг в больницу со сломанной ключицей, так ещё и на восстановление «Волги» Сергея ушёл тот самый великолепный каменный обкомовский гараж…
Отец исцелился. Машину восстановили. На остатки денег от продажи гаража купили телевизор Sharp и видеомагнитофон Sharp. Это из хорошего.
У нас более не было гаража. Я не поехал на зимнюю сессию в ВТЖТ, так как отец был в это время в больнице, и решил в связи с этим не продолжать своё триумфальное обучение в этом альма-матер в виду бесперспективности этой затеи. Конечно, я бы наверстал упущенную сессию в ВТЖТ, но на весах диплом АГТУ с военной кафедрой перевесил диплом ВТЖТ. Это из плохого. Хотя, всё, что ни делается, – всё к лучшему.
Зато я получил свою первую «пятёрку» на экзамене в АГТУ. Обучение захватило меня, закрутило и понесло – начиная с третьего курса ни одной четвёрки, только «отлично»! Появились деньги. Сначала это были повышенные стипендии. Затем прибыль от черчения чертежей на листах формата A1 своим коллегам-одногруппникам, реже – младшекурсникам. Студент был зачастую ленив и откровенно туповат, но богат, а мне только это и было нужно. Жизнь налаживалась, и я забыл и про гараж, и про ВТЖТ… И про «Волгарь» не вспоминал, животное.
Меж тем в «Волгаре» происходили большие перемены: с 1995 года он стал именоваться «Волгарь-Газпром», его возглавил непростой человек с фамилией Банк. Пётр Сергеевич, но что-то мне подсказывало, что Пётр он только по паспорту, а Сергеевич такой же, как я балерина. За Банком, как в банк, в «Волгарь» потянулись финансовые потоки газпромовских рублей, и была поставлена задача выхода в первую лигу российского футбола.
Но каждый раз танцору что-то мешало. В 1995-м ижевский «Газовик-Газпром» и раменский «Сатурн», в 1996-м липецкий «Металлург» и махачкалинский «Анжи», в 1997-м – тульский «Арсенал». Существенно изменилась ситуация и возникли предпосылки к решению обозначенной задачи лишь в 1998-м.
Во-первых, в 1998 году первую лигу переименовали в первый дивизион и расширили количество участников вдвое – три территориальных зоны преобразовали в шесть. Во-вторых, «Волгарь» в своей зоне «Юг» практически не получил конкурентов, лишь «Ангушт» из Назрани был записан к нам в качестве топ-соперника. В-третьих, второй год подряд «Волгарь» тренировал Энвер Юлгушов, экс-тренер «Ростсельмаша». Ну и в четвёртых, но не в последнюю очередь, президентом клуба был избран Геннадий Александрович Горбунов, последний первый секретарь обкома КПСС Астраханской области, в то время руководивший одним из территориальных органов исполнительной власти, где и трудился, по странному совпадению, мой отец. Возил Геннадия Александровича. Это в-пятых. Шутка. Особо следует отметить и тёплое отношение к «Волгарю» губернатора области Анатолия Петровича Гужвина.
Президентство отцовского шефа в футбольном клубе подразумевало определенные представительские функции, причём представительство это не ограничивалось домашними матчами. Отец всю эту новизну прочувствовал на своей пятой точке и глазах: они с напарником возили шефа на выездные игры «Волгаря» и назад, соответственно, возвращались сразу после их окончания, то бишь ночью. Зато сколько историй он привозил с собой и за пивасом рассказывал мне по вечерам! Вот лишь некоторые из них.
На старте «Волгарь-Газпром» пробуксовал в Нарткале, не сумев обыграть местный «Нарт», на поле, больше похожем на картофельное. Шефа с отцом накормили шашлычком, чересчур сдобренным жгучими специями. «Он горел у меня два раза – на входе и на выходе» – заявил отец. В Ростове «Ростсельмаш-2» зачем-то поставил в состав несколько игроков из основы, играющей в высшем дивизионе, и упёрся рогом; несмотря на полностью выполненные представительские функции, счёт на табло по итогу был 1:1. Шеф был в ярости. Да ещё и на обратном пути в Калмыкии отца за рулём «Мерса» пытался остановить калмык-Гаишник. Ему, видите ли, не понравилась скорость, с которой шеф возвращался домой – 120/130 в населённом пункте. Подумав долю секунды, отец нажал на педаль газа. Калмык бросился к своим «Жигулям» с целью погони, но это выглядело весьма смешно. Шеф молвил, зевнув: «ведь по колёсам стрелять будут!». Отец парировал: «когда он заведёт и разгонит своё корыто, мы уже будем в Астраханской области». Армавир, Гулькевичи, Моздок, Прохладный, Лермонтов, Черкесск – всё это мелькало перед глазами родителя, как бесконечная киноплёнка с посредственным фильмом в кинопроекторе. Эдакая футбольная «Санта-Барбара». Однажды под утро отец заявился с очередного матча небритый, с красными глазами и резюмировал: «как же он за**ал своим футболом!»…
А я продолжал штамповать пятёрки в АГТУ, подтверждая истину, что сначала студент работает на зачётку, а затем – зачётка на студента. На меня зачётка заработала в середине третьего курса. На экзамене по экономике была применена форма теста, который я написал на «2». Отмотав мою зачётку назад и лицезрев пятёрки, профессор задал мне три дополнительных вопроса, и за каждый правильный ответ повышал балл. Я ответил на всё и получил «отлично», тем самым подтвердив несовершенство системы контроля знаний посредством тестов.
Сдав очередную сессию и перейдя на пятый курс, я возобновил посещение домашних матчей «Волгаря», во-первых, подобралась компания среди одногруппников, а во-вторых, «Волгарь» штамповал победу за победой, показывая при этом красивый футбол. И, начиная с 15.07.1998, с матча с «Шахтёром» из Шахт, моё присутствие на домашних матчах стало регулярным. Ну, до финала этой книги уж точно.
На следующий день после моего 22-го дня рождения «Волгарь» принимал «Торпедо» из Армавира. Говорят, они играли без замен, а у их вратаря был сломан палец, но это всё отговорки в пользу бедных. Это был исторический матч, и он завершился нашей победой со счётом 12:0, по 6 голов влетело в ворота соперника в каждом из таймов. Эпичности добавил тот факт, что Андраник Бабаян, выйдя на замену во втором тайме, забил 4 мяча. Очень рад, что непосредственно наблюдал за этим событием с трибун.
На трибунах я стал замечать молодых людей с явно кустарно изготовленным флагом «Волгарь – чемпион!», закреплённым на обыкновенную удочку, смотрелись они чудно и подвергались обструкции со стороны зрителей, сидевших на верхних рядах относительно флагоносцев. «Эй, свали отсюда, здесь рыбы нет!» – эффектно шутил один нетрезвый стадионный персонаж. Но ребята не сваливали. Это были зачаточные явления организованной поддержки нашего футбольного клуба, которым ещё нужно было около 9 месяцев, чтобы родиться на свет…
«Волгарь-Газпром»-1998 – это была машина, громящая соперников в пух и прах, направо и налево, дома и на выезде за очень редким исключением. Из сорока проведенных матчей только три поражения (все в гостях) и пять ничьих. Естественно и закономерно, что за несколько туров, а именно за четыре до окончания первенства, 16.10.1998, выиграв в очередном домашнем сражении у «Бештау» из города Лермонтов 5:2, «Волгарь» досрочно выиграл и весь турнир, решив задачу выхода в первый дивизион-1999 впервые за долгих 28 лет пребывания в низших лигах советского и российского футбола. Впереди Астрахань ждал футбольный бум и тогда я и предполагать не мог, что стану его непосредственной частью.
А пока что 3 ноября 1998 года мы с одногруппниками пришли на заключительный матч сезона. Соперник был разгромлен 4:0, хотя результат ни на что уже не влиял. Шёл дождь. Люди пришли поздравить «Волгарь» с выходом в первую лигу, бесплатный вход, театрализованное спортивное представление, почётный круг команды и овации! Вот так красиво футбольная Астрахань шагнула первый раз в российской истории в первую футбольную лигу.
Отец мой тоже был рад, но у него были на то сугубо свои причины: не нужно больше будет ездить по ночам с шефом, ведь в первой лиге совсем иные расстояния, которые, в основном, будут преодолеваться с помощью самолёта. И без него.
А пока что я не менее триумфально, чем «Волгарь», сдал свою последнюю сессию в АГТУ и получил задание на дипломный проект. Тут мне несказанно повезло: мой дипломный руководитель, профессор, был зажат в тиски ректором: ректорской дочери требовалась какая-нибудь научная работа для получения учёной степени или учёного звания. Профессор сделал мне предложение, от которого сложно было отказаться: сделать эту работу для дочки ректора совместно со мной, его головой, но моими руками, от ректорши же был ангажировано современное чудо техники – ноутбук. И выдать её за мой дипломный проект. Темой проекта был анализ повреждений портального крана при его угоне ураганным ветром и ударе о тупиковые упоры. Так себе история. Пока я чертил кран в разных видах и позах на 10 листах формата A1, а отец прикалывал меня: «тебя не за**али ещё краники?», профессор думал над проектом.
Мы разбили кран на 150 точек, ввели их координаты в пространстве в программу на ноутбуке, задали ещё кучу исходных данных, пришла дочка ректора и мы нажали Enter. В результате кран у нас скрутило, и он упал, а программа зависла и дала сбой.
Профессор не растерялся. Знаете, что он предложил? Никогда не догадаетесь. Давайте, говорит, уберём половину точек. Мы убрали и – о чудо – программа выдала правильный итог. Если у вас что-то не получается – не бейтесь в одну точку, зайдите с другого входа и у вас всё получится.
Диплом мой был практически готов.
Футбольный сезон-1999 также близился к своему старту. 1 апреля 1999 года, четверг, это исторический был день для астраханского спорта. Погода была отвратительна: дул сильный ветер с песочком. Над проезжей частью площади Ленина на растяжках висел баннер, приглашающий на открытие сезона в первом дивизионе. Я ехал на стадион в предвкушении праздника и, конечно же, продолжения голевой и победной феерии прошлого года от «Волгаря-Газпрома». Таких же, как и я, на стадионе набралось в тот день аж 17 тысяч. Соперником «Волгаря» числился липецкий «Металлург». Однако не всё так просто оказалось в первом дивизионе, как было во втором. «Волгарь» давил, старался, но соперник был явно выше классом всех тех наших гостей, которых мы наблюдали на нашем стадионе в прошлом году. На 57 минуте Липецк забивает нам нелогичный гол и отходит в оборону, доводя матч до победы.
Мы с друзьями размещались, по сложившейся по прошлому сезону традиции, в секторе № 3. Аккурат напротив нас мы увидели нечто, потрясшее наше воображение. В толпе местных зрителей красно-чёрным пятном выделялся транспарант, лежащий прямо на лавках, на котором красивым белым шрифтом было начертано «RED-BLACK PLAGUE ULTRAS». Сверху прямо над этим флагом стояла горстка ребят, не более 10 человек. Они скандировали какие-то речёвки, которые было не слышно, а во втором тайме какое-то время стояли с оголёнными торсами. Это были фанаты липецкого «Металлурга», приехавшие на выездной матч в Астрахань. Это сейчас просто написать, но не просто было осознать в тот день. Мои друзья начали глумиться над словом ULTRAS, типа, вот приехали рекламировать женские прокладки. В то время по ящику было очень много рекламы, в том числе и женских прокладок, название которых зачастую заканчивалось словом «ultra». Я шутку не оценил. Меня живо начало интересовать, что же скандируют ребята, и зачем они это делают.
Матч закончился поражением «Волгаря», но произвёл неизгладимое впечатление, не побоюсь этих слов, на всех астраханцев, которые посетили стадион тем вечером.
В первом дивизионе-99 было 22 команды, система розыгрыша турнира напоминала прошлогоднюю: спаренные домашние матчи через два дня на третий, затем недельный перерыв и выездная сессия из двух матчей с таким же промежутком по времени между ними. С одним лишь отличием: если в сезоне-98 у «Волгаря» не было пары, то в текущем сезоне в пару нам отрядили махачкалинский клуб «Анжи», ставящий высокие задачи, что было нам совсем не на руку. Все наши соперники, настраиваясь на игру с нашей парой, рассчитывали взять очки именно у «Волгаря-Газпрома», а с «Анжи» сыграть, как получится. Особенно в Махачкале. Вот и у нашего следующего соперника, воронежского «Факела», в Махачкале не получилось, проиграли 0:1.
4 апреля, в воскресенье, «Факел» пожаловал уже к нам в гости. Зрителей пришло ещё больше, 18 тысяч. На восточной трибуне, которая располагается на солнечной стороне, образовались проплешины от нежелающих смотреть матч против солнца, и именно туда внедрились фанаты команды из столицы Черноземья. Их было много больше, чем липчан, а перед центральным павильоном стоял на стоянке их автобус (непростительная оплошность, но об этом позже). Они также украсили занимаемое собой пространство флагами и транспарантами, из которых я бы выделил два: один в форме флага Великобритании с надписью «ФАКЕЛ», второй представлял собой весёлую языковую коллаборацию – «FUCKЕЛ». На этот раз я с друзьями переместился поближе к приезжим с целью послушать их «репертуар». Сказать, что мне зашло, понравилось и зажгло что-то глубоко внутри – ничего не сказать. Но больше всего я поражался смелости этих ребят. В те времена сектор для гостей на стадионе, во всяком случае, в Астрахани, никак не был выделен и обозначен, и приезжие размещались, где попало. Да и количество сотрудников правопорядка, контролирующих поведение местных подвыпивших элементов в отношении этих ребят, было ничтожно мало, если вообще было.