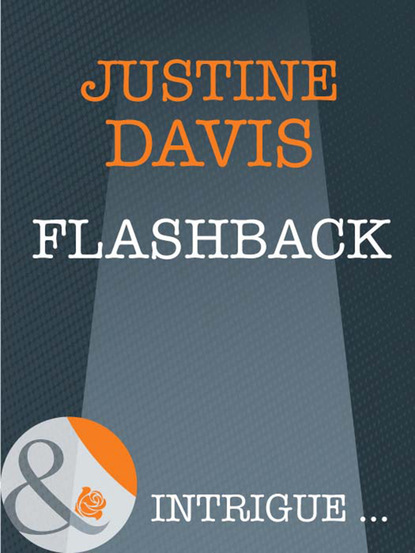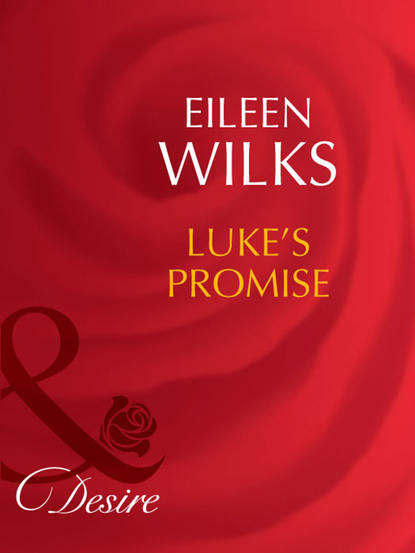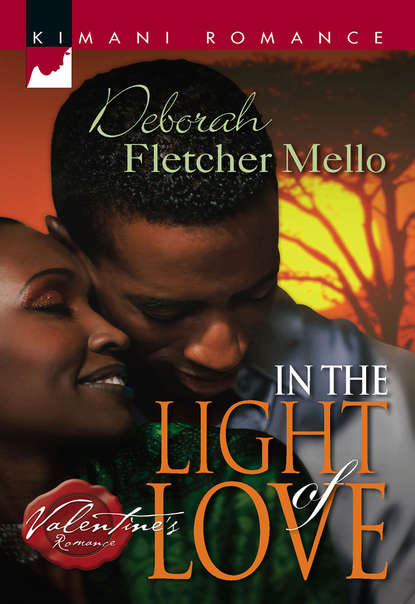Фольклор и литература бурят о присоединении к России: исследование исторической памяти

- -
- 100%
- +

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
А. В. Исаков
ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА БУРЯТ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Ответственный редактор
д. филол. н. Л. С. Дампилова
Рецензенты
д. филол. н. З. А. Серебрякова
д. филол. н. Б.-Х. Б. Цыбикова
к. филол. н. С. В. Абысова
Работа выполнена в рамках государственного задания (проекты № 121031000259-6 «Этнокультурная идентичность в архитектонике фольклорных и литературных текстов народов Байкальского региона», № 125091010220-3 «Россия, Монголия и Китай: исторический опыт трансграничного взаимодействия, экономические приоритеты и социокультурные коммуникации»).
ВВЕДЕНИЕ
Вхождение предков бурят в состав России стало, безусловно, важнейшим событием национальной истории. Более того – как показывает объективный взгляд на процесс этногенеза бурят, присоединение к России стало ключевым фактором сложения бурятской нации в её современном виде [Бурятская этничность 2003; Буряты в этнополитическом пространстве 2017; Павлинская 2008]. Не удивительно, что это событие на протяжении последних трёх веков является настоящим «местом памяти»1 в бурятской культуре. Различные его интерпретации безусловно признают значимость и судьбоносную роль присоединения к России в истории бурят, но в то же время полемизируют относительно деталей, сущности и последствий данного события.
В этой работе мы рассмотрим историческую память о присоединении к России, воплощённую в текстах бурятского фольклора и их литературных интерпретациях. Мы проследим, как формировалась историческая память о присоединении к России в фольклоре бурят и как эти устные традиции отразились в литературных произведениях, посвящённых национальному прошлому. Сразу отметим, что в данном исследовании мы не ставим задачу установить соотношение тех или иных текстов с реальными историческими фактами и оценить степень их достоверности. Нас будут интересовать в первую очередь закономерности формирования представлений о прошлом в фольклоре и их трансформации в литературном творчестве.
При том, что две части нашего исследования обладают достаточной самостоятельностью, они всё же тесно связаны друг с другом и требуют соединения в одной работе. Само собой разумеется, что для изучения фольклорной составляющей в произведениях бурятской литературы о присоединении к России необходимо сначала установить, как это событие представлено в фольклорных текстах, послуживших основой для авторских интерпретаций. Но и исследование фольклорной памяти о присоединении к России нам представляется неполным без обращения к литературным интерпретациям фольклора: ведь по мере угасания устной традиции и возрастания роли письменного текста фольклорная традиция переходит в литературное пространство, где зачастую становится одновременно и основой для авторского творчества, и предметом различных интерпретаций. В силу этого важно понять, каковы закономерности рецепции фольклорной исторической памяти в бурятской литературе и как литературные интерпретации фольклорных образов и сюжетов, посредством которых фольклор представлен в современном культурном пространстве, соотносятся с самой устной традицией.
Понятие «присоединение к России», которое вынесено в заглавие этой работы, достаточно широкое и может быть интерпретировано по-разному. В качестве момента «присоединения» можно трактовать и официальное признание определёнными группами бурят российского подданства, и установление контроля над определённой территорией, и проведение государственной границы. Мы сознательно используем такое широкое понятие и не конкретизируем его. Дело в том, что в реальности присоединение Бурятии к России было не дискретным событием, а продолжительным процессом, комплексным итогом которого стало установление контроля над территорией этнической Бурятии, признание российского подданства со стороны коренного населения этой территории и установление официальной границы между Российской империей и империей Цин [История Бурятии 2011а: 35–73]. В различных же фольклорных и литературных текстах этот процесс получает разную интерпретацию, и вхождение бурят в состав России может преподноситься как результат разных событий – как реальных, так и воображаемых. Поэтому в качестве обобщающего понятия мы будем использовать широкое и неконкретное выражение «присоединение к России», рассматривая различные конкретные его интерпретации, встречающиеся в бурятском фольклоре и литературе.
Таким образом, объектом нашего исследования выступают тексты бурятского фольклора и основанные на них литературные произведения. Предмет исследования – выраженные в данных текстах исторические представления о присоединении бурятского народа к России.
До сих пор не появилось ни одного монографического исследования, в котором бы рассматривался вопрос о том, как в бурятском фольклоре представлено присоединение к России. Однако этого вопроса всё же касались разные учёные, чьи интересы, как правило, были связаны с песенным и повествовательным фольклором бурят.
Впервые эта тема была затронута в работах исследователей XIX в. К. К. Стуков в своей статье «Взгляд на происхождение и переход в подданство России кочующих за Байкалом хоринско-агинских монголо-бурятов с кратким очерком вторжения и распространения между ними ламайской пропаганды, составленный на основании рукописных легенд, рассказов стариков, песен и кой-каких официальных бумаг» (1859) описал, как в фольклоре и рукописной традиции хори-бурят представлена история вхождения их народа в состав России. Он первым обратил внимание на устойчивый цикл преданий и песен, посвящённых уходу хоринцев из подданства монгольских ханов, переселению их в Забайкалье и принятию российского подданства. Сюда входят сюжеты о Бальжин-хатан, её ссоре с ханом Бубэй-Бэйлэ и последующей перекочёвке хори-бурят на север; о Бабжи-Барас-баторе и столкновениях с соседними народами; об обращении к российской власти с просьбой о принятии в подданство; о проведении российско-монгольской границы и последовавшей за этим гибели Шилдэй-занги, который хотел воссоединиться со своими сородичами, но был казнён за нарушение нового закона, согласно которому подданные двух империй не могли свободно пересекать установленную границу.
Спустя некоторое время к этому же фольклорному циклу обратился А. М. Позднеев в работе «Образцы народной литературы монгольских племён. Народные песни монголов» [Позднеев 1880: 185–209]. Главным образом он рассматривает песни, посвящённые событиям хоринской истории, но по необходимости привлекает и предания, поясняющие содержание этих песен. В книге А. М. Позднеева впервые рассматривается сюжет о походе хори-бурят к Петру I, о котором не говорится в статье К. К. Стукова.
В работах дореволюционных исследователей нашли отражение и фольклорные предания о присоединении к России других групп бурят. В статье К. К. Стукова «О происхождении северо-байкальских бурят вообще и тункинцев в особенности (по чисто народным легендарным преданиям)» (1881) приводятся предания тункинских и селенгинских бурят. Примечательно, что они совершенно по-разному изображают принятие российского подданства бурятами: тункинские буряты рассказывали о приходе страшных русских покорителей, в то время как в традиции селенгинских бурят говорилось, что они сами решили уйти из Монголии в подданство могущественного и милостивого «Белого царя». В историко-этнографическом очерке Я. С. Смолева [1900] о табангутах рассматривается их предание, где речь идёт о бегстве табангутов из Монголии, от неблагосклонного к ним хана, в страну русского царя, который принял их под своё покровительство.
Для перечисленных работ характерно рассмотрение фольклорных текстов в первую очередь как исторического источника. Их авторы обычно не разграничивали историческую реальность и её фольклорные интерпретации. Это объясняется в том числе «многопрофильностью» дореволюционных исследователей, которые одновременно стремились решать исторические, этнографические и филологические задачи. Они не ставили вопрос о специфике исторической памяти в бурятском фольклоре, и их работы представляют для нас интерес в первую очередь благодаря вошедшему в них фольклорному материалу.
Дальнейшее изучение бурятского фольклора о присоединении к России происходило уже в советский период и связано с деятельностью бурятских учёных-фольклористов. В первую очередь здесь необходимо отметить труды С. П. Балдаева. В 1940-е годы он пишет объёмную статью о бурятских исторических песнях, несколько вариантов которой сохранилось в его архиве [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 68. Л. 107–196. Д. 527]. Несмотря на большую работу, проделанную учёным, это исследование осталось не опубликованным (о его содержании см. подробнее: [Исаков 2023]). Среди рассмотренных им песен выделяются песни, связанные с эпохой присоединения к России – это уже известные из дореволюционных публикаций песни хори-бурят, а также песни о после Савве Рагузинском, руководившем установлением границы, и песни, приписываемые участникам бурятских восстаний против казаков. Позднее С. П. Балдаев напишет ещё две статьи, прямо посвящённые отражению в бурятском песенном фольклоре памяти об эпохе присоединения к России: «Патриотизм и дружба в исторических песнях бурят XVII–XVIII вв.» [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 530] и «Историко-патриотические песни западных бурят» (1961). В первой статье, также неопубликованной, речь идёт о хоринских песнях, связанных с походом к Петру I и установлением границы, а во второй – о песнях бурятских воинов-пограничников, участвовавших в охране российской границы. Некоторые замечания о бурятских преданиях, посвящённых присоединению к России, С. П. Балдаев делает в своей неопубликованной работе «Мифы, легенды и предания бурят» [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 337]. Здесь он отмечает наличие в фольклоре разных трактовок бурятско-российских отношений: в одних преданиях русские казаки выступают противниками бурят, а в других (например, о Савве Рагузинском) представитель Российского государства является положительным персонажем.
Другой крупный исследователь бурятского исторического фольклора – М. И. Тулохонов. В его монографии «Бурятские исторические песни» (1973) выделена целая глава «Исторические песни бурят, связанные с присоединением к России». Эти песни подразделяются исследователем на «песни о переселениях» (имеется в виду переселение бурят из Монголии), «песни о дружбе народов» (здесь рассматриваются в первую очередь хоринские песни о походе к Петру I) и «песни об установлении границы». В другой своей работе – статье «Бурятские исторические предания» (1982) он, среди прочих, уделяет внимание преданиям о Бальжин-хатан и Савве Рагузинском.
Общая особенность работ советского времени заключается в их явной идеологизированности (что в целом характерно для фольклористических исследований данного периода [Иванова 2009: 516–539]). Следуя установке подчёркивать «дружбу народов» в истории бурятско-российских отношений, исследователи приписывали фольклору современные политические смыслы, чтобы доказать, что в Бурятии издавна «происходило сближение, росло взаимопонимание и сотрудничество народов» [Тулохонов 1973: 79]. В связи с этим от их внимания ускользала специфика народной памяти о прошлом – в частности, не отмечали они противоречивость в изображении бурятско-российских отношений, нашедшую отражение ещё в публикациях дореволюционного времени («конфликтные» сюжеты об отношениях бурят и русских рассматриваются только в неопубликованных работах С. П. Балдаева). Также исследователи советского периода зачастую не брали во внимание место записи и субэтническую принадлежность исследуемых текстов, представляя весь собранный материал как часть одной общей традиции. Такой подход объясняется изучением бурятского фольклора как общенационального явления, однако он не позволяет обнаружить различия и специфические особенности отдельных локальных и субэтнических традиций – а «фольклорная традиционная культура в своём конкретном наполнении всегда региональна и локальна» [Путилов 1994: 144].
В исследованиях постсоветского периода наметилась тенденция к преодолению одностороннего взгляда на бурятский фольклор о присоединении к России. Б. Б. Бадмаев [2000: 168–181] и Л. Ц. Малзурова [2012: 67–75] отмечают наличие в нём разных сюжетов – как о позитивном взаимодействии с русскими и Российским государством, так и о конфликтах с ними. Впрочем, оба этих исследователя почти не идут дальше констатации данного факта. Б. Б. Бадмаев также предлагает своё объяснение, согласно которому сюжеты о конфликтах с русскими имеют более раннее происхождение, а сюжеты о сотрудничестве с ними появились позднее. Но этот тезис остаётся в его работе без достаточного доказательства.
В целом точка зрения, что память о присоединении к России в бурятском фольклоре следует изучать исходя из множественности её вариантов, представляется нам верной и перспективной. Именно из неё мы и будем исходить в нашей работе.
Также в последние десятилетия продолжалось углублённое изучение исторического фольклора хори-бурят и, в частности, отражения в нём исторических событий эпохи присоединения к России. В работах Б. Б. Бадмаева [2000: 89–109, 168–181], Л. Ц. Малзуровой [2012: 69–70, 76–77, 88–90], В. Ш. Гунгарова [1993] и Б.-Х. Б. Цыбиковой [2014; 2025: 248–264; Миф и история 2020: 21–31] подробно рассматриваются предания и песни о Бальжин-хатан, Бабжи-Барас-баторе, походе к Петру I и установлении границы.
Кроме работ фольклористов, следует отметить исследования учёных-историков, затрагивающие народные представления бурят об их отношениях с Российским государством. Это в первую очередь монография В. В. Трепавлова «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв.» (2007), в которой на материале устных и письменных традиций разных народов России, в том числе и бурят, выявляются общие закономерности формирования представлений о Российском государстве и взаимоотношениях с ним у нерусских народов. К этой работе мы ещё будем обращаться в основной части нашего исследования. Определённый вклад в разработку проблемы внесла также статья Т. Д. Скрынниковой «Пограничные идентичности: буряты между Монголией и Россией» (2003), в которой исследовательница показывает многообразие и динамичность представлений бурят о Российском государстве и истории своего вхождения в его состав, обращаясь в том числе к фольклорным материалам.
Можно заключить, что к настоящему времени разработка вопроса о специфике исторической памяти о присоединении к России в бурятском фольклоре в основном ограничилась общими наблюдениями и анализом некоторых отдельных субэтнических традиций, в первую очередь – хори-бурятской. Представленные в предшествующих работах материалы и выводы позволяют наметить перспективу дальнейшего комплексного исследования данной проблемы, которая видится нам в первую очередь в сравнительном изучении локальных и субэтнических традиций исторической памяти на фоне общих тенденций и закономерностей.
Рецепция фольклора о присоединении к России в бурятской литературе также не становилась предметом целостного исследования. Учёные затрагивали лишь отдельные аспекты использования и интерпретации исторического фольклора в произведениях бурятских писателей. Место фольклорных преданий в бурятских исторических хрониках рассмотрено в работах Н. Н. Поппе [1935], Ц. Б. Цыдендамбаева [1972], А. Б. Соктоева [1976], Ц.-А. Н. Дугар-Нимаева [1992], Б. Д. Баяртуева [2001], Л. Б. Бадмаевой и А. Д. Жамсоева [2019], Б.-Х. Б. Цыбиковой и Л. С. Дампиловой [Миф и история 2020: 36–57], З. А. Дебеновой [2025]. С. С. Имихелова в статье «Судьба бурятского народа в исторических легендах и художественной литературе» (2015) обратила внимание на значимую роль исторических преданий в художественном осмыслении национальной истории на примере произведений о героях хори-бурятского фольклора Бальжин-хатан и Шилдэй-занги. В работе И. В. Булгутовой «Мифопоэтика в контексте становления и развития бурятской литературы второй половины ХХ – начала XXI веков» (2019) выявлена мифопоэтическая составляющая литературных произведений об этих легендарных героях.
В ряде работ рассматриваются фольклорные истоки отдельных произведений бурятских авторов об эпохе присоединения к России. Так, С. С. Цыренова [2010] посвятила статью образу Бабжи-Барас-батора в романе В. Гармаева «Десятый рабджун». Л. Ц. Малзурова [2012: 195–201] изучила специфику интерпретации фольклорного предания о походе к Петру I в пьесе Б. Барадина «Великая сестрица-шаманка». В статье М. Д. Данчиновой [2014] рассматривается интерпретация того же сюжета в романе Б. Санжина и Б. Дандарона «Путь праведный».
Таким образом, влияние фольклорных традиций на изображение исторических событий, связанных с присоединением к России, в бурятской литературе изучено только на материале некоторых отдельных сюжетов и произведений. Вопрос о том, как представлены в литературе разные сюжеты и субэтнические традиции исторического фольклора и в чём состоит специфика восприятия фольклорной исторической памяти на каждом этапе развития бурятской литературы, остаётся открытым для дальнейшего изучения.
Следует при этом сказать, что литературные произведения, о которых пойдёт речь во второй главе настоящей работы, становились объектом рассмотрения и в ряде других работ, посвящённых общим вопросам истории бурятской литературы, отдельным её жанрам и историко-культурным контекстам [Очерк истории 1959; История 1967; Найдаков и др. 1995а; 1995б; История бурятской литературы 1997; Соктоев 1976; Ким 1968; Найдаков, Имихелова 1987; Балданмаксарова 2003; Серебрякова 2009; Баларьева 2004; Самбялова 2011; Грязнова 2013; Имихелова, Шантанова 2015; Малзурова 2015; Савинова 2015; Амгаланова 2017]. Эти исследования стали необходимым фундаментом для изучения данных произведений в аспекте исторической памяти.
Цель данного исследования – определить специфику формирования и трансформаций исторической памяти о присоединении к России в бурятском фольклоре и его литературных интерпретациях.
Задачи исследования:
1. Выявить локальную и субэтническую специфику формирования исторической памяти о присоединении к России в фольклоре бурят.
2. Определить место и специфику хори-бурятского фольклорного исторического нарратива среди других субэтнических традиций исторической памяти о присоединении к России.
3. Сопоставить бурятский фольклор о присоединении к России с фольклорными традициями других народов сибирско-дальневосточного региона и определить их соотношение друг с другом.
4. Установить закономерности репрезентации фольклорных нарративов о присоединении к России в текстах бурятских исторических хроник XVIII – начала ХХ вв.
5. Выявить особенности интерпретации фольклора о присоединении к России в бурятской литературе XX–XXI вв.
Материалом первой части исследования послужили тексты бурятского фольклора, зафиксированные в период с XIX по начало XXI вв. Для достижения наибольшего охвата зафиксированных текстов использовались различные источники фольклорного материала: сборники фольклорных текстов на языке оригинала и в русском переводе; научные работы, содержащие пересказы фольклорных текстов; краеведческие издания и материалы, включающие информацию о локальных фольклорных традициях; неопубликованные записи фольклора и рукописи научных трудов из архивных фондов Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН.
Материалом второй части исследования выступают опубликованные литературные произведения, созданные бурятскими авторами в период XVIII–XXI вв. на старописьменном монгольском, бурятском и русском языках.
Теоретической основой исследования служит теория исторической памяти, разработанная в трудах ряда учёных-гуманитариев, в частности – М. Хальбвакса [2005; 2007], Я. Ассмана [2004], А. Ассман [2014], П. Коннертона [Connerton 1996; 2008]. Ключевая идея исследований исторической памяти заключается в том, что представления людей о прошлом определяются культурной средой. Историческая память отделяется от собственно истории: если история – это объективный аспект прошлого, то историческая память – те представления о прошлом, которые существуют в культуре. Эти представления не обязательно соответствуют историческим фактам и зависят от актуального контекста: образы прошлого в культуре так или иначе связаны с современной реальностью и существуют постольку, поскольку они значимы для людей настоящего. Поэтому историческую память мы понимаем «не как отражение в сознании носителей культуры исторических фактов, но как динамический процесс конструирования смыслов, придаваемых ныне существующим реалиям» [Штырков 2012: 52]. В рамках данного исследования нас будет интересовать то, как в бурятском фольклоре и литературе через апелляцию к истории осмысляется факт нахождения бурят в составе Российского государства.
Методологической основой исследования выступает дискурс-анализ, который мы вслед за М. В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс [2008] понимаем как комплексный подход к анализу текстов, направленный на выявление специфических способов вербальной репрезентации реальности, наделяющих её определёнными значениями и отношениями. В нашем исследовании под дискурсами исторической памяти подразумеваются способы представления определённых событий и процессов исторического прошлого. В работе нашли отражение идеи таких теоретиков дискурса, как М. Фуко [2004], Э. Лаклау и Ш. Муфф [Laclau, Mouffe 2001], Н. Фэркло [Fairclough 2006], А. ван Д. Тён [2013]. Вслед за ними мы рассматриваем дискурсы как динамичные системы значений, которые могут создавать различные точки зрения на одни и те же исторические события, конкурировать за определение их смысла, исторически эволюционировать и взаимодействовать друг с другом, заимствовать элементы из других дискурсов, связанных с иными сферами общественного сознания.
Среди других междисциплинарных концепций и подходов в этой работе нашли отражение идеи имагологии – учения о культурном конструировании образов инонационального [Поляков, Полякова 2013; Imagology 2007]. Элементы имагологического анализа мы применяем при рассмотрении образов русских и Российского государства в текстах бурятского фольклора и литературы.
При анализе фольклорных текстов, выражающих представления об историческом прошлом, мы в определённой мере опираемся на понятийный язык и концепции, выработанные отечественной филологической фольклористикой – в частности, в трудах В. Я. Проппа [1976], Б. Н. Путилова [1960], В. К. Соколовой [1970], С. Ю. Неклюдова [2007]. Также для рассмотрения устной традиции в аспекте исторической памяти привлекаются теоретические работы бельгийского антрополога Я. Вансины [Vansina 1969; 1985]. Хотя этот учёный ставил перед собой цель выработать методику использования устной традиции как исторического источника, его работы содержат важные выводы о специфике формирования и трансляции исторических знаний в устной культуре, которые могут быть применены в фольклористическом исследовании. Согласно теории Я. Вансины, представления о прошлом в устной культуре формируются под влиянием традиционного мировоззрения, поэтической системы фольклора, политического и социального контекста, в котором функционирует устная традиция – всё это накладывает отпечаток на исторические предания, в которых следует видеть не столько свидетельства о событиях прошлого, сколько продукты определённой культуры.
В последние годы появился ряд работ российских исследователей, посвящённых рассмотрению процессов формирования и трансляции коллективной памяти в фольклорной традиции. Это труды С. А. Штыркова [2012], А. В. Панюкова [2013], Ю. В. Лиморенко [2017], Е. Л. Тихоновой [2018], С. В. Белянина и Е. А. Закревской [2023]. Их идеи также нашли отражение в данной работе.
Основным методом исследования фольклорного материала в первой части настоящей работы является сравнительно-типологический: с его помощью мы сопоставляем локальные традиции и выводим типологию дискурсов исторической памяти о присоединении к России в бурятском фольклоре. Для выявления общих закономерностей сложения фольклорных текстов о присоединении к России на уровне сюжетов и мотивов привлекается структурно-семиотический метод. При определении локальной и субэтнической специфики исторической памяти в бурятском фольклоре используется метод регионального сравнения (см. [Дувакин 2011: 12–14]). Его применение продиктовано самой природой устной традиции, которая существует исключительно в региональных вариантах и потому может быть объективно изучена только при внимании к вариативности и границам распространения фольклорных явлений [Путилов 1994: 144–153].