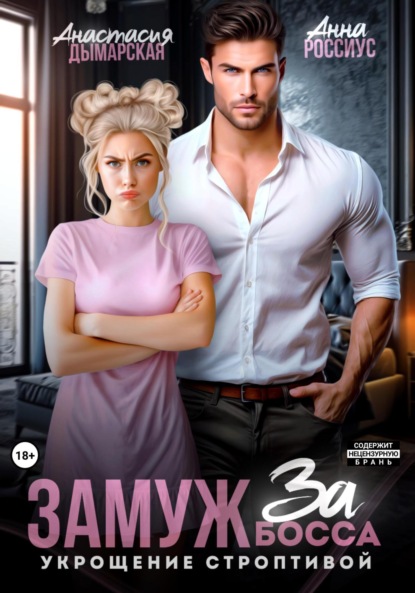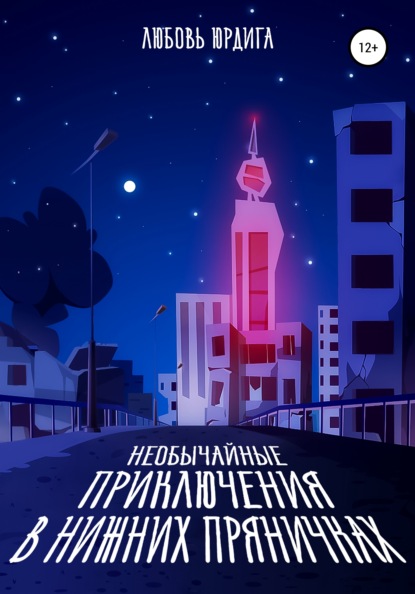Фольклор и литература бурят о присоединении к России: исследование исторической памяти

- -
- 100%
- +
В противостоянии с русскими могут участвовать и шаманы, применяющие сверхъестественные способы борьбы с чужеземцами: например, в одном предании предбайкальских бурят шаманы съели души русских казаков, и казаки умерли [Хангалов 2004а: 113].
В преданиях о битвах с русскими особенно выделяются образы бурятских воинов, которые окружены героическим ореолом. Рассказчики акцентируют их силу и храбрость, иногда даже приписывая им сверхъестественные способности: например, в преданиях эхиритов часто рассказывается о силаче, который зубами ловил пули, выпущенные из русских ружей [Бабушкин 2007: 8; Балдаев 2019: 220; Шаракшинова 1975: 64; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д]. В такой гиперболизации качеств бурятских воинов и подчёркивании их успехов, вероятно, проявилось влияние традиций героического эпоса и преданий о баторах-силачах, где герои неизменно показывают свою мощь в борьбе с самыми сильными и опасными противниками. В фольклоре разных групп бурят предбайкальского происхождения можно обнаружить целый ряд героев, которые вошли в народную память именно как участники бурятско-русского противостояния. Это, например, Шэбшэгэй (Чепчугей), отказавшийся сдаться русским и сожжённый ими в своей юрте [Балдаев 2019: 242–243, 277, 431, 433, 435], силач-батор Хашхай, которому приписывают подвиги при первом столкновении с русскими [Балдаев 2019: 72, 277; Хангалов 1894: 132; Шаракшинова 1975: 64; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д] и др.
Весьма показательно, что героизирующая коммеморация легендарных участников сражений с русскими проявляется не только в повествовательном фольклоре, но и даже в области религиозно-мифологических представлений. Так, один из персонажей шаманской мифологии западных бурят – легендарный воин Ажарай-бухэ, относящийся к категории «чёрных всадников» хана загробного мира Эрлика, в шаманских призываниях прославляется как герой борьбы с русскими [Цыбикдоржиев 2003: 280–281]:
Хашаа дээрэ ородтой тулахадаа,
Бухарь шара номоё
Бухюудан хүрсэрэн таталайт.
Когда у Качуга вы с русскими бились,
Свой бухарский желтый лук
До предела натягивали [Дампилова 2012: 176].
В районе с. Красная Буреть Боханского района Иркутской области существует традиция почитания хозяйки горы Хандын-хада по имени Хашхай төөдэй – бабушка Хашхай. Ей в заслугу ставят то, что при нападении русских она организовала оборону и помогла отстоять эту местность перед натиском пришельцев [ЦВРК. ОАФ. Д. 2768]. Отметим, что имя хозяйки горы Хашхай совпадает с именем упомянутого выше легендарного батора – вероятно, в зафиксированных здесь мифологических представлениях откликаются детали предания о первом столкновении с русскими, в том числе имя участвовавшего в нём силача.
Несмотря на восхваление подвигов бурятских воинов, предания признают, что буряты были вынуждены отступить перед превосходящей силой русских. Именно невозможностью одолеть пришельцев в бою мотивируется принятие российского подданства в преданиях предбайкальских бурят. «Многочисленней ли деревья в лесу, многочисленнее ли русские?» (Ойн модон олон гү, ород мангад олон гү?) [Балдаев 2019: 220] – риторически спрашивает один из воинов-силачей, призывая отказаться от дальнейшей борьбы и признать над собой власть русских. В предании эхиритов говорится, что в итоге бурятские предводители пришли к русским, взяв с собой беличьи шкурки и ремень – что должно было символизировать готовность платить ясак и подчиниться новой власти [Бабушкин 2007: 8; Балдаев 2019: 221, 277; Жамцарано 2011: 57; Шаракшинова 1975: 65; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д].
Впрочем, часто предания о столкновениях с русскими завершаются не принятием подданства, а бегством бурят в более отдалённые земли, где они надеялись укрыться от русских [Балдаев 2019: 233, 242–243, 252, 284, 314, 339, 431, 433, 435, 511, 513, 542, 557, 571, 585, 709]. Очевидно, что и на новом месте их всё же настигла необходимость подчиниться российской власти, но рассказчики преданий обычно предпочитают об этом умалчивать – видимо, это рассматривалось как не самый приятный момент истории, который зачастую вытеснялся из коллективной памяти.
В целом фольклор бурят предбайкальского происхождения свидетельствует о том, что в народных представлениях этих этнических групп российское подданство понималось в первую очередь как вынужденное подчинение более сильному народу и государству. При этом допускалась возможность избежать этого подчинения – либо путём военной победы над чужеземцами, либо просто уйдя в те места, куда они ещё не распространили свою власть.
Есть и предания, герои которых выступают против российской власти даже после её официального признания. Например, в предании о родоначальнике одного из булагатских родов Олзое говорится, что он сначала обязался платить ясак русским, а потом убил сборщика налога и скрылся. Когда русские пришли, чтобы наказать Олзоя, его подданные лишь ответили им уклончиво:
Эреэн хадайе
Эрьежэ ошоо лэ,
Эльгэ тэбтэгтэ ороо;
Далайн дабаа
Дабажа ошоо дэ,
Дайбаргайн хүбөө
Эрьежэ ошоо лэ!
Вокруг пестрой горы
Он пошел,
Вовнутрь – в печенку вошел;
Морские волны
Преодолевая, пошел,
По склонам Дарбагая
Он ушел! [Балдаев 2019: 172].
В фольклоре предбайкальских бурят сохранилась память о бурятских восстаниях XVII века и об их участниках, которые были казнены либо сосланы в другую местность [Балдаев 1961а: 40, 279; ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 68]. Этим героям приписывают песни, исполняемые от их лица. Так, среди хонгодоров бытовали «песни Поронока Аранжуева» – одного из участников восстания против русских казаков. В них он предстаёт героем, храбро выступившим против власти:
Эрхүү хото уруу харайлгаха
Үндэр боро моритойби,
Олон сэрэгүүдээр тулаха
Аранжууе хүбүүн Порооногби.
Хондоголдой уруу гүйлгэхэ
Хонгор боро моритойби,
Хорото сэрэгүүдээр оролсохо
Хонгоодорой баатар Порооногби [Балдаев 1961а: 40].
Скакавший в сторону города Иркутска
Высокий серый конь у меня,
Бившийся с многочисленным войском,
Я сын Аранжуя Поронок.
Бежавший в сторону
Верхоленской горы
Статный серый конь у меня,
Сражавшийся с жестоким войском,
Я хонгодорский батор Поронок3.
Чтобы лучше представить специфику восприятия предбайкальскими бурятами своего российского подданства, нам кажется важным рассмотреть образы русских и Российского государства в фольклорных текстах, отсылающих к эпохе установления российско-бурятских отношений.
Русские в этих текстах устойчиво изображаются как чужие и опасные люди, соседства с которыми лучше избегать. «Общим местом» многих родословных преданий является мотив переселения предков со старого места жительства во избежание встречи с продвигавшимися на восток русскими [Балдаев 2019: 214, 232, 242, 264, 309, 315, 333, 342, 347, 367, 426, 428, 433, 536, 543, 545, 549, 552]. Это мотивируется в том числе пугающими слухами, которые распространялись накануне прихода русских. В преданиях о появлении первых русских поселений на западном берегу Байкала русские переселенцы показываются как нарушители спокойствия, вынуждающие бурят перебираться в более отдалённые края: они самовольно занимают их земли, отбирают имущество, разбойничают и пьянствуют [Там же: 123, 128, 143, 145, 156, 160, 332, 494, 504, 557]. Олицетворением опасности и жестокости русских стал образ казачьего начальника Ивана Похабова (Багаба хаан), который вошёл в народную память как притеснитель и обидчик бурят [Балдаев 1961а: 279; Малзурова 2012: 74; Стуков 1881: 176]. В некоторых текстах буряты, боясь прихода русских, даже прибегают к разным необычным мерам самозащиты. Например, в одном предании буряты, жившие возле солёного озера, узнают, что из этого озера русские хотят добывать соль. «Буряты боялись русских и решили как-нибудь испортить озеро. С этой целью они бросили туда мертвую собаку. С тех пор соль исчезла» [Балдаев 2019: 151].
Для объективности и полноты контекста необходимо сказать, что русские – не единственный народ в фольклоре бурят предбайкальского происхождения, который бы выступал в такой негативной роли. Зафиксировано немало преданий о конфликтах этих бурят с эвенками, якутами, соседними монголоязычными этносами, причём их сюжеты во многом совпадают с сюжетами рассказов о русских. Эвенки, якуты и враждебно настроенные монголоязычные соседи в преданиях точно так же неожиданно нападают на бурят, отнимают у них скот и имущество, присваивают женщин, вынуждают в страхе переселяться на новое место [Балдаев 2019: 64, 105, 130, 155, 165, 198, 208, 215, 246, 251, 255–256, 258, 266, 272–273, 276, 278–279, 289, 293, 296, 309, 427, 437, 469, 546, 661; Небесная дева лебедь 1992: 176, 179]. Заметим, что и вышеупомянутый «чёрный всадник» Ажарай-бухэ выступает в фольклорной традиции и как участник столкновений с монгольскими ханствами [Балдаев 2019: 205].
Всё это указывает на то, что собирательный образ русских в фольклорной картине мира предбайкальских бурят возник в том числе в результате включения русских в один парадигматический ряд с «чужими», враждебными народами, вследствие чего на русских были распространены стереотипные характеристики и сюжеты, традиционно связываемые в фольклоре с образами враждебных соседей.
Представление о русских как об опасных чужаках проявляется в фольклоре предбайкальских бурят и за пределами текстов, описывающих непосредственно процесс включения их территорий в состав России. Примечательно предание об одном из первых российских чиновников среди бурят, которого в разных вариантах называют Шодором или Босхолом. В нём говорится, что русские забрали Шодора в Москву, чтобы обучить его грамоте (такая практика действительно существовала и была направлена на инкорпорацию иноэтнических элит в Российское государство [Самрина 2013]), там он женился на русской женщине и вернулся домой, чтобы исполнять обязанности наместника российской власти. Вскоре русская жена убила Шодора – по одной версии, из-за ревности к его первой возлюбленной, по другой – из-за того, что ей не нравилось жить среди бурят [Балдаев 2019: 219; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д]. Думается, что в этом предании отразились народные представления о потенциальной опасности, которая может исходить от русских как от чужого народа.
Об укоренённости таких представлений в фольклоре предбайкальских бурят свидетельствуют и разного рода нарративы, приписывающие русским недобрые намерения в отношении бурят. Так, в XIX в. был зафиксирован устный рассказ о том, что когда-то русские в Иркутске ловили молодых бурят, «обладающих лекарственным телом», и заживо отрезали от них куски мяса для изготовления лекарств. Приводили даже печальную песню, якобы исполненную одним бурятским юношей, попавшим в руки этих мучителей, в качестве завещания его родителям [Затопляев 1890: 1–2].
Представление о чуждости и вероятной опасности русских мы можем обнаружить и в текстах шаманских призываний. Обращаясь к божествам с просьбами о помощи и защите, буряты просили в том числе позаботиться о них, если им придётся отправиться в «русские края» (ород/мангад газар) – очевидно, что «своё», бурятское, здесь противопоставлено «чужому», русскому, пространству:
Ород газарта ябахада орхёогүй ябалда,
Мангад газарта ябахада мартаагүй хара!
[Хүхэ мүнхэ тэнгэри 1996: 167].
Если буду в русских краях, не оставьте,
Если буду в русских краях, не забудьте, присматривайте!
Вместе с тем нельзя не заметить, что русские в фольклоре предбайкальских бурят наделяются свойствами, явно отличающими их от всех других известных бурятам народов. Некоторые черты этого образа придают русским и их государству сверхъестественный ореол, вследствие чего русские и Российское государство в фольклорной картине мира позиционируются не только через оппозицию «свой/чужой», но и – в некоторой мере – через оппозицию «человеческое/сверхъестественное». Как пишет К. К. Стуков по материалам фольклора тункинских бурят, они не могли определить, «что это за пришельцы – обыкновенные ли смертные или плотоядные мангусы» [Стуков 1881: 175].
Русским устойчиво приписывается ряд экзотических свойств. Во-первых, это необычный внешний облик: русских называют «бородатыми людьми» [Балдаев 2019: 72, 314, 347; Дебенова 2025: 158; Стуков 1881: 175].
Во-вторых, подчёркивается наличие у русских огнестрельного оружия, которого не было у бурят и их соседей. Именно этим преимуществом нередко объясняется подчинение бурят пришельцам: «так как пришлые люди их убивали с большого расстояния, то буряты были разбиты наголову» [Дебенова 2025: 159]. Огнестрельное оружие в фольклоре предбайкальских бурят принято описывать как что-то сверхъестественное: «раздаётся сначала оглушительный звук, и воины бурят умирают на большом расстоянии от стреляющего», «как будто молния зажигается и поражает нас» [Балдаев 2019: 72, 220], «из пустого и волшебного железа выходит дым и огонь, и мы умираем» [Хангалов 1894: 132]. Интересно, что иногда выстрелы описываются даже так, будто их производят сами русские воины силой своего тела: «приплыли какие-то бородатые люди, от кашля которых умирали могучие баторы-буряты» [Балдаев 2019: 347], «они так далеко плюются, с одного берега долетает до другого» [ЦВРК. ОАФ. Д. 1884а]. Чудесный ореол вокруг оружия русских поддерживают сюжеты, в которых утверждается невозможность подчинить себе эти убивающие орудия даже после победы над их владельцами. В одном предании буряты, убив русских, решают сжечь их ружья в костре. Загоревшиеся ружья выстреливают и убивают нескольких бурят, подтверждая их мнение о том, что это – чудесное оружие: «если они без хозяев нас убивают, то с хозяевами могли убить нас всех» [Хангалов 2004а: 114]. В другом варианте буряты принимают выстрелы из сжигаемых ружей за кару тэнгриев, после чего заводят обычай устраивать в этот день тайлаган [Балдаев 2019: 345]. И хотя в ХХ веке, когда было записано большинство этих преданий, огнестрельное оружие уже не было для бурят чем-то новым и необычным, рассказчики всё равно продолжали воспроизводить такие остраняющие его описания, ставшие традиционной частью повествований о первой встрече с русскими.
Третий отличительный признак русских – они приплывают по реке на судах, что было непривычно для местных народов [Бабушкин 2007: 7; Балдаев 2019: 72, 220,242, 339, 342, 347, 431, 510, 542, 571; Дебенова 2025: 158; Жамцарано 2011: 57; Стуков 1881: 175; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д]. В. И. Кузьминых [1994], выделяя этот мотив в преданиях о встрече с русскими у народов Северо-Восточной Сибири, отмечает, что река в мифологии сибирских народов служила связующим путём между земным и подземным миром, откуда «приходит всё неизвестное, злое и враждебное».
В фольклоре предбайкальских бурят обнаруживаются и некоторые другие представления, указывающие на связь русских и Российского государства с потусторонним миром. В эхиритских преданиях обычно говорится, что инициатором принятия подданства и первым наместником российской власти среди бурят стал чёрный шаман по имени Ойлонго (Һойлонго) [Бабушкин 2007: 8; Балдаев 2019: 221, 277, 440, 555; Жамцарано 2011: 57; Хангалов 1894: 132; 2004а: 114; Шаракшинова 1975: 65; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д] (прототипом этого образа, по-видимому, было реальное историческое лицо – в русских документах XVII века упоминается «брацкой князец Оиланко», пришедший под начало Красноярского острога [Сборник 1960: 96]). В одной из версий предания утверждается, что русские выбрали в качестве наместника Ойлонго, поскольку буряты сказали, что больше всех они боятся чёрных шаманов [Балдаев 2019: 440]. Примечательно, что Ойлонго является почитаемым персонажем шаманской мифологии, вокруг которого выстроился целый культ мифических чиновников-писарей, подвластных владыке загробного мира Эрлик-хану. Чиновники из числа предбайкальских бурят совершали обряды, посвящённые Ойлонго и некоторым другим первым бурятским писарям, превратившимся в персонажей шаманского пантеона [Миягашева 2018].
В культуре западных бурят сложилось представление о том, что чиновники-родоначальники получают свою власть в силу особой наследственности (удха) – подобно тому, как обретают свой дар шаманы. Если шаманская наследственность чаще всего объяснялась тем, что предок рода получил свой дар от одного из могущественных божеств, то «чиновническая» наследственность (ноён удха) обосновывалась происхождением от одного из первых бурятских чиновников, назначенных на свои должности русскими казаками. Символом власти, полученной от русских, выступал кортик – их традиционно давали бурятским родоначальникам в знак их служения Российскому государству [Болхосоев 2016: 192–205]. Сближение в религиозно-мифологической традиции образов шаманов – посредников между мирами людей и духов и чиновников-писарей – посредников между бурятами и Российским государством может свидетельствовать о том, что Российское государство в фольклорной картине мира предбайкальских бурят уподоблялось потустороннему миру, взаимодействие с которым осуществляется посредством особых культов и магических действий, с помощью людей, наделённых соответствующим даром.
Связь между образами Российского государства и потустороннего мира проявляется и в том, что впечатления от взаимодействия с российской администрацией сильно повлияли на мифологические представления западных бурят о загробном мире. Владения хана Эрлика в шаманской мифологии уподобляются российским административным учреждениям, где работают чиновники, ведётся следствие и суд в отношении людей [Миягашева 2020: 169–176]. Рассказывали, что в числе прочего подчинённые Эрлик-хана занимаются тем, что собирают ясак душами [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 340] – это явная проекция памяти об эпохе установления бурятско-российских отношений в область мифологических представлений о потустороннем мире.
Сверхъестественная коннотация образа Российского государства заметна также в наделении чудесными свойствами и особой символикой предметов, подаренных от лица русского царя бурятским родоначальникам. Как мы уже говорили, кортики, которыми российская власть отмечала своих наместников среди бурят, считались знаками избранничества и символизировали причастность человека к ограниченному кругу почитаемых чиновников-писарей. Примечательно, что вручение кортиков в качестве показателя почётного статуса «инородцев» получило распространение только в XIX в., но в бурятском фольклоре обладание кортиками приписывается именно самым первым чиновникам [Трепавлов 2018: 127] – то есть предания об установлении отношений с Российским государством могли со временем пополняться новыми значимыми деталями, отражающими более поздние реалии. Ещё один предмет, отмечаемый в фольклорных текстах – металлические печати, также вручавшиеся родоначальникам в подтверждение их власти. Так, в предании о Шодоре говорится, что после его смерти принадлежавшая ему печать была выброшена в озеро и, находясь на дне, она светилась в течение 33 лет [Бабушкин 2007: 8]. В другой версии предания печать Шодора наделяется свойствами своеобразного амулета. Утверждается, что на ней было написано: «Бурятам управляться по-своему, владеть своими землями, в солдаты не ходить». Однако та печать была утеряна, с чем и связываются начавшиеся позднее притеснения бурят (этот текст зафиксирован в начале ХХ века, когда реформа самоуправления лишила бурят их прежних привилегий, что рассказчик, по-видимому, и объясняет потерей охранительной печати) [Жамцарано 2011: 57]. Нужно сказать, что вручение разного рода символических даров было распространённой практикой в отношениях между Российским государством и иноэтническими элитами, и наделение данных предметов особым значением и функционалом было изначально заложено в смысл этого ритуального дарообмена, в рамках которого власть стремилась создать репутацию России как богатого и могущественного государства и дать представителям нерусских народов ощущение причастности к её величию [Трепавлов 2018: 106–136].
Можем заключить, что в фольклоре предбайкальских бурят присоединение к России рассматривалось как результат взаимодействия с чужим народом и государством, в процессе которого произошёл переход от антагонизма к признанию власти Российского государства над бурятами.
Отметим, что фольклор об отношениях с русскими и Российским государством обнаруживает интертекстуальные связи с другими дискурсами бурятского фольклора, которые, надо полагать, существовали ещё до встречи бурят с русскими. Первый – дискурс об отношениях с соседними враждебными народами. Уподобляя русских другим враждебным соседям, фольклор бурят предбайкальского происхождения приписывает им стереотипные негативные качества и поступки, связанные с нападением на бурят, причинением им различного ущерба. На основе этого дискурса разрабатывается тема конфликтов с русскими и различных опасностей, которые они, будучи чужим народом, могут нести для бурят. Показательно, что Российское государство в нарративах о столкновениях с бурятами часто представлено лишь группой воинов, предводитель которой иногда и называется русским царём [Цыбикова 2014: 224; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д, 1884а]. Здесь очевидна аналогия с теми небольшими (в сравнении с Российским государством), компактно локализованными этнополитическими образованиями – соседними монголоязычными этносами, тунгусами, якутами – память о конфликтах с которыми представлена в фольклоре предбайкальских бурят. Второй традиционный фольклорный дискурс, элементы которого мы обнаруживаем в текстах о встрече с русскими – героический дискурс эпоса и богатырских преданий, проявляющийся в повествованиях о битвах с русскими, в которых бурятские воины уподобляются героям фольклора – непобедимым баторам-силачам. Ещё один дискурс, явно повлиявший на историческую память об отношениях с Российским государством – это дискурс о взаимодействии со сверхъестественным, потусторонним миром. Его влияние проявляется в наделении русских необычными, сверхъестественными чертами и способностями, в проведении параллелей между Российским государством и потусторонним миром, между чиновниками и шаманами. Из этого видно, что историческая память об установлении отношений с Российским государством формировалась у бурят предбайкальского происхождения на основе уже существовавших в их фольклоре традиций.
При этом дискурсы, элементы которых вошли в фольклор предбайкальских бурят о присоединении к России, хоть и развивают общую тему противопоставления бурят как коренных жителей своей земли и русских как неожиданно появившихся пришельцев, не вполне согласуются друг с другом. Первый из них акцентирует внимание на опасности чужаков и необходимости избегать близких контактов с ними. Второй разворачивает тему отношений с русскими как противостояния, в котором бурятские воины меряются силой с иноземным противником. Третий наделяет русских особым статусом и предполагает изначально неравные, иерархические отношения между русскими и бурятами. Противоречие разных подходов к описанию бурятско-русских отношений можно заметить в нарративах, где могут проявляться сразу два или три вышеназванных дискурса. Например, в эхиритских преданиях традиционно сначала говорится о сражении с русскими и даже об успехах, которые показывают бурятские воины, противостоящие чужеземцам, а потом утверждается принципиальная невозможность победить пришельцев и необходимость признать их власть над собой. Иногда это противоречие разрешается через приписывание разных точек зрения двум персонажам: в некоторых преданиях батор выступает за продолжение битвы с русскими, а шаман – за признание их власти, мнение шамана оказывается решающим, чем и объясняется вхождение бурят в российское подданство [Балдаев 2019: 221; Шаракшинова 1975: 65; ЦВРК. ОАФ. Д. 1805д]. В таких случаях противоречивые представления об истории отношений с Россией и русскими, бытующие в фольклоре предбайкальских бурят, обретают диалогизированную форму и выражаются в «разноречии» (см. [Бахтин 2012: 53–85]) нарратива, один из героев которого представляет героический дискурс, а другой – дискурс о русских как о могущественной непреодолимой силе.
Исторически закрепившееся сочетание таких противоречивых элементов может объясняться изначально разнонаправленной прагматикой текстов об отношениях с Россией и русскими. «Дискурсы выполняют роль ресурсов, которые используются для аргументации. В различных аргументах люди привлекают различные дискурсы и, следовательно, выражают различные идентичности» [Йоргенсен, Филлипс 2008: 218–219]. Можно предположить, что дискурс о русских как о враждебных чужаках был востребован в первую очередь в контексте этнической идентичности – в его рамках предбайкальские буряты очерчивали своё этническое пространство и конструировали этническую историю через оппозицию «свой/чужой», противопоставляя себя русским как чужеземцам, которые навязывают свои порядки, претендуют на их землю и представляют потенциальную опасность для бурят. Героический дискурс о противостоянии с русскими подпитывал положительный образ своего народа, подчёркивал его успехи в борьбе с внешними угрозами, давал повод для гордости за бурятских баторов прошлого. В свою очередь, дискурс об уникальности и чудесной силе русских и Российского государства связан с самоидентификацией бурят как подданных этого государства: он аргументировал принятие бурятами российского подданства и поддерживал сложившуюся административную систему. Вероятно, именно так из разных элементов и сформировалась историческая память о присоединении к России, которую мы обнаруживаем в фольклоре бурят предбайкальского происхождения.