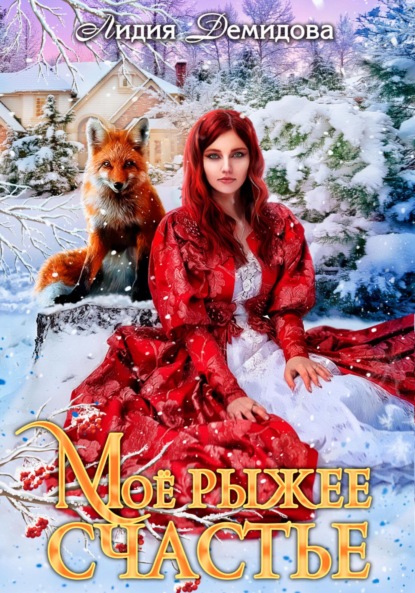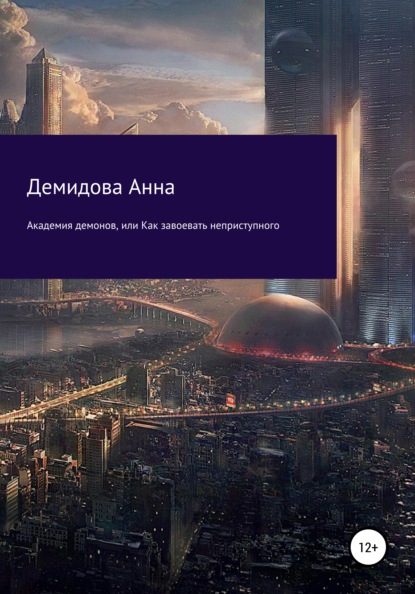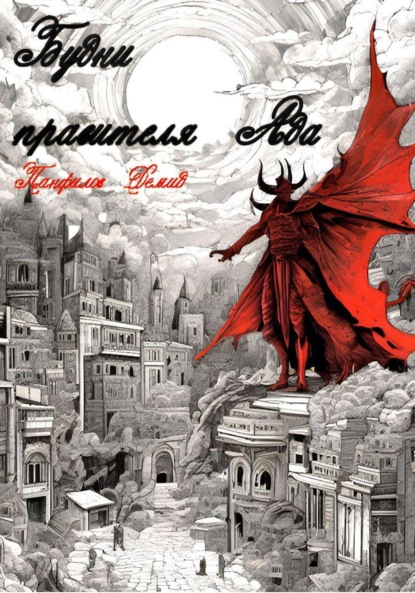Фольклор и литература бурят о присоединении к России: исследование исторической памяти

- -
- 100%
- +
1.3. Представления о принятии российского подданства в фольклоре бурят – переселенцев из монгольских ханств
Совсем иные представления о принятии российского подданства мы обнаруживаем в фольклоре бурят, воспринимающих себя как переселенцев из владений монгольских ханов. В основе их исторической памяти лежит именно сюжет о переселении, в разных версиях широко распространённый в первую очередь на юге этнической Бурятии [Дебенова, Исаков 2024; Дебенова 2025: 70–77].
При всём многообразии преданий о том, как определённые группы бурят однажды самовольно ушли из-под власти своих монгольских ханов, в основе этих текстов лежит ограниченный круг сюжетных схем. Нередко мотивом переселения объявляется личный конфликт между главой бурятского рода или племени и ханом. Именно конфликтом своей предводительницы Бальжин-хатан с её свёкром ханом Бубэй-Бэйлэ традиционно объясняют своё переселение к Байкалу хори-буряты [Гунгаров 2024: 69; Жамцарано 2011: 93–94; Небесная дева лебедь 1992: 212–213, 219–221; Позднеев 1880: 188–189; Стуков 1859; ЦВРК. ОАФ. Д. 2345а. ЛАФ 36. Д. 356]. Аналогичное предание повествует о переселении табангутов: согласно ему, три брата – главы трёх табангутских родов – оказались в немилости у своего хана и решили в тайне от правителя организовать побег в земли «Белого царя» [Санджэ-Сурун 2017: 112–113; Смолев 1900: 2–4]. Иногда причиной ханского гнева оказывается проступок, совершённый бурятским родоначальником. Так, например, мотивируется переселение в предании аларских хонгодоров: их предводитель Бахак Ирбанов стал любовником ханской жены, и когда об этом стало известно хану, ему вместе с подданными пришлось бежать на север [Бурятские сказки 1889: 134–140; Сказания бурят 1890: 126–130]. Мотив ухода на север из-за конфликта с правителем мы встречаем и в ряде других локальных традиций [Балдаев 2019: 456, 624; Гунгаров 2024: 103–105; Санджэ-Сурун 2017: 50].
Наиболее распространённым мотивом в преданиях о переселении бурят из монгольских ханств является мотив миграции по причине начавшихся войн и, в частности, потери власти прежним ханом [Атутова 2017: 78–79; Бабуев 1993: 7, 9; Балдаев 2019: 184, 188, 193, 300– 303, 305– 307, 320, 323, 329, 339, 345, 353, 438–439, 449, 451– 453, 455, 459– 461, 463, 466– 468, 470– 472, 475, 495, 550, 570, 575, 588, 590, 604, 607, 610–611, 613, 638, 640, 644–645, 652, 654, 660, 662–663, 666, 669–670, 672, 679, 702; Гунгаров 2024: 63–65, 67, 73, 88, 135; Небесная дева лебедь 1992: 196, 222; Памятники фольклора 2015: 298; Санджэ-Сурун 2017: 38, 43–44, 65–66, 70; Фольклор Восточной Сибири 1938: 64–66]. Время переселения чаще всего традиционно обозначают как эпоху войн между Сайн-ханом и Галданом-Бошокту (Һайн хаанай hамаргаан, Бошогто хаанай буhалгаан). Эта устойчивая формула, очевидно, отсылает к ойратско-халхаскому конфликту. Хотя распространённость и клишированность данной фразы позволяют полагать, что в фольклорной традиции она служила обобщённым обозначением разных отдалённых во времени конфликтов, которые могли послужить поводом для переселения. Об этом свидетельствует и то, что иногда в этой формуле вместо Сайн-хана появляется Чингисхан (Шэнгэс хаанай шэлгээн, Бошогто хаанай буhалгаан) [Балдаев 2019: 306]: такой анахронизм показывает, что Сайн-хан, Чингисхан и Галдан-Бошокту в народном восприятии могли представать героями одинаково далёкого прошлого, чьи образы были лишены конкретно-исторического содержания.
Как мы уже отмечали, само по себе наличие у определённой группы бурят преданий о переселении из монгольских ханств ещё не означает, что для этой группы характерны представления о принятии российского подданства, отличные от тех, что мы рассматривали в предыдущем параграфе. Но именно эти предания открывают иную перспективу видения присоединения к России: если в фольклоре бурят предбайкальского происхождения русские неизменно предстают пришельцами-чужаками на бурятской земле, то предания бурят «монгольского» происхождения представляют их самих в качестве переселенцев на земли русского царя. Такое видение своего вхождения в состав России ярко проявилось в фольклоре хоринских и селенгинских бурят, а также хонгодоров (но у последних наряду с нарративами о добровольной перемене подданства бытуют и тексты с мотивами, характерными для предбайкальского дискурса, что объясняется пограничным положением данной этнической группы на пересечении двух фольклорных ареалов).
Обстоятельства принятия подданства могут по-разному преподноситься в разных текстах. Иногда героям истории приписывается изначальное намерение стать подданными русского царя, который видится им более благодетельным и справедливым, чем монгольские правители. Например, герой предания аларских хонгодоров говорит: «Наш хан провинившимся отсекает головы, а русский царь наказывает розгами. Пойдемте отсюда в подданство к Белому русскому царю» [Сказания бурят 1890: 129]. Некоторые предания говорят, что монгольских ханств достигали слухи о невиданном богатстве и благополучии российской страны: «Белые цари чистые бодигатвы4, а русский народ, при ангельской доброте сердца, до того богат, что лошадей своих привязывает к серебряным коновязям, – мало того – сам ест из золотых, а собак своих кормит из серебряных сосудов; собольи меха подстилает вместо войлоков, а коровьим маслом разжигает печи; даже мальчишкам, табунщикам рогатого скота, разрешается употреблять в игре овечьи курдюки, вместо обыкновенных монгольских мячиков. Вот какая благодатная страна» [Стуков 1881: 175]. Желание уйти в Россию может мотивироваться опытом уже переселившихся сородичей: «Белый хан хорошо относится к своему народу. Наш первый монгольский род, покинув аймак Цэцэн-хаана, попал в ведение Белого хана и очень хорошо живёт. Мы можем отправиться вслед за ним» [Санджэ-Сурун 2017: 48]. В иных случаях объясняется, что буряты решили просить покровительства у русского царя уже после того, как ушли от своих монгольских ханов, чтобы обрести нового покровителя. Например, в одном хоринском предании об этом говорится так: «Люди мучились и не могли с ними (соседними народами, нападавшими на хори-бурят – А. И.) справиться, в итоге около десяти человек отправились к царю и попросились к нему в подданство» [Гунгаров 2024: 70].
Существуют также нарративы, в которых выбор места для переселения мотивируется в первую очередь благоприятными природными условиями, возможностью обеспечить себе сытую жизнь. Как говорится в одном предании о переселении табангутов, их предводитель стремился в места, где «дрова можно добыть без топора, мясо – без ножа» [Балдаев 2019: 450].
В некоторых традициях бытуют отдельные предания о том, как буряты лично ходили проситься в подданство к русскому царю. Широко известно хори-бурятское предание о делегации одиннадцати родоначальников к Петру I [Гунгаров 2024: 70, 101–103, 105–106; Небесная дева лебедь 1992: 168, 221; Фольклор монгольских народов 2011: 239; Цыбикова 2016: 144; ЦВРК. ОАФ. Д. 225в, 2295а. ЛАФ 18. Д. 109]. Среди окинских бурят зафиксировано предание о том, как первопоселенцы этого края Бурэнхан и Тархай ездили к Петру I, чтобы он принял их в своё подданство и закрепил за ними право на эти земли [Дугаров 2002]. В ряде других нарративов буряты, пришедшие из государств монгольских ханов, обращаются с просьбой о принятии в подданство к местным представителям российской власти (например, к иркутскому губернатору) [Санджэ-Сурун 2017: 40, 43, 45, 64, 71; Фольклор Восточной Сибири 1938: 65–66; ЦВРК. ОАФ. Д. 2345а. ЛАФ 36. Д. 356].
В целом фольклор обозначенных групп бурят транслирует устойчивое представление о том, что они по своей воле покинули государства монгольских ханов и решили стать подданными России. Эту мысль в эксплицированном виде мы находим в песнях, зафиксированных среди бурят-переселенцев. Например, у хори-бурят:
Эдэ бидэнэр бурияатанар
Урдахил монголсоо тасарагсамди,
Уг сагуусан газартаяа
Оросуун шэргээнээ түшэгсэмди,
Одоо хожомой баярта
Орондоо гараамата хүлеэгсэмди.
Это мы – буряты,
От южных монголов отделившись,
С той землею, где обитали,
К русскому престолу прислонились,
Впоследствии, к нашей радости,
На родине грамоты удостоились [Дугаров 1964: 119].
Аналогичный нарратив выстраивается в уже приводившейся выше песне табангутов:
Цэцэн хаанай хушуунааса
Цэрэглэгсэн цэрэгмнай,
Хоёр минган болосон.
Үндэрлэгсэн газармнай
Орхон Тоолын эхиндуу.
Байралагсан газармнай
Баатар сагаан хаан,
Багаатар сагаан хаанай
Албата арад боложо
Амаглан ерэн жаргаяа [Балдаев 1965: 58].
Из Хошуна Цэцэн-хана
Отправившееся войско наше
Да достигнет 2000!
Наследственные земли наши –
На истоках Орхона и Толы.
Занятые нами земли –
Батур Цаган хановы (русского царя).
Батур Цаган хана
Сделавшись подданными,
Да будем наслаждаться в мире! [Смолев 1900: 26].
В этих текстах особенно подчёркивается, что после принятия российского подданства положение бурят улучшилось. В преданиях о переселении рассказывается, что накануне ухода из монгольских ханств бурятам пришлось столкнуться с несправедливостью правителей, угрозами, войнами, а приход под покровительство «Белого царя» в фольклоре традиционно рассматривается как начало новой, спокойной и благополучной жизни. Эта схема повествования о прошлом соответствует структуре политических «мифов основания», в которых история делится на две части – худшую, которая осталась до некоторого поворотного события, и лучшую, начавшуюся с этого момента [Schöpflin 1997: 33]. Как мы видим, в фольклоре бурят-переселенцев присоединение к России оформляется именно как позитивный момент основания их этнической общности в её современном качестве.
Показательно, что их фольклор нередко связывает формирование самого бурятского народа с отмежеванием от монголов и переходом в российское подданство. Даже происхождение этнонима «бурят» (буряад) предания относят к моменту переселения, утверждая, что такое название монголы дали тем людям, которые самовольно ушли из-под власти монгольских ханов и поселились в России. Одна из распространённых народных этимологий производит слово буряад от буруу ‘неправильный, ошибочный, противный, противоположный’. Так, в одной из интерпретаций истории переселения хори-бурят говорится, что когда в Монголии началась война, часть людей с Бальжин-хатан ушли на север, бурууша – в противоположную сторону, поэтому их назвали бурятами [Цыбикова 2016: 143–144]. Другое предание гласит, что хоринцы однажды не явились на общемонгольский праздник по случаю провозглашения нового хана, хотя их туда пригласили. Они поступили неправильно (буруу) и в связи с этим получили название бурят [Санджэ-Сурун 2017: 50]. В фольклоре тункинских бурят есть предание, согласно которому оставшиеся в Монголии сородичи назвали решение переселенцев уйти в другое государство неправильным и окрестили их на прощание бурятами [Фольклор Восточной Сибири 1938: 64]. В предании о переселении сартулов утверждается, что переселенцы надели свою одежду и оседлали коней задом наперёд, чтобы ввести в заблуждение своих преследователей: когда они собирались отправить погоню за сартулами, астрологи сказали, что они возвращаются назад. В память об этом случае, когда им пришлось одеться и оседлать коней наоборот (буруу), переселенцам дали название бурят [Санджэ-Сурун 2017: 49]. Ещё один вариант народной этимологии возводит этноним «бурят» к глаголу буриха ‘уклоняться, поворачиваться, самовольно уходить в сторону’: так назвали бурят за то, что они самовольно отделились и ушли (бурижа hалаhан) из-под власти своего прежнего хана [Гунгаров 2024: 104]. В некоторых текстах происхождение слова «бурят» никак не поясняется, но утверждается, что это название переселенцы получили на прощание от оставшихся в Монголии сородичей:
Буряад нэрэтэй болооройт,
Бусажа hөөргөө ерээрэйт [Там же: 73].
Называйтесь теперь бурятами,
Возвращайтесь сюда назад.
В сюжетах о переселении встречаются также этиологические мотивы, связанные с отдельными группами бурят. Так, существует версия происхождения этнонима «сартул» (сартуул), согласно которой сартулы, уходя из Монголии во время междоусобных войн, гнали перед собой своих волов («гнать волов» – сар тууха), отчего и получили такое название [Там же: 67]. В предании рода Хэрдэг его название объясняется тем, что «один из его начальников разгневался на своего вождя и ушёл» из Монголии, поэтому его прозвали Хэрдэг – «обидчивый» [Балдаев 2019: 472].
В подобных нарративах может присутствовать и объяснение этнокультурных особенностей конкретной субэтнической группы. Например, сартульские предания сообщают, что обычай не есть кровь животных, отличающий сартулов от всех других бурят, тоже возник во время их переселения из Монголии. Согласно одной версии, во время бегства из Монголии сартулы зашли в одну юрту, где им по обычаю предложили угощение. Хозяева попросили гостей подождать, пока сварится кровь, но за это время их настигла погоня, и только один человек смог убежать. «Он понял, из-за чего попались его товарищи, и наказал своим потомкам, чтобы те не ели кровь» [Санджэ-Сурун 2017: 44]. По другой версии, переселенцы в пути остановились, чтобы поесть кровяной колбасы, и в это время у них убежали кони. Тогда сартулы поклялись, что больше никогда не будут есть кровяную колбасу и передадут этот запрет своим потомкам [Там же: 70, 113–114]. Ещё одно предание гласит, что по пути из Монголии сартулам встретился жеребец. Они убили его и стали есть его кровь, но тут их настигли хозяева жеребца и перебили почти всех сартулов, кроме одного. Единственный выживший поклялся, что «во веки веков никто из рода сартуулов не будет есть кровь» [Там же: 145–146].
В отличие от бурят предбайкальского происхождения, которые видели русских в ряду других чужих и враждебных народов, в фольклоре бурят-переселенцев Россия традиционно рассматривается как «своё» и дружественное государство, а образы чужого и враждебного оказываются локализованы по южную сторону российско-монгольской границы.
Южные соседи в фольклоре бурят-переселенцев часто выступают источником опасности. В преданиях о переселении может говориться о погоне, которую снаряжают монгольские ханы, чтобы поймать и наказать беглецов. Так, в хори-бурятском фольклоре известен сюжет о погоне воинов хана Бубэй-Бэйлэ за самовольно ушедшей Бальжин-хатан, которая в итоге была убита [Гунгаров 2024: 69; Жамцарано 2011: 93–94; Небесная дева лебедь 1992: 212–213, 219–221; Позднеев 1880: 188–189; Стуков 1859: 4–5; ЦВРК ИМБТ. ОАФ. Д. 2345а. ЛАФ 36. Д. 356]. В предании аларских хонгодоров Сайн-хан посылает за беглецами своего воина Сухэр-нойона [Бурятские сказки 1889: 134–135]. О желании монгольских ханов вернуть и покарать самовольных переселенцев говорится и в фольклоре других групп бурят, живущих вдоль границы [Балдаев 2019: 451, 610; Санджэ-Сурун 2017: 49, 133; Смолев 1990: 2–3].
Существует ряд преданий о нападении народов с юга на бурят после того, как они уже поселились к северу от монгольских ханств: например, в юго-западной части этнической Бурятии распространены предания о нападении монгольского воина Сухэр-нойона [Гунгаров 2024: 109–115; Небесная дева лебедь: 195–196; Хангалов 2004б: 68–69], у восточных бурят в роли южных врагов выступают маньчжуры, часто персонализируемые в собирательном образе Манжи-хана [Гунгаров 2024: 130; Небесная дева лебедь 1992: 207–212; Санджэ-Сурун 2017: 50]. Тема антагонизма бурят и их южных соседей развивается и в сюжетах о том, как буряты нападали на монголов, угоняли у них скот [Гунгаров 2024: 128; Позднеев 1880: 190–197].
Особенно ярко проявляется мысль о разделении «своего» и «чужого» пространства по оси российской границы в фольклоре, непосредственно связанном с памятью об установлении границы между Россией и империей Цин в 1727 г. Главный герой преданий об установлении границы – российский посол Савва Рагузинский (Гүүн Савва). Его образ в фольклоре идеализируется. Народные песни представляют Рагузинского как невероятно умного, одарённого человека:
Юhэн дабхар хүрээе
Ехэ зээрдэ харайба хаяа.
Юhэн дабхар хэнеэгэйе
Гүүнэй Сакба дуудаа hэн хаяа.
Изгородь в девять этажей
Крупный рыжий [конь] перепрыгнул.
Книги в девять этажей
Гуун Сакба перечитал, видимо [Цыбикова 2014: 223].
Иногда в преданиях говорится, что Савва был сыном простого бедняка, и именно он вызвался помочь русскому царю в установлении границы [ЦВРК. ОАФ. Д. 2339]. Этот мотив сближает фольклорный образ Саввы Рагузинского с образами положительных героев народных сказок, которые часто имеют незнатное происхождение, но достигают успехов благодаря своим талантам и находчивости.
Само проведение границы преподносится в фольклоре как событие беспрецедентной значимости: российскому послу ставят в заслугу установление порядка и благополучия в землях бурят, защиту их пространства от внешних угроз:
Баян байдал тогтооһон,
Һайн жаргал үзүүлһэн,
Харташани хааһан,
Бортошони бооһон,
Алууршани агталһан,
Дээрмэшэни хориһон,
Морин жэлдэ мордоһон,
Могой жэлдэ тэхэрһэн,
Гүн ехэ ноён,
Алдарта ехэ посол,
Граф Савва ноён!
Хаанай ехэ хуулииен
Харалсан ябажа дүүргэһэн,
Эжэнэй ехэ даамалын
Энхэрэн ябажа хүсөөһэн,
Амитанда амар байдал тогтооһон,
Зондо залиин байдал болгоһон,
Посол ехэ солотой,
Гүн ехэ алдартай,
Граф Савва ноён! [Балдаев 1961а: 49].
Установивший богатую жизнь,
Одаривший счастьем,
Злоумышленников закрывший,
Недоброжелателей оградивший,
Убийц обезопасивший,
Разбойников укротивший,
Приехавший в год коня,
Уехавший в год змеи,
Великий нойон,
Славный посол
Граф Савва-нойон!
Великий ханский закон
Со вниманием исполнивший,
Великое властное поручение
Тщательно завершивший,
Для людей спокойную жизнь установивший,
Для народа тихую жизнь устроивший,
Великий посол,
Славный господин
Граф Савва-нойон!
Можно заметить, что Савва Рагузинский, который лично «по ложбине Алтая золотую верёвку протянул, по синей тайге серебряную верёвку протянул» (Алтайн гурьба дээгүүр алтан аргамжа шэрэһэн, хүхын хүбшэ дээгүүр мүнгэн дээһэ татаһан) [Там же: 50], наделяется в песенных текстах качествами культурного героя, который упорядочивает мир и преодолевает силы хаоса [Мифы народов мира 1987: 26]. Сюжет о проведении границы, таким образом, обретает мифологическую коннотацию: оно рассматривается как событие, заложившее основы существующего миропорядка. В преданиях сообщается, что после установления границы буряты устроили праздник [Балдаев 2019: 384, 465; Гунгаров 2024: 105; Дашицыренова 1993: 110], что также подчёркивает важное место этого события в их истории.
Ведущим мотивом преданий о проведении границы является противостояние Саввы Рагузинского и чиновников империи Цин, от лица которых обычно выступает персонаж по имени Сэсэн Уган. Китайская сторона стремится нарушить планы России, забрать себе больше территории, но мудрый Савва, которому безусловно симпатизируют рассказчики преданий, старается пресечь эти попытки и отстоять территорию проживания бурят за Российским государством [Гунгаров 2024: 143–145; Малзурова 2012: 72–73; Небесная дева лебедь 1992: 234–236; Памятники фольклора 2015: 308–309; Хангалов 2004б: 59; ЦВРК. ОАФ. Д. 2339]. Посол в этих преданиях порою действует подобно хитрым героям бытовой сказки, умеющим неожиданным образом повернуть любую трудную ситуацию в свою пользу. Возьмём, к примеру, распространённый сюжет о соперничестве за обладание горой Монгото-ула (Мүнгэтэ уула). Савва и Сэсэн Уган договариваются, что России отойдёт участок, который можно покрыть небольшим куском бычьей шкуры. После этого российский посол разрезает шкуру, превращая её в длинную тонкую полоску, и опоясывает ей всю гору [Гунгаров 2024: 144; Памятники фольклора 2015: 308–309]. Есть, однако, и альтернативная версия, в которой к такой хитрости прибегает Сэсэн Уган, и гора достаётся Китаю – но на горе всё равно «явилась печать русского государства; китайцы вытесывают гору, чтобы снять печать, но печать снова является» [Хангалов 2004б: 59]. Также существуют предания, в которых Савва Рагузинский поддаётся уговорам китайской стороны и за взятку уступает им часть территории [Малзурова 2012: 73; ЦВРК. ОАФ. Д. 2339]. В самом трагическом для героя варианте этого сюжета о его поступке становится известно царю, и Савву казнят [ЦВРК. ОАФ. Д. 2339].
Тема границы как линии разделения своего и чужого пространств получает развитие и в песнях, которые посвящены первым бурятским воинам-пограничникам, находившимся на службе у Российского государства. Герои песен рассматривают границу как одно из условий порядка в своей земле и говорят о соседнем государстве – империи Цин – как о противнике, который может попытаться нарушить этот порядок [Балдаев 1961б; Тулохонов 1973: 182–202]:
Борото муухай дээрмэшэнээ
Бутара сабшан намнахаби,
Байлгаһан ехэ обооёо
Башаяа табин аршалахаби.
Һайн хаанай дээрмэшэнээ
Һалгаан сохин ерэхэби,
Һайн баян байдалаа
Һайжаруулан баяжуулан ерэхэби
[Балдаев 1961а: 56].
Зловредного разбойника
Я догоню и разрублю на куски,
Установленное великое обо5
Изо всех сил буду защищать.
Разбойников Сайн-хана
Разбив-уничтожив, я вернусь,
Хорошую, богатую жизнь
Улучшив, обогатив, я вернусь.
Интересно, что для фольклора бурят-переселенцев не характерны экзотизированные образы русских, типичные в фольклоре бурят предбайкальского происхождения. Если в предбайкальском дискурсе Российское государство олицетворяют пришельцы-завоеватели, то в дискурсе бурят-переселенцев это государство воплощается в образе «Белого царя», который находится в далёкой столице и оттуда распространяет свою власть и покровительство на разные земли. В преданиях о переходе в подданство русского царя обычно не акцентируется его принадлежность к другому народу и культуре. Наоборот, «Белый царь» в фольклорной картине мира стоит в одном ряду с монгольскими ханами и рассматривается как такой же потенциальный сюзерен для бурят. Нельзя не заметить, что образ российского правителя в фольклоре этих групп бурят вообще окружён особым почётом. В преданиях он неизменно выступает добрым покровителем бурятского народа, подателем разных благ. Идеализация «Белого царя» проявляется и в ряде песен одического характера, которые бытовали среди хори-бурят и обычно возникали по поводу их делегаций в столицу или визитов членов царской семьи на бурятские земли [Жамцарано 2006: 19–21; Миф и история 2020: 32; Позднеев 1880: 205–207, 261–263, 272; Фролова 2004]. Вот как, например, говорится о российском правителе в песне, традиционно приписываемой участникам хори-бурятской делегации в Москву 1702–1703 гг.:
Сагаан хаан нэрэтэй,
Саглаши үгэй буинтай
Сагаан Дара эхэйн хубилгаан
Манай эзэн богдо ло.
Тониршо үгэй албатутай,
Тоолошо үгэй сантай ла,
Тогтом һайхан зарлгатай ла,
Тугта ехэ богдо ла.
Белый царь по имени,
Безграничный по добродетели.
Воплощение белой Дара-эхэ,
Святой повелитель наш.
Он имеет несметное число подданных,
Он имеет несчетную казну,
Он имеет непоколебимое, прекрасное слово,
Отличенный знаменем, великий, святой
[Тулохонов 1973: 100].
Как своеобразную форму возвеличивания и «присвоения» «Белого царя» в бурятском фольклоре можно рассматривать также предания, возводящие генеалогию российских правителей к Чингисидам и, таким образом, представляющие их родственниками монгольских ханов. Среди восточных бурят зафиксировано несколько версий сюжета о русском царе – сыне Чингисхана. В одной версии жена Чингисхана во время похода остаётся в России, рожает там сына, и в будущем он становится царём [Небесная дева лебедь 1992: 167–168; Цыбикова 2022: 153]; в другой – Чингисхан женится на российской императрице Екатерине, и их сын наследует российский престол [Цыбикова 2022: 153]; в третьей – Чингисхан вступает в связь с девушкой-оборотнем, которая явилась к нему в образе лисицы, и их сын по велению отца становится правителем России, известным под именем Пётр I [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 131]. Связь этих преданий с представлениями о принятии российского подданства подтверждают сами их тексты: в одном из них рассказ о воцарении сына Чингисхана в Москве завершается приходом бурят, желавших перейти в его подданство [Небесная дева лебедь 1992: 168], в другом доброе отношение Петра I к бурятам объясняется именно тем, что он происходил из рода монгольских ханов: «Он помнил всегда своё происхождение и хорошо и милостиво относился к бурятам, сбавлял подати и повинности, давал всякие льготы, не брал в армию и ограждал от несправедливостей местных сибирских начальников» [ЦВРК. ЛАФ 36. Д. 131]. Хотя среди некоторых бурят бытовало мнение, что легенду о русском царе – сыне Чингисхана придумал Аюши Саагиев, известный как автор одной из хоринских летописей [Цыдендамбаев 1972: 61], в действительности вряд ли эта традиция возникла благодаря лишь одному человеку. Возведение к Чингисхану генеалогий правящих династий широко распространено в фольклоре монгольских народов [Исаков 2024в: 394], кроме того, идея о происхождении российских правителей от Чингисхана бытовала у разных народов России и сопредельных стран [Трепавлов 2007: 94–100]. Такие воображаемые генеалогии, по всей видимости, интегрировали образ российского правителя в традиционную картину мира и обосновывали переход бывших жителей монгольских ханств в его подданство через наследственное право на власть, якобы воспринятое русскими царями от монгольских правителей.