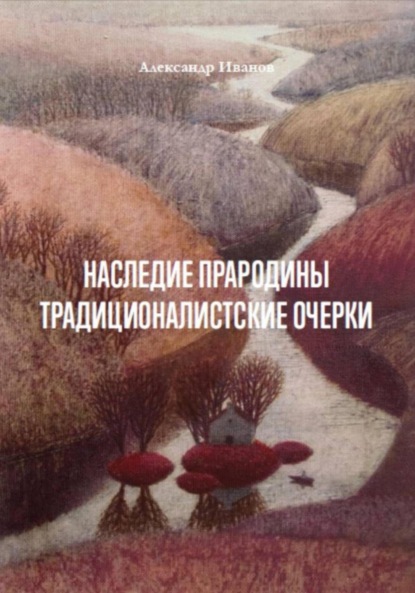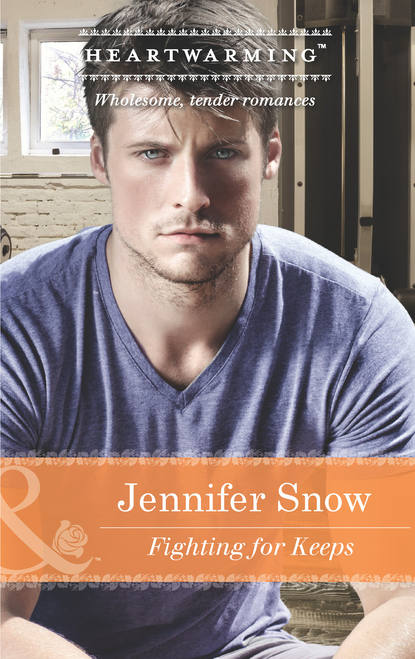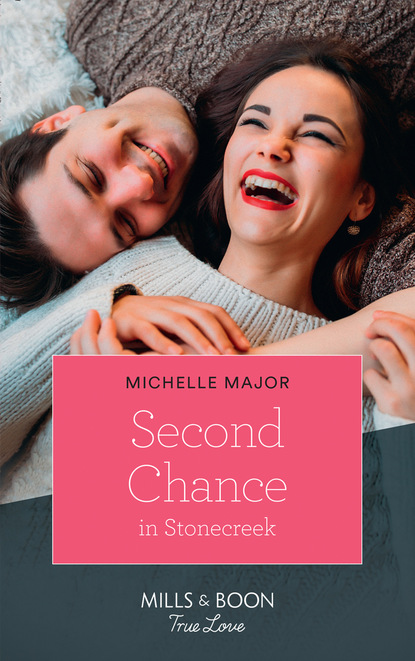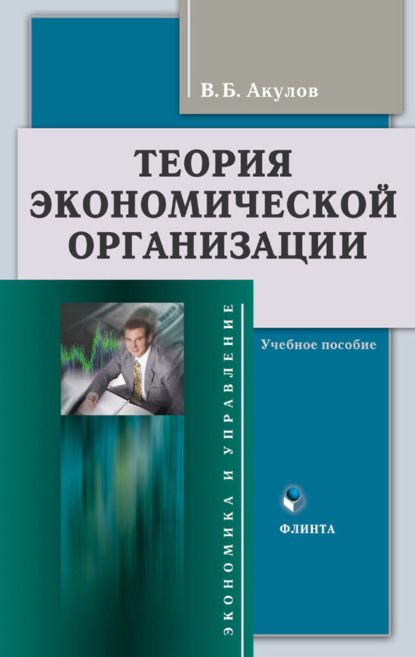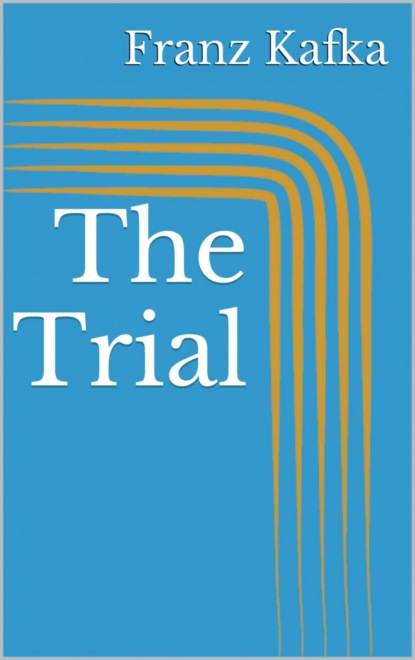- -
- 100%
- +

Кружной путь к Традиции
Спустя три года после выхода нашумевшей программной книги Александра Иванова «От язычества к христианству. Путями последней Австразии» полюбившийся целевой аудитории читателей вятский автор представляет на суд публики сборник очерков «Наследие прародины». Речь на сей раз идёт о серии заметок в стиле легендарного журнала Études Traditionelles – может быть, в чуть более вольном стиле. Этим сборником завершается определённый этап не просто в духовной эволюции автора, но и – не побоимся этого выражения – в истории современного русского традиционализма. Ведь с тех пор интеллектуальный климат в нашей стране заметно изменился. И причиной тому не только бурные политические события во внешнем мире, но и внутренние сдвиги в «битве ума» – ноомахии. За эти годы были изданы и получили заслуженное признание несколько томов Александра Дугина из серии «Ноомахия»; увидели свет первые «Чёрные тетради» Мартина Хайдеггера, внимательно проштудированные Александром Ивановым; вышли два новых номера симферопольского журнала «Палантир», публикующего всё более и более интересные исследования Традиции; увидели свет ещё ряд интересных книг, имеющих отношение к данной тематике; наконец, в роковом, по его собственному признанию, семнадцатом году ушёл из жизни Владимир Карпец, чья тень незримо витает над статьями данного сборника. Поэтому даже тогда, когда на его страницах мы снова встречаемся с темами из книги «Путями последней Австразии» (три сына Ноя, Троя, Последний Бог, 45-й меридиан…), то они звучат по-новому в свете пережитого всеми нами за эти три-четыре года.
Есть, однако, в публикуемых очерках и нечто новое. Новое как в тематике исследований (философские проблемы времени, науки, искусства, София, Рагнарёк, святая Бригитта…), так и в том тоне, в который они окрашены. Ключевым моментом здесь, несомненно, выступает новая теория символизма гриба, предложенная Александром Ивановым. С наступлением космической Ночи, с приближением к Концу само Мировое Древо превращается в Мировой Гриб – фактически в растение, которому не нужен свет для роста. Под этим углом зрения находят объяснение и тенденция к распространению символизма гриба в культуре XX века, и сделанные в наши дни открытия сразу нескольких забытых «грибных» культур в обеих Америках и на Дальнем Востоке, и многие энигматические высказывания Сергея Курёхина и Владимира Карпца. Даже Один у Александра Иванова распинает себя фактически уже не на мировом ясене, а на мировом мухоморе… А цитирование гениальных – и до обидного малоизвестных – стихотворений великого Юрия Стефанова лишь придаёт уверенность в правильности интерпретаций автора.
Данный сборник – знаковая веха на пути традиционалистских исследований в России, знаменующая завершение определённого круга их развития. Полагаю, для вдумчивого читателя аллюзии на «Кружной путь» окажутся весьма прозрачными, и направление дальнейшего хода мысли будет им уловлено с полуслова.
Максим Медоваров,к. и.н., г. Нижний НовгородЗаметки об этноментальности (вместо предисловия)
Обычно мы не замечаем самых простых вещей. Увлечённые доказательством какой-либо «интересной» теоремы, перестаём замечать аксиомы, нечто явленное для нас наглядно и не требующее каких-то дополнительных разъяснений.
Но иногда приключается и так, что эти очень простые вещи вдруг предстают перед нами во всей полноте своей очевидности. И мы вдруг начинаем понимать их иначе, понимать по-настоящему. Что вообще значит «понимать»? Вмещать, ощущать сродство, принимать в сердце. Принимать как нечто глубоко личное, а не воспринимать как некий отвлечённый концепт разума. Правильнее будет сказать – «начинаем переживать». В эти моменты человек произносит: «И вдруг меня осенило!» Стало вдруг внятным то, о чём мы вроде и до этого знали. Но не внимали, не открывались душой. Как выражался Е. В. Головин, «плохо понимали, не понимали „кровью“».
Говорят, что небо (обычное видимое небо), вернее, его синь в ясный день – это ризы Божьей Матери. Поэтому и священство в Богородичные праздники облачается в одеяния того же цвета. Поэтому и крыши освящённых в Её честь храмов того же цвета. А ещё говорят: «Христос – Солнце Правды». А в главном русском духовном стихе («Г[о]лубинная книга») облака зовутся «думы Господни». Думы, умы… ангелы. Облака можно условно обозначить как сгущённый воздух. Сам же он невидим, не имеет формы, стремителен. Всем этим он напоминает мысль или ум. Правильнее даже сказать так: будучи невидимым, сам воздух несёт в себе видимые глазу облака так же, как ум несёт в себе мысли. Мысли бывают разные, облака тоже…
Вспомним вот ещё о чём. Св. Григорий Палама говорит, что «Богородица – единственное место Невместимого», «Твердь, отделяющая тварное от Нетварного». А св. Серафим Саровский в «Беседах с Мотовиловым» утверждает, что всякое наше прошение иначе как через Богородицу не достаёт до Господа. Это очень легко понять. Нужно только взглянуть на небо в ясный день. Никак не увидим мы солнца, если только не через синь неба. Оно несёт в себе солнце – это если смотреть с земли. Если с точки зрения самого неба, то именно солнце выхватывает небо из тьмы, делая его видимым, чувственно воспринимаемым, явным, иными словами, существующим.
Так, обычное небо, солнце, облака, свет и его отражения в земных водах – лучшая и самая первая нерукотворная икона, которая была дана Христом человеку в напоминание о своём грядущем ещё Воплощении.
Далее. Мотив встречи. Он настолько важен для славянской (и, шире, индоевропейской) ментальности, что на уровне фольклора обретает своё олицетворение. Такова, например, Среча из сербской сказки. Её противоположность – Несреча, которая «тонко нить судьбы прядёт». Если опустить некоторые рефлексии славянского сознания (которые нашли воплощение, к примеру, в среде богумилов) в сторону дуализма, то надо сказать, что нить судьбы всё-таки прядётся и в отсутствие Встречи. Невстреча – это не полное отсутствие Встречи, это, скорее, Недо-встреча. Это во-первых, а во-вторых, Встреча понимается как благая Доля (судьба), по-индийски – Бхага (у славян *Bogъ). Итак, «благая доля» в индоевропейском языковом контексте обозначается неким Событием, соединением разрозненных частей, вне которого мы наблюдаем ситуацию «недобытия» или, говоря иначе, ситуацию отчуждённого Бытия или отчуждения от Бытия. Здесь есть над чем поразмыслить. Для начала отметим самый, наверное, простой аспект – то, как Встреча раскрывает себя в символе. Символ – двойная вещь (на греческом – σύμ-βολον, «выброшенный вместе»), первоначально обозначение синергии Божественного и человеческого, позднее жребия – вместе выброшенных вещей, вместе закинутых в мир. Символ – это окно от человека к Первообразу. Это также Toπος, сакральное место их Встречи. Ключ, который подходит к замку. Так, Символ ещё и то, что открывает дверь в мир Принципов. Но чтобы дверь раскрылась, должен прийти Вопрошающий. Без него символы умирают, превращаясь сначала в аллегорию, а затем в бессмысленное украшение – безделушку, и нить судьбы становится тонка. Всё так…Но! Небесная половина Символа никогда никуда не исчезает и всегда ждёт нашего Возвращения.
Ф. М. Достоевский в одном из своих романов («Бесы») влагает в уста некой старицы слова: «Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость». Это довольно известный пассаж, и упомянутую бабушку обвиняют то в вульгарном материализме, то в причастности к традиции индийской Веданты. И это совсем не безосновательно, ведь не прошло и полвека после публикации романа, а русская неоязыческая реакция, «обогатившись» царствующим на Западе «культом Кибелы», вылилась в кровавый пожар Революции, которая увенчала Кремль красными пентаграммами – Drudenfuss, «Лапами Ведьмы».
Мы ещё подробно поговорим об этом. Здесь просто вкратце отметим, что же, собственно, произошло. Е. В. Головин определил данную проблематику следующим образом: «Есть серьёзные основания считать современную науку очень точным продолжением чёрной магии, только если убрать из чёрной магии её спиритуальный аспект. […] Если убрать всё это у Роджера Бэкона, Альберта Великого и Парацельса, то мы получим весь инструментарий современной науки»[1].
С этим не поспоришь. И вот сейчас зададим себе вопрос: а что если вернуть современной науке (для которой, по словам Мартина Хайдеггера, «есть только сущее, а кроме него Ничто») её спиритуальный аспект? Попросту говоря, превратить набор прикладных знаний во всепронизывающее Мировоззрение. То самое и получим – чёрную магию, «культ Кибелы», безраздельное царство именно её логоса. «Мать-Природу» – безначальную, всё-решающую, над всем довлеющую, вечную, нерождённую, все-порождающую. Так, творению мы припишем качества Абсолюта и материю превратим в Творца.
Ведьмы, Кибелы, Революции… Всё это было приведено для того лишь, чтобы показать, как могут протекать события, когда из окошка европейской ратуши начинают смотреть сверху вниз на высокогорные пики континента «Русь» и объяснять интенции Севера умозрительными концептами Запада. Поговорим лучше о хорошем. О собственно Севере.
«…Нордическая тема отождествлялась в Элладе с темой Туле, таинственной северной страны, называемой иногда „Островом Героев“, „Страной Бессмертных“, где правит белокурый Радамантис, и „Солнечным Островом“ – thule ultima а sole nomen habens (лат.), воспоминания о котором долгое время оставались настолько живыми, что в преданиях говорится, что Констанций Хлор выступил со своими легионами в Британию не столько ради воинской славы, сколько для того, чтобы в своём апофеозе власти приблизиться к месту, являющемуся „более святым и более близким к небу“, чем любое другое», – так говорит о таинственной Северной Земле Юлиус Эвола в своём «Языческом империализме». И продолжает далее: «Сила Традиции из видимой превратилась в невидимую, стала тайным наследием, передаваемым по тайной цепи от немногих к немногим. И сегодня о ней догадываются только единицы, сквозь неясные предчувствия, ещё слишком человеческие и слишком материальные»[2].
Валерий Брюсов в своём замечательном стихе, написанном накануне «русского пожара», в 1915 году, ещё более усиливает это ощущение Тайны:
Где океан, век за веком стучась о граниты,Тайны свои разглашает в задумчивом гуле,Высится остров, давно моряками забытый, —Ultima Thule.[…]Остров, где нет ничего и где всё только было,Краем желанным ты кажешься мне потому ли?Властно к тебе я влеком неизведанной силой,Ultima Thule.«Далёкая Тула» знает о поэте всё, он и есть – океан, влекомый Leide Stern, «Путеводной Звездой» (так называли Полярную звезду в Нижненемецких землях) к её берегам. Но свою Тайну она хранит за твердью гранита. Это и есть тот самый «открытый вход в закрытый дворец короля», о котором сообщает алхимик Ириней Филалет. Врата, которые всегда открыты для тех, кто их видит. Почему же не видим мы? Всё, как всегда, просто – мы сильно привыкли к темноте, где глаза вообще ни к чему, да так, что позабыли о том, что они вообще у нас есть. И случилось это уже давненько. Около 500 лет, спустя тысячелетия методичного и планомерного обучения мы наконец стали всматриваться исключительно в линию горизонта, думать о том, «а что же будет там», ждать, пока Солнце коснётся Земли прощальным вечерним лучом. Говоря иными словами – замечать лишь историю вещей этого дольнего мира, не задумываясь о них самих. И вот сейчас, вслед за Хайдеггером, мы ставим иной вопрос: «А почему они есть?» Не о том, откуда взялись, и не о том, куда уйдут, и не о том, из чего состоят, а о том, как они есть, а вместе с ними и мы сами. И мысль замирает в Тайне вопрошания, разум склоняет свою голову, слова умолкают в предчувствии чего-то очень важного. Мы роемся в своей памяти и вспоминаем только одно греческое слово – исихия…
Заглянем сначала в словарь древнегреческого языка: ἡσυχία – «спокойствие, тишина, уединение», а после посмотрим на героя русской сказки «По щучьему велению» – Емелю. Ничего не делает, молчит да на печи лежит… И вдруг раз – получает всё, включая дочь царя. У добропорядочных граждан – «добытчиков», разумеется, никаких положительных эмоций такой герой не вызовет. Иное дело – дети. Им гораздо полнее открыты смыслы, «замыленные» для глаз потребителей общественных благ.
Попробуем разобраться, что к чему. И, во-первых, заметим, что, вообще говоря, поведение Емели напоминает поведение Атоса из романа «Три мушкетёра». Когда капитан королевских мушкетёров г-н де Тревиль оповестил о начале военных действий в Бретани, то к этому известию, согласно предписанию, прилагалась и необходимость приобретения всех принадлежностей экипировки. И поскольку у графа де Ла Фер денег не было совершенно, то «он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение». Более того, он заверил друзей (а в его словах ни у кого никогда не было повода сомневаться): «Нам остаётся две недели. Что ж, если к концу этих двух недель я ничего не найду или, вернее, если ничто не найдёт меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пулю в лоб, затею ссору с четырьмя гвардейцами его высокопреосвященства или с восемью англичанами и буду драться до тех пор, пока один из них не убьёт меня, что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля, и, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке». И здесь нужно заметить, что ниже в книге имеется целая глава с названием (приводим дословно): «VIII. Каким образом Атос без всяких хлопот нашёл своё снаряжение».
Аристократичность Атоса, что называется, налицо. Выходит, что и Емеля близок к его архетипу. Но это не всё, и это не главное. По-настоящему важное скрыто в той магической формуле, которую наш герой произносит, чтобы исполнить свои «прихоти», и которая, собственно, и вынесена в заглавие сказки: «По щучьему веленью, по моему́ хотенью». Та же самая фраза повторяется в духовном стихе о Егории Храбром, но в более архаичной форме: «По Божьему веленью, Егорьеву моленью». Да и сам стих сюжетно повторяет намного более ранние мотивы, связанные с Волх[в]ом – прародителем воинско-жреческого сословия славян. Поэтому и леность Емели существует не сама по себе, а только как внешнее проявление его презрения к материальному благу, свойственное высшей касте. Именно поэтому и именно эти блага просто «ложатся в руку» Емеле по причине того, что он обладает иерархически более значимыми и вышестоящими качествами. Это обладание и обеспечивает, подобно цепной реакции или принципу фракталов, обладание благом низлежащего уровня.
Взгляд обывателя всегда цепляется за «внешнее», ему недоступна изнанка процесса и внутренняя трансмутация индивида. Ведь, согласитесь, есть, к примеру, очень значимое различие между тем, что можно совершать добрые дела, а можно просто быть добрым. Добрые дела могут быть мотивированы чем угодно, даже самым злейшим злом. К тому же к добрым делам можно принудить, ввести их в правило и даже вывести на уровень автоматизма. Иными словами, им можно обучить с помощью социально-психологических методик и усвоить их как некий навык. Совсем иначе дело обстоит с внутренней добротой, которая есть самый глубокий self человеческого существа и которая врождённа или достижима только с помощью мистической трансмутации.
Чтобы ещё лучше понять тайную изнанку событий, вспомним вот такую историю. 1087 год от Рождества Христова, Миры Ликийские. Сорок семь вооружённых людей, еретиков и иноземцев вторгаются в православный храм. Связав монахов, разбивают церковный помост, извлекают мощи Святителя Николы и, завернув в верхнюю одежду одного из нападавших, скрываются в темноте… Как расценить их поступок по обычному человеческому разумению? Думаю, это очень понятно и не требует пояснений. Понятно, почему этот день не любят вспоминать в Греции…
Однако, вспомним, чем был отмечен XI век для Восточной Римской Империи. Эта была эпоха войн с турками сельджуками, которые неоднократно опустошали города Малой Азии. И город Миры не был исключением. Поэтому в итальянской Апулии купцы на свои деньги собираются в опасную морскую экспедицию. Они знают о явлении Старца с предсказанием об опасности уничтожения мощей. Знают они и то, как греки воспримут их «инициативу». И, тем не менее, эти самые «безбожники» спасают мощи Святителя, увозя их к себе в Бари.
Так нам приоткрывается величайшая тайна Промысла Божьего, и мы начинаем понемногу осознавать, что воистину короток ум человеческий, и смысл многих событий мы начинаем понимать только спустя столетия… И, в принципе, раз начинаем, то уже это одно очень хорошо.
Часть 1. Прообраз империи
К вопросу индоевропейского монотеизма
Считая вопрос об изначальном индоевропейском монотеизме одним из наиболее актуальных исторических вопросов, думаю, что необходимо представить ряд разъяснений, касающихся проблем исторической конкретики, а именно вопроса о монотеизме древних троянцев накануне великой войны. Сразу следует отметить, что речь идёт не о чём-то таком, только-только открытом, но об очевиднейших фактах, до сих пор известных, к сожалению, довольно узкому кругу интересующихся этим вопросом исследователей Традиции. «Некоторые вещи скрывают сами себя», – так говорил основатель традиционализма Рене Генон, и «троянский монотеизм» – как раз одна из таких вещей.
Мы уже упомянули о французском мыслителе Рене Геноне. Именно ему принадлежит честь связного и последовательного изложения теории изначального монотеизма. Робко и фрагментарно она высказывалась и ранее, но в качестве цельного и проработанного концепта была сформулирована именно в рамках философии традиционализма.
Собственно, всё это направление первоначально западной мысли основывается на двух парадигмах. Во-первых, на беспощадном отрицании современного мира и его ценностей. Один из фундаментальных трудов Генона так и называется – «Кризис современного мира». Нелишне будет напомнить, что само греческое слово κρίσις, понимаемое сегодня обычно как «сложный, переломный момент», в древнегреческом значило «судебное решение», и название упомянутой книги, на наш взгляд, было бы правильнее переводить на русский именно как «Суд современному миру». Это осуждение вынесено Геноном в первую очередь в отношении «эволюционизма» и «прогресса», лживо приписываемых Священной Традиции. На самом деле традиционное знание никогда не развивалось от худшего к лучшему, от примитивных форм к более «развитым». Оно может лишь деградировать (чаще), либо уточняться (подобно «преспеянию» Православной Традиции).
Во-вторых, традиционализм утверждает тезис о едином Полюсе Традиции. Этот Полюс одновременно понимается и как место (циркумполярная северная прародина), и как ноуменальная реальность. Там, по словам Юлиуса Эволы, «навсегда достигнута высшая точка, и… „солнечная“ духовность вечно властвует над низшими силами»[3].
Другими и более простыми словами, полюс – это и вполне реальная территория, а также и вполне реальная Изначальная Традиция человечества. При этом принцип единого земного полюса выступает как образ Единого Неотмирного Абсолюта. Так происходит потому, что земное и чувственно воспринимаемое в оптике Традиции всегда вторично по отношению к реальности метафизической, которая, собственно, и является незримым основанием всего сущего.
Теперь поговорим о собственно троянской традиции. Дело в том, что все исторические (и при этом очень немногочисленные) факты из тех, что дошли до нас, были донесены не носителями самой Традиции, а позднейшими информаторами, относящимися к иным формам Богопочитания и, как следствие, несущими иные формы мировоззрения. Например, то, что мы по преимуществу встречаем в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, – это всё уже подпадает под определение «эллинского многобожия». И поскольку иного восприятия сакрального Гомер не знал (вернее говоря, не сам Гомер – он-то как раз знал, не знали те, кто позднее передавал его священные песни), то и не мог описать эту Традицию, описать адекватно её собственному содержанию.
В целом ситуация в историографии типологически напоминает ту, с которой современная астрофизика сталкивается в вопросе о «тёмной материи»: мы видим действие некой огромной массы, заставляющей галактики вращаться быстрее, но мы совсем ничего не знаем о частицах, из которых она сложена. Иначе говоря, мы почти ничего не можем сказать о том, что или Кого чтили троянцы, но можем утверждать на основании косвенных данных, кого они не признавали богами. Именно так следует понимать слова Геродота о родственном троянцам племени пеласгов, которые «не призывали по именам отдельных богов» («История» II, 52). Греческий историк, разумеется, ставит это им в укор, но так происходит только потому, что для него единственной известной формой Богопочитания являлось «эллинское многобожие». Иного он попросту не знал.
Учитывая характерный в культовой практике индоевропейцев генотеизм (в отличие от литературной мифологической традиции), а именно фактическое поклонение одному божеству с одновременным игнорированием остальных, и памятуя о том, что, согласно греческому преданию, троянцам особо благоволил Аполлон, мы можем рассмотреть некоторые характерные черты его культа, известные из исторических источников, которые, быть может, позволят за фигурой исторического Аполлона увидеть Его изначальный прообраз. Среди огромного фонда имеющейся на этот счёт литературы можно выделить доклад Клаудио Мутти, зачитанный им на конференции Against Post-Modern World в 2011 году[4].
В частности, итальянский исследователь говорит следующее: «Плутарх использует фигуру […] Аполлона для обозначения божественного единства и уникальности. В диалоге „О дельфийском „Е“ предлагается интерпретация буквы Е (эпсилон), которая была начертана над входом в дельфийский храм Аполлона; согласно объяснению учителя Плутарха – Аммония, E, читаемая как ei, совпадает со вторым лицом единственного числа настоящего времени глагола eimi (быть), что означает, таким образом, высказывание: „ты еси“. Сказанная Богу, который убеждает человека познать самого себя (фраза «познай себя» – gnothi sauton – была начертана на входе в святилище), формула „Ты еси“ является признанием Аполлона синонимом единого Бытия. „Вот почему [как говорит Плутарх. – А. И.] следует почитающим бога обращаться к нему с приветствием: „Ты еси“ или даже, клянусь Зевсом, как обращались некоторые древние: „Ты един“. Ведь Божественное не есть множественность, как каждый из нас, представляющий разнообразную совокупность из тысячи различных частиц, находящихся в изменении и искусственно смешанных. Нет, необходимо, чтобы Бытие было единым, так как Единое должно быть Бытием. Отсюда первое, второе и третье имя бога. Он – Аполлон, он – Йей, что означает он – один и единственный, Фебом же древние назвали его из-за полной чистоты и непорочности, как ещё теперь фессалийцы, я полагаю, говорят о жрецах, когда в запретные дни те живут изолированно, что они „одержимы благодатью Феба“. Единое – непорочно и чисто; а при смеси одного с другим образуется миазма, как где-то и Гомер говорит, что „слоновая кость, будучи выкрашена в красный цвет, грязнится“, и красильщики называют „смешивать краски“ – „быть погубленным“, а смесь – „гибелью“. Итак, вечно неизменному и чистому присуще быть единым и несмешанным». Следующий метод толкования основан на символическом значении элементов, составляющих мир. Плутарх считает, что имя Аполлона может быть истолковано как соединение приватива «а» и корня polys, polle, poly (многое, множество); следовательно, «Аполлон» означает «без множества». Подобно этому эпитет Аполлона «Йэй» (Ieios) соотносится со словом heis – «один», в то время как эпитет «Фэб» (Foibos) этимологически связан с faios – «светлый», «изливающий свет, чистый», то есть «несмешанный». Следовательно, божественная сущность Аполлона является символом единого и уникального принципа вселенской манифестации, а именно «высшим Я» всего существующего. Следуя Плутарху, Нумений из Апамеи (II век) интерпретирует эпитет Аполлона «Дельфийский» как древнегреческое слово, означающее «один и единственный» (unuset solus).
В данном случае интерес вызывает именно трактовка образа Аполлона как Единого принципа Бытия. Что касается этимологии, то на самом деле имя позднегреческого Аполлона связано с индоевропейским обозначением «яблока» (ср. индийское jambu, английское apple, валийское afal) и находит свои параллели в образе Белена или Белиса континентальных кельтов, кельт-иберийского божества Абелиона, этрусского Апулу или Аплу, скандинавского Фора и божества континентальных германцев Фоля (эпитеты Бальдра). Для праиндоевропейского времени вполне надёжно реконструируется образ «Яблоневого [Бога]», что находит полное соответствие в Православии в именовании Христа «Яблоневым Спасом [Спасителем]». Но что действительно важно в мысли итальянского автора, так это то, что уже изначально заложенная в культе «Яблоневого [Бога]» интенция к толкованию его образа как единого Принципа единого Бытия, в эпоху поздней античности легла в основание распространения многочисленных синкретических культов солярного божества по всей Римской империи[5].