История кладов войны 1812 г. Том 2. Издание 2-е переработанное и дополненное
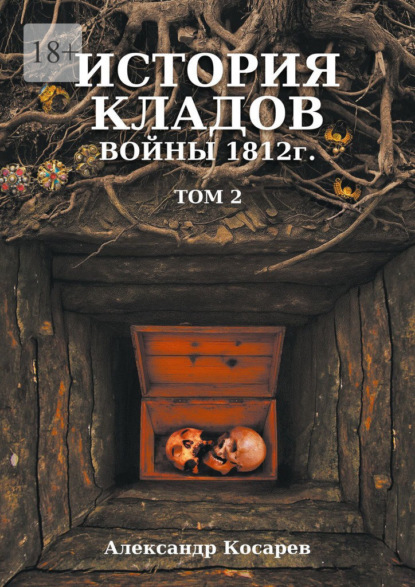
- -
- 100%
- +
Надо сказать, что истинный смысл определённой части исторических событий становится понятным далеко не сразу. Иные деяния весьма известных персонажей остаются загадкой несколько десятков лет или даже сотен лет, обычно до тех пор, пока не будут рассекречены ранее спрятанные в секретных архивах документы. В полной мере это относится к одному таинственному эпизоду времён Отечественной войны 1812 года. А вышли мы на него именно вышеописанным способом, т.е. занимаясь как-то на досуге сравнительной картографией. Далее же события разворачивались следующим образом.
Во время обследования центральной части Смоленской области (в те времена ещё губернии) нами был выявлен странный водоем. Довольно большое даже по сегодняшним меркам водохранилище, длиной порядка километра и шириной не менее 400 метров (около плотины), некогда было устроено на одном из правых притоков реки Вопь. Но вот в чём загадка. На карте 1811 года оно присутствует во всей своей красе, а вот на карте 1814 года данное озеро отсутствует совершенно! Просмотр местности со спутника так же дал ещё большую пищу для размышлений. На месте некогда масштабного водохранилища отыскался лишь крохотный прудик, а самое главное – старая плотина выглядела с высоты так, будто её некогда преднамеренно разрушили мощной бомбой прямо по центру.
Само собой напрашивался вывод о том, что плотина была уничтожена именно во время Отечественной войны 1812 г.! Но кем и для чего? Ведь в данном месте не велись длительные и масштабные бои, а происходили лишь кратковременные стычки. Да и сама-то река Вопь упоминалась в истории той войны лишь однажды. О ней писали в связи с крайне головоломной переправой через неё 4-го итальянского корпуса при отступлении Великой армии Наполеона из Москвы. Невольно возникла мысль о том, что данные события могут быть как-то связаны между собой? Ведь из хроник той войны известно, что пасынок французского Императора пытался транспортировать большие ценности!
Словно охотники, неожиданно увидевшие вожделенную дичь, мы принялись спешно собирать информацию по этой переправе и очень скоро однозначно убедились в том, что наткнулись на самую настоящую кладоискательскую тайну. В самом деле. Зададимся простым вопросом, кто именно и почему мог взорвать нашу плотину? Претендентов на подобного рода диверсию вырисовывалось как-то совсем немного.
1. Плотину специально взорвали некие «партизаны», чтобы воспрепятствовать переправе французов.
2. Плотину рванули сами французы с тем, чтобы затруднить переправу вероятным преследователям корпуса Богарне.
Требовалось срочно найти подтверждение либо той, либо иной гипотезе, и мы с новой надеждой углубились в изучение исторических документов. И чем глубже в них погружались, тем запутанней выглядела вся эта история с откровенно странной переправой. Начать хотя бы с приказа от 2 ноября 1812 направленного Эжену Бонапарту императором Франции. Смысл послания принцу был таков. Тому следовало срочно переправиться через Днепр, принять под свою охрану ожидающие его обозы, с которыми ему следовало немедленно отправляться в город Витебск.
Подобный приказ бил, что называется не в бровь, а в глаз! Почему бы Евгению (Эжену) не следовать вместе со всей армией до уже совсем недалёкого Смоленска, откуда дорога на Витебск куда как лучше по качеству и гораздо короче? Непонятно! Зачем ему для столь неудачного (со стратегической точки зрения) бокового манёвра придавалась дивизии Груши (кавалерийская) и Пино (опять же кавалерийская)? Он что, должен был совершать масштабные рейды по тылам русской армии? Но в том-то и дело, что там не было никаких крупных контингентов русской армии. Только казаки атамана Платова нестройными толпами носились по правую руку от Старой Смоленки, предусмотрительно стараясь не вступать в серьёзные схватки с регулярными войсками французской коалиции.
К тому же, как бы вскользь упомянутые обозы, напрочь лишали Вице-короля какой-либо подвижности, своей вполне прогнозируемой медлительностью. Довольно скоро один из членов нашей поисковой команды наткнулся на ещё один удивительный исторический факт. В отрыве от общего контекста, он выглядел обычным военным эпизодом, коими изобилуют любые боевые действия. Но именно он оказался удивительнейшим образом связан с историей исчезновения огромного водохранилища. Начну своё повествование опять же несколько издалека, с цитаты из сборника документов о ходе военных действий.
«… атаману Платову сообщили, что 4-й корпус вице-короля Евгения Богарне покинул Смоленскую дорогу и движется на Духовщину. Туда же направлялся на Можайск обоз с парком тяжёлой артиллерии французской армии, отправленной Наполеоном ещё из Москвы, множество штабных повозок и офицерских экипажей. Платов во главе пятнадцати полков начал преследование. За два дня казаки захватили 64 орудия и свыше трёх тысяч пленных, причём рапорте атамана отмечалось: «… брато в плен мало, а более кололи».
На этом месте необходимо немного остановиться и кое-что уточнить. Атаман Платов был вообще, как бы это поделикатнее выразиться, человеком весьма буйной фантазии. Имея под ружьём 15 полков кавалерии, он не только не препятствовал движению итальянского корпуса, но и в определённой степени даже способствовал его более быстрому продвижению. Те три тысячи пленных в докладе это были по большей части не солдаты Великой армии, а именно гражданские беженцы, которые при налёте казаков на хвост отходящей от Днепра смешанной колонны отступающих, в панике бросились бежать обратно к Дорогобужу. Но куда могут убежать какие-то там гражданские лица от многочисленных конных сотен? Правильно, никуда! Вот их-то атаман и выдали впоследствии за военнопленных, надеясь на то, что разбираться подробно никто не будет.
Точно такой же финт Платов провернул и с французскими пушками. Когда его разведка доложила об обнаружении 64 орудий, стоящих вдоль дороги на Засижье без какой-либо охраны, он немедленно отправил Кутузову соответствующую победную реляцию, в которой настаивал на том, что это он де отбил их у французов. Главнокомандующий русской армии в свою очередь поспешил дезинформировать императора следующим донесением: «Казаки делают чудеса, бьют на артиллерию и пехотные колонны…». Но нет, друзья мои, итальянский корпус продвигался вперёд, практически не имея серьёзных боестолкновений с «преследователями».
Откуда я это знаю? Да из личных писем самого Богарне, которые были перехвачены при задержании его курьера. Он вполне откровенно писал Наполеону обо всех своих трудностях, поскольку ответственность на самом вице-короле лежала просто колоссальная. Вот, кстати, и строки из его письма: «… Сии три дня стоили нам две трети артиллерии целого корпуса. Вчера пали 400 лошадей, а сегодня их погибло, может быть, вдвое больше, не включая великого количества тех из них, которые я велел прибавить из военных и частных обозов. Целые упряжки вдруг погибали, многие переменены до трёх раз. Сегодня корпус наш в следовании своём не был тревожен. Мы видели только нескольких казаков без артиллерии, что мне кажется неестественным, и если верить донесению одного вольтижёра, посланного для добычи, то полагать должно, что одна колонна пехоты, артиллерии и кавалерии следует по одному с нами направлению, то есть на Духовщину…».
Другими словами корпус Богарне с приданными ему дивизиями Пино и Груши шёл как бы сам по себе, но впереди, а полки Платова гарцевали позади него тоже сами по себе, занимаясь тем, что подбирали отставших и оприходовали брошенное французами имущество. Но тогда у нас возникает иной вопрос: – Что же именно так бережно сохранял Богарне на марше? Ведь он сам пишет о том, что забирает лошадей у частных лиц, у артиллерии, у воинских колонн. Забирает и ставит вместо уже павших сотен животных, тех самых которые до этого момента перевозили более важную поклажу! Да, их число действительно измерялось именно сотнями! И всем им требовалась срочная замена, ведь ценность тайного груза была куда как выше бронзовых стволов и чугунных ядер.
Посчитаем для примера, сколько животных удалось высвободить французам, оставив на обочине некоторую часть своей артиллерии. 64 тяжёлые пушки на марше требовали не менее 15 лошадей в каждой упряжке. Если их отцепить, то одномоментно высвобождалась почти тысяча тягловых животных! Эта тысяча (в четвёрках) была способна тянуть не менее 250 хорошо нагруженных повозок, которые (оказывается) не принадлежали ни воинским частям, ни частным лицам, ни частям артиллерийской поддержки.
Так что вывод мы делаем вполне однозначный – Евгений Богарне, прежде всего, был обязан любой ценой спасать несколько сотен повозок некоего особого обоза, которые ему доверил император Франции, видимо не без оснований рассчитывая на то, что его пасынок как никто другой справится со столь деликатным поручением. И именно атаман Платов своим скромным бездействием всячески способствовал тому, что какое-то время этот план исполнялся в точности. Однако и на старуху бывает проруха. Весьма хитро задуманный манёвр итальянского корпуса, транспортирующего основную часть московских трофеев, едва не сорвался на самой своей решающей стадии.
Довольно скоро Евгению стало понятно, что при столь катастрофической погоде, и столь же катастрофическом падеже лошадиного поголовья он рискует никогда не достигнуть Витебска, даже несмотря на то, что его корпус пока не ощущал никакого серьёзного противодействия со стороны русских войск. Ведь каков был первоначальный план всей операции? План Генерального штаба французов состоял в том, чтобы на каком-то этапе вообще отрезать 4-й корпус от его преследователей. Каким же образом всё это можно было осуществить в условиях тотального отступления? Задумка французов была весьма нетривиальна и была осуществлена с поистине дьявольским размахом. Для осуществления этой незаурядной операции к Духовщине был направлен генерал Сансон с примерно полутысячей саперов, возчиков и пехотинцев, служащих так же и для охраны данного подразделения.
Надо тут же заметить, что во время Русской кампании именно генерал Сансон был главой топографического бюро Генерального штаба. Следовательно, никто кроме него не знал столь хорошо ту местность, по которой проходила отступающая от Москвы Великая армия. Скорее всего, именно он сам и предложил подорвать плотину водохранилища в ту пору раскинувшегося на правом притоке реки Вопь у деревни Воротышино. Каждому понятно, к каким последствиям мог привести внезапный сброс огромной массы воды, в русло в общем-то не особо широкой Вопи. Водяной вал в одночасье уничтожил бы не только ледяной покров на реке, но и снёс бы все пригодные для переправы мосты!
Однако поскольку корпус Богарне сильно опоздал с переправой своего корпуса через реку в районе Ярцево, внезапный подъём воды отрезал его самого от тех войск и большей части ценного обоза, которые уже успели перейти на правый берег реки. Так что вместо переправы он продолжил свой путь к Духовщине. С одной стороны ему нужно было дождаться спада внезапного «половодья», а с другой (при случае) отыскать подходящий для переправы брод. А что же наш славный Платов? Надо полагать, он не медля ни минуты, ринулся вдогонку уходящему корпусу противника? Ничуть не бывало, его казаки вполне удовлетворились грабежом многочисленных частных карет и повозок, брошенных около самого Ярцево!
А что же затем случилось с генералом Сансоном, который вполне успешно воплотил свой план в действие? Вот что о его судьбе написал всё тот же атаман Платов в своей очередной победной реляции.
«С правой стороны моей у г. Духовщины г-м. (генерал-майор) Иловайский 12-й, (10 ноября, 26 по ст. ст.) с бригадой его также поразил сильно неприятеля, взяв в плен неприятельского ген.-аншефа начальника главного штаба всех армий Самсона и более 500 человек разных чинов, которые отправлены им в г. Белый, а генерал Самсон доставляется ко мне, которого долг имею доставить…».
Сансон, будучи допрошен на тот предмет, что он собственно делает столь далеко от маршрута продвижения основных сил своей армии, показал, что он-де ничего такого не делал, лишь из чистого любопытства осматривал берега всё той же многострадальной Вопи. Врал, конечно, смотреть на речные берега людям в его звании дозволительно лишь в мирное время, в военную же пору лицам подобного ранга можно лишь плотины взрывать!
Итак, господа читатели, вы не находите, что налицо имеется некая кладоискательская загадка, или, если хотите, тщательно оберегаемая тайна? Собранная в одной точке фактология происходивших на тот момент событий, однозначно указывала на то, что часть корпуса Евгения Богарне переправившись через Вопь, в одночасье и на несколько дней оказалась в совершеннейшей изоляции. Внезапно вскрывшаяся река уничтожила не только ледяной покров, но и надёжно отрезала столь тщательно оберегаемые обозы от вездесущих казаков атамана Платова и Дениса Давыдова. Мало того, приданные корпусу дивизии (Груши и Пино) были выдвинуты в такие районы, которые позволяли полностью перекрыть весьма немногочисленные в этих местах дороги. Тем самым подвижные соединения французов исключали внезапное появление в некоем районе на правом берегу Вопи не только российских воинских контингентов, но даже и случайных гражданских лиц. Иными словами было создано недоступное для посторонних глаз пространство, где можно было свободно заниматься некими тайными делишками, пребывая в абсолютной уединённости и безопасности!
Несколько слов следует сказать и о географических особенностях данной местности. Прежде всего нужно заметить, что прилегающий к Вопи участок Смоленской области представлял собой северную оконечность громадного лесного массива протянувшегося от современной трассы Ярцево – Смоленск (трасса М-1) на юг не менее чем на 40 километров. В ширину данное лесное образование так же занимает изрядное пространство, исчисляемое в меридиональном направлении от семи до двадцати километров. Местность сильно пересечённая и даже теперь крайне малонаселённая. Но вместе с тем не сильно заболоченная, поскольку располагается на возвышенности, являющейся водоразделом. В общем, по ней даже поздней осенью могли успешно передвигаться тяжелогружёные повозки…
Раньше я искренне полагал, что значительную часть своей поклажи Богарне всё же попрятал на маршруте Дорогобуж – Ярцево, но многочисленные экспедиции, весьма тщательно прочесавшие окрестности данной трассы, со всей очевидностью показали – ничего существенного здесь брошено не было. Отыскивались небольшие частные кладики, барахло всяческое, некие несущественные мелочи, показывающие, что французские войска здесь действительно продвигались, но ничего масштабного и стоящего найдено не было. Не было и следов чьих-то раскопок, указывающих на то, что нас некогда опередили более шустрые конкуренты. О чём это могло говорить? Да только о том, что почти все вывозимые из-под Дорогобужа ценности ушли-таки за Вопь! Но поскольку в Смоленск они точно не прибыли, то, следовательно, они остались лежать в непроходимых лесах своеобразного «смоленского» треугольника образованного селениями: Пологи – Кардымово – Соловьёво (Пнёво).
Но как же узнать, где именно исчезли телеги с десятками тонн трофейной поклажи? Задачка была явно не для простых умов, а лишь для настоящих профессионалов. Вспомнили о том, что значительную часть вывозимых из Москвы сокровищ составляли именно изделия из серебра. Ионы зарытого в землю серебра крайне подвижны и легко распространяются подземными водами на большие расстояния. Спросим теперь сами себя: – А куда впоследствии попадают подземные воды? И сами себе же и ответим: – Попадают данные воды в открытые источники, и никуда более! Следовательно, для того чтобы хотя бы приблизительно определить район залегания циклопических масс серебра нужно проанализировать воды местных рек и ручьёв на содержание ионов серебра!
Скажите – совершенно неподъёмная задача! А вот и нет, как оказалось она вполне осуществима. В конце концов, данную территорию пересекает весьма незначительное количество водных потоков. Речки Хмость, Лосьмена, Водва, Большой Вопец, Малый Вопец и ещё пара ручьёв меньшего калибра, вот и все те места, где следовало провести срочную гидрологическую разведку. Для этого достаточно было лишь зачерпнуть из них бутыль воды и как можно скорее отправить в специализированную лабораторию для химического анализа. Современная высокочувствительная аппаратура со всей возможной ныне точностью указала бы на аномальное содержание искомого металла именно в акватории конкретного источника. Обнаружив подобным образом реку с заметным превышением содержания серебра, нужно было далее двигаться вверх по её течению, отбирая следующие порции воды через каждый (допустим) километр или два. Таким образом, можно было бы постепенно сузить район поисков до относительно небольшого пятачка, прочесать который более тщательно было бы не так сложно и затратно.
Так мы и поступили. Выбранный способ поиска был, конечно же, не слишком дорогим с финансовой точки зрения, но зато потребовал на своё осуществление весьма длительного времени. На всё про всё у нас ушло более полутора месяцев, но полученные результаты превзошли самые смелые ожидания! В какой-то момент была найдена река, буквально кишащая ионами драгоценного металла, а так же то место в её течении, после которого сверхординарное серебро будто исчезало вовсе. Что характерно, именно в данной точке в речную долину врезался маленький ручеёчек, вдоль верховьев которого и проходила одна их старинных дорог, функционировавших в 1812 году. Нетрудно было догадаться о том, что именно со стороны прорезанного этим ручьём овражного массива и происходит сброс ионов серебра, обнаруженный нами ранее лабораторным путём.
Стремительно приближалась зима, и на полноценное прочёсывание громадной овражной системы у нас оставалось слишком мало времени. Так что до того времени как выпал первый снег, нам удалось сделать только один двухдневный выезд. Во время его нашей маленькой команде не удалось прочесать (и даже толком осмотреть) все подозрительные места, но его величество «Случай» нам благоволил. При очередной «прозвонке» прилегающего к ручью леса, одному из операторов посчастливилось наткнуться на мощную металлическую аномалию, совершенно не характерную для пустынной и, можно даже сказать, первобытной местности. Данные приборов недвусмысленно говорили о том, что под нашими ногами находилась очень большая масса металла, зарытого в траншее с примерными размерами 1,5 на 2,5 метра.
Поскольку времени на раскопки было крайне мало, решено было свернуть все прочие поиски и полностью сосредоточиться только на данной находке, т.к. каждая пара рук была на счету. Идея оказалось верной, поскольку яму пришлось выкопать почти на три метра в глубину. Что интересно, практически постоянно в довольно рыхлом грунте попадались куски плохо сгоревшей древесины, а так же превеликое множество мелких углей. Впрочем, это я так, к слову, ведь и так понятно, что на месте первоначального котлована французы вынужденно разводили костры, чтобы хоть как-то прогреть почву. Гораздо интереснее было то, что же было обнаружено на глубине ямы.
А лежали там ранее не виданные нами предметы. По форме они чем-то напоминали небольшие кирпичи, но только это были не они. Лишь подняв один из них на поверхность и отмыв водой из фляги, мы поняли, с чем именно столкнулись. В наших руках оказался явно металлический «слиток», который на самом деле был вовсе не отлит, если так можно выразиться, а откован! Иными словами неведомые нам хитрецы изготавливали плотные бруски металла, заколачивая разрозненные предметы из довольно мягкого серебра в некую стандартную форму тяжёлой кувалдой. Вскоре стало понятно, что состоят данные поковки из окладов икон, монет, крестиков, цепочек, и множества иных, уже неидентифицируемых предметов.
Смотреть на подобное варварство было довольно неприятно, ведь все эти подсвечники, кадильницы и лампадки некогда составляли достояние русского народа, в какой-то момент безжалостно уничтоженное до состояния примитивного лома заезжими оккупантами. Невольно зашёл разговор о том, что Европа России вовсе не друг, и даже не товарищ. Не была другом раньше, и, конечно же, не является им и теперь. Особенно при этом досталось французам.
– Мне всегда было интересно, – вопрошал один моих соратников, – исходя из каких критериев Францию включили в число стран-победителей во Второй мировой войне? Они что и в самом деле хоть день сражались за общую победу над фашизмом? Да нет же, всё на самом деле было совсем наоборот. Французы, эти жалкие пожиратели лягушек, на всех фронтах бились со странами антигитлеровской коалиции. И в Африке с англичанами, и в составе экспедиционного корпуса германского Вермахта дрались в России…, и на тебе, они тоже победителями оказались!!! Я уж не говорю о том, что именно они, двуличные гады, явились организаторами войны 1812 года, а впоследствии принимали самое активное участие в грабеже нашей страны в послереволюционные годы! Пидорасы они и мерзавцы последние, а не победители! Гнусные рантье и скупердяйские жухалы! И наши доморощенные политиканы им ещё улыбаются, комплименты расточают и ручки пожимают…
– Политика – дело изначально тёмное, – постарался я утихомирить разбушевавшиеся страсти, – нам с вами вовек не разобраться. По мне так суть большой политики в основном состоит в том, чтобы тот, кому ты сам нагадил, не мог бы нагадить тебе в ответ ещё больше. Так что давайте-ка лучше подумаем над тем, что делать со всей этой серебряной массой? Судя по самым приблизительным оценкам лома здесь тонны на две – три, никак не меньше. Увезти сейчас с собой даже десятую часть будет весьма проблематично. Мы сюда даже по сухой погоде еле-еле заехали, а уже часа три как дождь поливает…
Угроза застрять в лесу на ночь глядя, была вполне реальна, и поэтому было решено оставить основную часть нашей находки на месте её обнаружения. Взяли с собой только тот единственный «кирпич», который извлекли на поверхность первым. Просто было интересно поработать с ним в спокойной обстановке, попытаться разобрать его на составные «компоненты». Так что, потратив ещё около часа на засыпку траншеи и маскировку следов нашего пребывания в этом еловом лесу, мы поспешно отбыли восвояси. Ведь каждый из нас понимал, что мы нащупали, (очень даже возможно) самый незначительный по массе тайник, некогда устроенный итальянским корпусом Эжена Бонапарта.
Конечно при первой же возможности наши изыскания в подозрительном районе «Завопья» были продолжены. И вслед за первой находкой последовали другие. Самой же замечательной из них стало обнаружение рукотворной канавы, размером где-то 6 х 9 метров, и глубиной до косой сажени! Разумеется, впоследствии он был тщательно засыпан и даже наверняка тщательно замаскирован. Мало того, на нём давно росли деревья, толщиной в обхват – полтора! Трудно даже было представить себе, сколько же всяческого антиквариата было уложено в эту громадную ямину осенью 1812 года. Но, несмотря на то, что любопытство буквально распирало нас изнутри, с раскопками решили не спешить. И в самом деле. Быстро вытащить несколько десятков тонн ценностей было невозможно физически. Для начала на этом месте следовало выстроить какое-то капитальное строение, ведь нам предстояло проработать в нём несколько месяцев. А прежде чем приступить к строительству, нужно было как-то договориться с местными властями, выкупить землю, завести брёвна и доски, возвести забор…
В общем, вместо начала раскопок пришлось тщательно уничтожить всяческие следы нашего пребывания в данном месте и начать подготовку к его полномасштабной разработке. Иными словами в дальнейшем нам несомненно предстояло вернуться на это место чтобы продолжить свою исследовательскую работу по очередному кладоискательскому эпизоду Отечественной войны окончившейся более 200-т лет назад.
***А теперь я хочу рассказать ещё об одном безуспешном послевоенном поиске. Речь в нём пойдёт в главе:
«Клад Баденского солдата»
Надо сразу же заметить, что иноземных визитёров, рассказывающих устно и описывающих письменно примерно одни и те же кладоискательские истории, было немало. Что удивительно, значительное их количество составляли не сами участники Великого похода, а их дети, племянники или даже зятья. Не имея даже понятия о том, как трудно что-то отыскать на необъятных российских просторах, они рвались туда, откуда едва вырвались их пожилые родственники, в надежде на быстрое обогащение. Мне известно лишь одна достоверная история, когда спрятанный в земле клад был благополучно найден родственниками тех, кто его некогда и прятал. Эта история описана мной в главе: «Касса генерала Жюно». Впрочем, повторяться я не намерен и поэтому давайте продолжим обзор дошедших до нашего времени исторических документов и рассмотрим новую историю некоего баденского солдата.
Суть документа под номером 4 была такова. В декабре 1835 года один баварец испрашивал высочайшего разрешения на прибытие в Гродненскую губернию для отыскания нескольких бочек с золотом, зарытых в 1813 году участниками похода на Россию. Баварец этот был прикомандирован к двум французским казначеям в качестве смотрителя за войсковой амуницией. Он утверждал, что: – Сии казначеи, опасаясь, что будут преследуемы и непременно настигнуты, взяты в плен и лишены остальной их казны, зарыли в одном месте Гродненской губернии, где они уже несколько дней находились, все деньги в пяти бочках.





