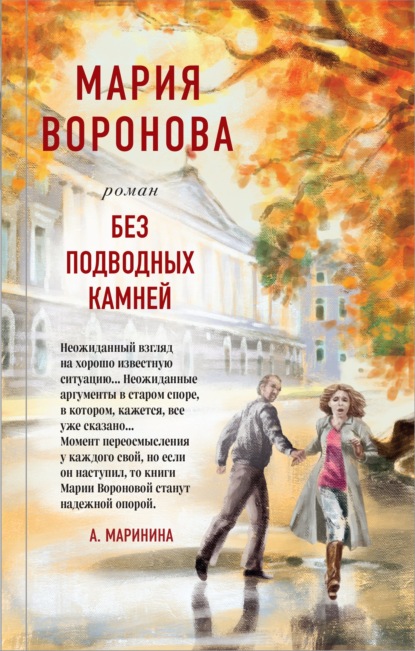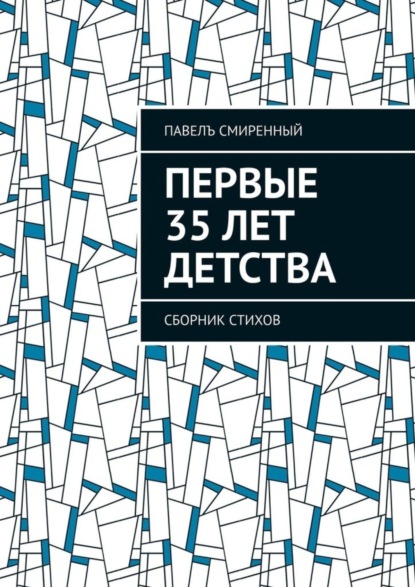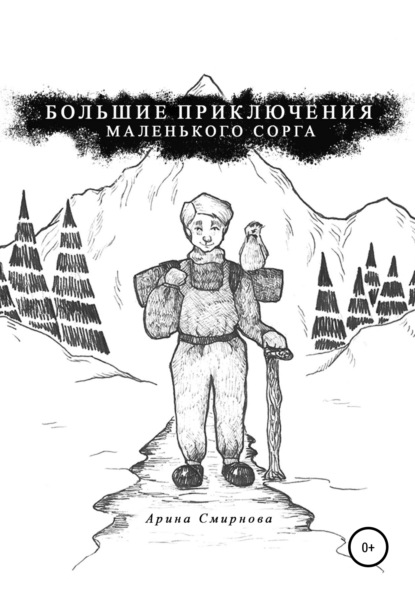История кладов войны 1812 г. Том 2. Издание 2-е переработанное и дополненное
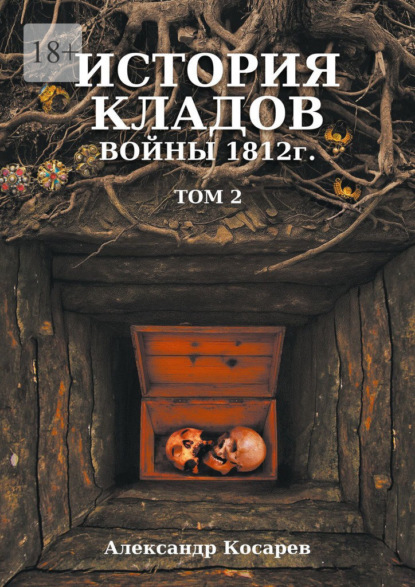
- -
- 100%
- +
Не готов пока подсказать где следует искать данные бочки, для меня, как и для Вас, это пока загадка. Но искать их следует где угодно, но уж точно не в Гребенях. К тому же слово «Гребень» это слово из южнорусского диалекта (а, следовательно, и украинского и польского) и означает оно гать, или земляной вал от воды, а никак не населённый пункт (Поинтересуйтесь на этот счёт в Толковом словаре Даля). Так что, как я и предполагал с самого начала, Вы искали там, где ничего не было и в помине. Вот потому-то ничего и не нашли. Но ничего, не расстраивайтесь, это не страшно и не обидно. Я и сам сто раз ошибался.
Но вот что меня беспокоит по-настоящему. Ведь у Гражданского Губернатора города Смоленска в руках был живой свидетель – кассир Ковалевский. Если он собственными глазами видел, пусть и издалека где закапывались бочки, то совершенно непонятно почему их не нашли впоследствии? Это очень подозрительно. Очень! Я понимаю, за несколько лет вполне можно позабыть точное место раскопа. Но сам регион не изменился. Ради двух бочек золота можно было перекопать и площадку размером 150х150 метров. Расходы на рытьё оправдались бы сполна. Но почему-то этого сделано не было? Тайник должны были обнаружить по любому и непременно! Если конечно его не очистили ранее те, кто в отличие от Ковалевского не смотрел, а непосредственно закапывал. Вполне возможно, что кто-то из них действительно выжил и вернулся в Россию раньше бывшего кассира.
К тому же сами показания этого странного поляка вызывают у меня массу вопросов. Ясно только одно – этот тип врал всем и каждому, стараясь ненароком не выболтать свою тайну. Он ведь наверняка планировал всё выкопать по-тихому и то, что его замела полиция, заставило его сочинять на ходу «отводную» версию и всячески изворачиваться. У меня большие подозрения в том, что он попросту водил за нос всех краснинских и смоленских чиновников. Вот потому-то монеты и не нашли. Здраво порассуждав, я просто не нахожу иного объяснения постигшей наших старорежимных копателей неудачи…».
Таким образом, в расследовании Дела о «гребешках» мы пока продвинулись недалеко. Единственно в чём удалось преуспеть, так это в том, что мы выяснили однозначно, что пресловутая «деревня» Гребени не имеет с двумя бочками золота никакого отношения. И данная гипотеза возникла у коллеги из С-Петербурга точно так же, как в свое время из-под пера прекрасного писателя Салтыкова-Щедрина возник виртуальный поручик «Киже».
Но, уважаемый читатель, настоящий охотник за старинными тайнами не может удовлетвориться ответом отрицательным, а тем более неопределённым мычанием и пожиманием плечами. Нет! Его основная задача довести всякое дело и всякую легенду до логического конца, имея на руках даже такие сомнительные исходные предпосылки. Он по статусу своему, и по роду деятельности непременно обязан выяснить правду и установить скрытую в пучине веков истину, причём однозначно и неоспоримо. А поиск истины в данном случае заключался в том, чтобы вначале теоретически вычислить одно или несколько мест, где в принципе могли быть закопаны бочонки, а затем с помощью приборов электронной разведки установить там наличие под землёй солидной массы цветного металла. Это как программа максимум. Как минимум нужно было пройти те же районы пешком без какого-либо оборудования и удостовериться в том, что клад вблизи Красного если и был спрятан Ковалевским, то возможно уже вынут кем-то ранее.
С чего же следовало начать разматывать данную головоломку? А начать следовало с повторного изучения докладной записки Ковалевского. Хотя мы с моим научным консультантом прекрасно понимали, что поляк во время допросов лгал налево и направо, но, тем не менее, при изучении документов создавалось такое ощущение, что масштаб его лжи был ограничен изначально. На каком-то этапе, в каком-то крохотном эпизоде он всё же говорил правду. Но весь ужас заключался в том, что кусочек правды он огласил только Петрашкевичу, причём на том этапе, когда их доверительные отношения только-только завязывались, и о полной откровенности не могло быть и речи. Иными словами Ковалевский мог сообщить своему новоявленному компаньону только самые общие сведения о месте будущих раскопок. Он, как человек довольно осторожный, мог сообщить тому только самые туманные сведения касательно их совместных работ. Его речь могла звучать примерно так: «Пойдём (поедем) мы с тобой вскоре на одну речку и там, вблизи от моста есть земляной вал. Вот недалеко от него и зарыто золото».
Такая постановка вопроса вполне имеет право на жизнь. Ведь именно эти предварительные приметы «иудушка» Игнатий Петрашкевич и сообщил в полицию. И все дальнейшие поиски, равно как и раскопки 1820 года тоже велись на какой-то речке, вблизи какого-то моста. Присутствовала там и насыпь. То ли она вела к мосту, то ли действительно была частью некого защитного сооружения, пока было неясно. Но зато было предельно ясно, что бочонки были спрятаны именно около какой-то реки. От этой, уже озвученной Петрашкевичу версии, наш основной свидетель, скорее всего, отойти уже не мог. Поведи он чиновничью комиссию в чистое поле или ближайший лес, как тут же его недавний «компаньон» мгновенно уличил бы его во лжи. Ковалевский просто обязан был играть свою рискованную игру таким образом, чтобы не вызвать у сопровождающих его лиц ни малейшего подозрения в преднамеренной неискренности.
По трезвому разумению только его данные о том, что клад был действительно зарыт и зарыт недалеко от переправы через какую-то реку, и можно было считать единственно надёжной путеводной ниточкой в нашем расследовании. Что же дальше? А дальше следовало расстелить на столе карту Смоленской области выпуска 1812 года и, начиная от самого города Красный, медленно двигаться по направлению к Смоленску. При этом движении не следовало упускать ни малейшей речки, либо ручейка, мимо которого проходил, отступая из Москвы, конный польский корпус князя Понятовского.
Первой на этом пути нам встречается речка (а скорее ручеёк) Мерейка, которая течёт буквально в ста метрах от ближайшей городской улицы. Далее, в 2,5 километрах восточнее городских окраин несёт к Днепру свои быстрые воды речка Лосвинка (бывшая Лосмина). Далее река Всшесна и, наконец, Дубрава, вблизи селения Старая Жорновка. Всё, стоп. Дальше мы не двинемся ни на шаг. Не понимаете почему? Да только потому, что польский корпус (в одной из дивизии которого и служил Ковалевский) вышел на тракт Смоленск – Красный именно там, около Старой Жорновки!
Я выписал все четыре речки в столбик, и именно в этот момент меня неожиданно охватили жестокие сомнения.
– Хитрый полячина, – подумалось мне, – вполне мог повести комиссию в совершенно неверном направлении от города. Да, да! А почему бы и нет? Он вполне мог притворно направиться на восток, на ту же самую Мерейку (чтобы долго не бить ноги), когда на самом деле ему бы следовало идти, а то и ехать на запад!
Посомневавшись не более пяти минут, я вновь пододвинул к себе карту и уверенной рукой внёс в список ещё четыре реки. Вписал саму реку Свиная, реку Добрую, приток реки Лупы у деревни Синяки и для верности второй приток Лупы – Комаровку. Затем вновь перечитал весь список. Не было ни единой более или менее существенной зацепки, которая помогла бы выделить из всех этих речек ту одну, единственную, заветную. Практически возле каждого моста неоднократно происходили крупные заторы французских обозов. Почти в любом подобном месте налетали на них казачьи отряды, поливая возниц свинцом и утаскивая их в плен арканами. К тому же вблизи многих переправ были устроены либо подъездные насыпи, либо мельницы, либо защитные земляные валы, позволяющие избежать наводнений во время весеннего половодья. Чтобы выбрать для подробного электронного обследования один или два наиболее подходящих места, мне следовало безотлагательно выехать в район города Красного и произвести тщательнейший осмотр всех намеченных целей и полигонов.
Я встал из-за стола, подошёл к окну и долго смотрел на заваленную сугробами улицу. С одной стороны ехать нужно было прямо сейчас. В таком случае, я как бы оказывался на месте г-на Ковалевского (со товарищи), которые зарывали свои бочонки именно в такую преотвратную погоду, – размышлял я. Но с другой стороны места старых раскопов можно будет увидеть, только когда сойдет снег, но ещё не вырастит трава. Последнее соображение перевесило все прочие доводы, и выезд на полевые работы я предварительно наметил на конец апреля. К этому времени (я знал об этом ранее) в Смоленской области уже сходит снег, но маскирующий все подробности травяной покров не успевает вырасти выше 10—12 сантиметров.
До выезда в «поля» времени было много, но какой-либо уверенности в правильности выбора направления в поисках у меня не было совершенно. Оставалось какое-то тягостное ощущение незавершённости и слабости выявленных поисковых ориентиров. Гребли, Грабли, Гребешки, – крутилось у меня в голове, – вот тоже мне дурацкая загадка! Возможно, истинное значение этого слова и не далеко подвинет нас в расследовании, но, во всяком случае, несомненно, укажет на то место, где проводились поиски в 1820 году. Во всяком случае, можно будет понять, на какой же именно реке производились первоначальные раскопки. Но что же оно означало в оригинале? Никаких озарений по этому поводу не приходило и оставалось только ждать, ждать и ещё раз терпеливо ждать…
Впрочем, ожидание надолго не затянулось, неожиданный телефонный звонок, прозвучавший поздним вечером 17 марта, разом вывел меня из состояния пассивности.
– Александр Григорьевич, – срывался в трубке голос моего соратника по поисковым вопросам, – свершилось! Теперь я точно знаю, что такое «Гребли» и какое они имеют отношение к двум бочонкам! Как встретимся, я Вам всё расскажу!
Неделя ожидания встречи пролетела мгновенно, и вот, наконец, раздался долгожданный звонок в дверь. Через несколько минут, когда гость разделся и уселся за стол, я ловко подсунул ему заранее раскрытый на нужной странице атлас Смоленской области.
– Ну, и где же Ваши «гребли-грабли»? – спросил я, едва сдерживая волнение.
– А вот они! – ткнул он пальцем в речку Всшесна, протекающую как раз восточнее Красного. Но, разумеется, на современной карте ничего такого мы не увидим, но в доказательство моей теории я привёз тебе карту 1817 года. Вот видишь? – протянул ко мне гость небольшой листок старинной карты изображающей ход одной из битв кампании 1812 года. Если ехать от Смоленска к Красному, то именно вблизи узенького мостика через Всшесну французские колонны ожидал неприятный сюрприз. В некотором отдалении за переправой их уже ожидала засада генерала Милорадовича, который решил отличиться перед государем столь дерзкой выходкой. На каком-то этапе его план удался. У тесного мостика через в общем-то совсем неширокую речку скопилось громадное количество войск и экипажей, которые быстро запрудили площадь в несколько гектаров. Но на счастье французов вверх по течению данной реки была устроена плотина, за которой разливался приличных размеров пруд.
Обнаружив плотину, солдаты коалиционной армии и транспортные колонны повалили туда, благо от моста данная «гребля» была на расстоянии всего в четверть километра. Милорадович был отброшен от дороги, и движение по трассе возобновилось. Считаю, что речь идёт именно об этой плотине, ведь всякая гребля, это то, что нагребли, т.е. насыпали. Большое скопление повозок это раз, – принялся загибать пальцы мой собеседник, кровавая стычка с нашими войсками, в которой могли быть убиты лошади кассового фургона, это два. Далее мост, через реку, близкая к нему насыпь, да и сама плотина как удачно подвернувшийся ориентир. Ведь именно об этом месте мог говорить Ковалевский на допросе. К тому же Всшесна не так далеко от самого города Красный, всего в десяти верстах. Так что эта местность относилась именно к этому городу, а не к Смоленску. И что самое замечательное, – предупреждающе поднял гость указательный палец, – припомни-ка, быстренько, откуда был родом поляк Петрашкевич?
– Откуда… родом? – недоумённо переспросил я, совершенно не понимая, какое это может иметь отношение к нашему делу. Кажется, он был не из Красного. Откуда-то из провинции…
– Он был писарем Мерлинской волости! – перебил меня собеседник. А где у нас, то самое Мерлино? Да вот же оно, – вновь постучал он пальцем по тому же месту на карте, – стоит всего в километре от этого моста и от этой насыпи! Ты понимаешь теперь, почему Ковалевский отыскал именно его, этого Петрашкевича? Да только потому, что тот писарь жил вблизи того места, где были зарыты бочонки, и мог, как местный житель, что-то там такое делать вблизи прудовой плотины, не опасаясь немедленного разоблачения!
– Гениально, – только и смог произнести я в ответ, – просто потрясающе! Теперь всё кажется более или менее ясным. Нападение Милорадовича на головную часть обозной колонны, кассиры, свернувшие к плотине, в ужасе прячут бочонки вблизи насыпи. Сами они частично гибнут при обстреле, а частично попадают в плен. Живых кассиров утаскивают с собой казаки, а уж затем французы делают прорыв, и пробивают себе дорогу. Но они ничего не знают о золоте и скорее торопятся попасть в Красный. Обретя свободу через несколько лет, Ковалевский ради конспирации поселяется в городе, но, то и дело появляется вблизи Мерлино. Проверяет, целы ли его бочки и заодно ищет напарника из местных поляков… просто гениально. Решено, как только земля подсохнет – поеду в Мерлино, пощупаю, что лежит в этой плотине, или как Вы её называете, «гребле».
Читатели, наверное, сейчас подумали, что через какой-то месяц я уже грёб золото лопатой. Ах, если бы всё было так легко и просто, то все старинные клады давным-давно бы отыскали, причём задолго до меня. На самом же деле история о таинственных «Гребешках» ещё только-только начиналась.
Поиски, я имею в виду работу непосредственно на местности, удалось начать только 30 июня. И первым конечно же был изучен полигон вблизи Мерлино. От той плотины, что некогда образовывала на Всшесне красивый пруд, к нашему времени не осталось и следа. Пришлось отмерять расстояние для полигона прямо от автомобильного моста, причём брать его с изрядным запасом. После чего было просканировано всё немаленькое пространство от украшенной старинными берёзами дороги до речного берега.
Результат меня не порадовал совершенно. Да, было найдено два увесистых пушечных ядра, но никаких следов золота (равно как и старых ям) обнаружено не было. Пришлось вновь садиться в машину и выдвигаться ближе к Красному. Впереди были речки Лосвинка и Мерейка. Но первая речка, с которой я был знаком ранее, вряд ли могла представлять интерес для искателей «гребней». Никаких насыпей на подходе к тому месту, где ранее через неё был некогда переброшен деревянный мост, не наблюдалось. Но делать было нечего и пришлось битых три часа бродить по речной долине, пытаясь уловить хоть какой-то отзвук металла из-под земли. Тщетно, здесь было абсолютно пусто. К тому же испещрённая мелкими ямками почва недвусмысленно показывала мне, что совсем недавно здесь уже работали неизвестные мне поисковики.
Значит на дороге Красный – Смоленск оставалась последняя надежда – речка Мерейка. И действительно. Данная речушка была украшена на диво длинной и достаточно широкой насыпью, протянувшейся не менее чем на 80 метров. Тщательно и неторопливо я прочесал всё доступное мне для работы пространство, но и здесь ничего кроме двух крышек от канализационных колодцев отыскать не удалось. Требовалось остановиться и как-то осмыслить полученные отрицательные результаты.
Перетряхнув в памяти все военные эпизоды, связанные с боями вокруг Красного, я припомнил один очень любопытный момент. Вот как в действительности могли происходить события, вылившиеся впоследствии в «Дело о гребешках». Польская дивизия Зайончика 30 октября (н.с.) ночевала в селе Червонном, а 31 октября на рысях двинулась в Красный, до которого было около 30-и вёрст. В Красном же находился небольшой польский гарнизон, который охранял город с августа 1812 г. Вслед за ней выдвинулась польская же артиллерия и обозы. Ранним утром 2-го ноября повозка кассира Ковалевского (перевозившая изрядную кучу золота) остановилась на гребле, земляном валу, насыпанном при въезде в г. Красный (на восточном берегу ручья Мерейка). Проехать далее было невозможно. Узенькая дорожка в город так сильно обледенела и была столь крута, что лошади не могли одолеть подъёма и лишь понуро мотали головами, несмотря на угрожающие возгласы возниц и щёлканье кнутов. Нужно было ждать того момента, когда запрудившие дорогу экипажи продвинутся хоть немного вперёд…
Неожиданно со стороны уже близкого города послышались орудийные залпы и оживлённая стрельба из ружей. Застрявшим в овраге возницам не было видно, что там происходит, но столь интенсивная перестрелка явно не предвещала ничего хорошего. На самом деле это на штурм города пошёл отряд графа Ожеровского, имевший в своём составе пехоту, отряд конницы и батарею из шести пушек. Не ожидавшие нападения с тыла, да ещё в столь ранний час, французы дрогнули и начали отступать. Но отступать они могли только в сторону тощего мостика через Мерейку, т.е. в сторону Смоленска. Другой дороги из города просто не было! И когда бегущие начали пачками бросаться с крутого берега в забитый экипажами овраг, Ковалевский принял решение срочно зарыть оба бочонка. Куда-либо уехать они просто не могли, поскольку спереди и сзади них стояли десятки телег и фургонов, а справа и слева расстилалась засыпанная снегом и абсолютно непроходимая речная долина.
Какие же приметы мог использовать попавший в передрягу кассир, чтобы запомнить место захоронения? В его распоряжении их было совсем немного. Сама насыпь и примерные отрезки дороги до самого моста и может быть до восточного съезда к реке. Вот собственно и всё. Может быть, он успел прикатить какой-то валун и навалить его на свежераскопанную землю? Возможно, но маловероятно, времени у него было совсем немного. Ведь едва засыпали яму, как на противоположном склоне замелькали высокие казацкие папахи, и бой разгорелся непосредственно у реки. Не зря же Ковалевский говорил на допросе о том, что двое его товарищей были убиты. Они как раз и были убиты в том утреннем бою, в котором он, видимо, постарался уцелеть, спрятавшись под свой опустевший фургон. Казаки спешно повязали захваченных пленных, и незамедлительно погнали их в центр города для допроса и последующей отправки в тыл.
А как раз в это время со стороны Смоленска к городу Красному вплотную придвинулась гвардейская дивизия генерала Клапареда, который конвоировал московские трофеи, казну и обоз Главной квартиры Императора. Отряд казаков и несколько малокалиберных пушек были для него несерьёзной преградой, и он вскоре расчистил себе дорогу в город. Отряд Ожеровского отступил с главной дороги и остановился на ночлег в деревне Кутьково. А нежданно-негаданно попавший в плен кассир Ковалевский так ничего и не смог сообщить впоследствии о только что спрятанном кладе своим соплеменникам, бережно храня в памяти события того дня в течение нескольких последующих лет.
Казалось, всё было предельно ясно. Золото давно отыскали либо потомки самого Ковалевского, либо потомки тех солдат, с которыми тот и прятал бочонки. Данная история была благополучно списана мною в архив и вскоре, увлечённый новыми, не менее захватывающими расследованиями я и думать забыл о пресловутых «греблях». Но к моему величайшему удивлению легенда о двух бочонках всплыла вновь.
Как раз была суббота, я был дома и в тот момент, когда я жарил картошку для скромного обеда, в дверь позвонили. Оказалось, что пришёл почтальон и принёс присланные мне заказным письмом ксерокопии некоторых редких документов и целого ряда старинных карт. Торопливо рассыпав их по столу, я почти сразу же наткнулся взглядом на изображение городка Красный, увидев его таким, каким он был в начале 19-го века. В общем, не раз виданным мною план города почему-то вдруг показался чем-то отличным от привычного исторического макета. И это странное отличие заинтересовало меня в тот момент необычайно. Минут пять я сидел неподвижно, вглядываясь в блеклое изображение, как вдруг меня словно осенило…
– Так вот что Ковалевский имел в виду, когда говорил о Гребле, воскликнул я, стукнув кулаком по бумажному листу, – вот почему впоследствии никому из поисковиков не удалось отыскать спрятанные им бочки!!!
Однако на этом месте я хотел бы прервать свой рассказ и дать читателям редкую возможность самим разгадать тайну клада кассира Ковалевского. Уверяю Вас, что для этого Вам понадобятся всего две вещи. Всего две карты окрестностей Красного приведут Вас к заветной цели. Одна современная, а другая издания 1817-го года. Приведут, разумеется, только в том случае, если проявите чуточку терпения и наблюдательности. Удачи Вам…
***Новая глава и новое историческое расследование, связанное с нескончаемыми поисками старинных московских кладов. Назову её:
«Забытый гетман»
С момента опубликования мною самых первых заметок, касающихся разнообразных кладов, сформированных и спрятанных во времена Отечественной войны 1812 года, прошло, наверное, лет 20, а письма, так или иначе касающиеся тех далёких событий, всё ещё продолжают поступать на мою почту. Вот одно из них…
«Это дело было найдено в одном из белорусских архивов и досталось мне не в виде ксерокопий с листов, а только в устном весьма подробном изложении сути самой истории. По всей видимости, значимость данного дела просто посчитали ничтожной. Представляю вашему вниманию эту позабытую историю.
В 1837 году в канцелярию Витебского, Могилёвского и Смоленского генерал-губернаторства обратился с прошением некий дворянин по фамилии Жгерский. Он уведомлял губернатора о том, что несколько лет назад, перед своей смертью, ему доверил тайну клада один из ветеранов наполеоновской армии, служивший в 1812 году в дивизии князя Юзефа Понятовского. Вкратце история, поведанная ветераном Жгерскому, сводилась к тому, что во время осеннего отступления Понятовский останавливался на непродолжительное время в некоем доминиканском монастыре города Шклова. Там он наведался на могилу героя Речи Посполитой начала 17 века – гетмана Александра Ходкевича и неподалёку от неё приказал закопать наиболее ценные трофеи, захваченные поляками во время похода на Москву…
Очевидно, находившийся при смерти ветеран настолько подробно и красочно описал Жгерскому приметы того места, где был захоронен клад, что тот решил на свой страх и риск самостоятельно завладеть трофеями дивизии Понятовского. С этими намерениями он приехал в Шклов, но к тому времени доминиканский монастырь был уже разрушен. Веря в свою счастливую звезду, Жгерский проявляет завидное упорство в поисках хотя бы малейших следов места захоронения клада. Ему удаётся разыскать бывшего монаха Марка, который даёт ему подробные ориентиры расположения могилы Ходкевича на территории собора. Найдя её, он убеждается в достоверности ориентиров места захоронения клада. Но, не имея возможности пробраться к нему сквозь каменные обломки и руины самостоятельно, Жгерский решается доверить тайну местным властям, рассчитывая на солидное вознаграждение в случае успеха.
Рассмотрев прошение, генерал-губернатор (Дьяков Пётр Николаевич, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, сенатор) нашёл содержащиеся в нём сведения заслуживающими внимания и направил в Шклов своего адъютанта – подполковника Романовича. Ему предписывалось на месте тщательно проверить сведения, поступившие от Жгерского и в случае их соответствия, извлечь из земли московские сокровища Понятовского!
Подполковник Романович, как человек достаточно образованный, не бросился по приезде в Шклов на пару с Жгерским спешно перекапывать монастырские развалины. Прежде всего, он занялся тщательной проверкой имевшихся у него фактов. Им было установлено, что место захоронения гетмана Ходкевича действительно находилось на территории доминиканского монастыря, а в списке его монахов за 1831 г. действительно числился некий монах Марк Домбровский.
Из этого следовало, что место, на которое указывал в своём прошении Жгерский, действительно посещалось ветераном одной из дивизий Понятовского, иначе откуда бы он мог знать точные приметы той местности, достоверность которых подтверждались монахом того же монастыря! Однако дальнейшая проверка выявила одну важную деталь, которая полностью разрушила правдоподобность версии захоронения в Шклове московских трофеев Понятовского.
Как следует из рапорта подполковника на имя генерал-губернатора, от 4 декабря 1837 г., князь Юзеф Понятовский в 1812 году действительно посещал г. Шклов и несколько дней прожил в доме местного еврея – Ицки Раскина, но данный факт имел место быть во время похода на Москву, а вовсе не по время отступления из неё! Таким образом, он никак не мог оставить в Шклове каких-либо ценностей»!
Вот и мне, как человеку, немного изучавшему ход и основные события Отечественной войны 1812 года, было крайне удивительно узнать, что подполковник и, как написано, образованный человек Романович, не знал о том, по какому маршруту отступала армия Наполеона и польский корпус Понятовского в том числе. Казалось бы, совсем недавние боевые действия, которым все военнослужащие были фактически очевидцами или участниками, должны были бы знать их назубок, а уж офицеры тем более! Ведь от Барани, ближайшего к Шклову населённого пункта, через который действительно шли отступающие коалиционные войска, было от него километров сорок, не менее! Мотаться туда-сюда только затем, чтобы что-то там такое закопать, командир корпуса просто не имел ни малейшей возможности! Ведь за время этой «поездки» он мог десять раз попасть под удар «казацких» сотен, предводимых широко известным воякой – Денисом Давыдовым!