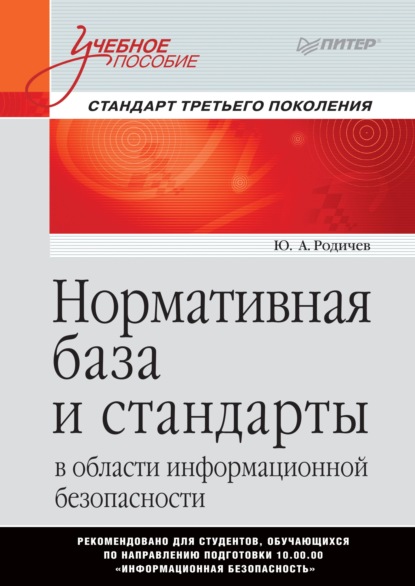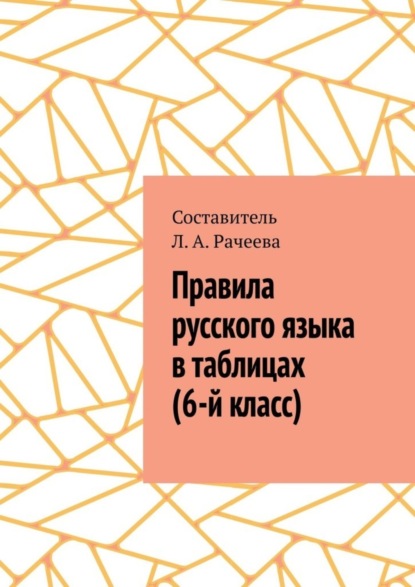Проект «R.I.M.M.A»: – R.

- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ.
РИММА

Трава мягко шелестела под ногами, откликаясь на каждый шаг, будто живая и внимательная. Она была густой, насыщенно-зелёной, тёплой от света, и в ней не чувствовалось ни утренней сырости, ни вечерней прохлады – в Вальхалле всегда стоял один и тот же ясный, ровный день, лишённый времени и тени усталости. Солнце здесь не поднималось и не клонилось к закату: оно просто было – высоко, спокойно, щедро разливая свет.
По саду, раскинувшемуся широкими аллеями и скрытыми тропами, неспешно прогуливались мама и дочь. Сад был наполнен тишиной, в которой не было пустоты: она дышала шелестом листвы, далёким плеском воды и редким пением птиц, не знающих тревоги. По обе стороны дорожки возвышались величественные статуи – ангелов с расправленными крыльями, воителей с опущенными мечами, магов с книгами и посохами. Их каменные лица были спокойны и сосредоточенны, словно каждый из них всё ещё нёс свою службу, даже превратившись в память.
Свет скользил по их плечам, цеплялся за вырезанные в камне руны, оживляя узоры и придавая им мягкое золотистое сияние. Казалось, если прислушаться, можно уловить отголоски давних шагов, звон оружия или шёпот заклинаний – но сад хранил свои тайны молча.
Мама и дочь шли рядом, не спеша, будто им некуда было торопиться. Здесь никогда не торопились.
Мама шла легко, будто сад подстраивался под её шаг. Её движения были неторопливыми, уверенными – такими бывают движения тех, кто никуда не спешит, потому что знает: всё уже происходит именно так, как должно. Золотистое платье мягко колыхалось при ходьбе, длинный подол скользил по траве, не оставляя следов. Руны, вплетённые в ткань, не светились и не пульсировали – они просто были, как часть самой материи, как дыхание или тепло.
На её руках – тонкие нарукавники, украшенные теми же символами, что и корсет. Высокие сапоги облегали ноги плотно, но не сковывали движений. Диадема на голове была простой, без излишней роскоши, и удерживала светлые волосы, ниспадавшие кудрявыми прядями до самой талии. В её облике не было холодного величия правительницы – скорее спокойствие и сила, которые не нуждались в доказательствах.
Иногда она останавливалась, чтобы взглянуть на статуи, иногда – чтобы прислушаться к дочери. И каждый раз, когда Римма задавала вопрос, на губах матери появлялась одна и та же мягкая, чуть усталая улыбка – не от раздражения, а от понимания.
Римма шла рядом, крепко держа её за руку. Она была одета почти так же – королевский закон не допускал различий, – но платье дочери было длиннее, будто оставляя пространство для роста. Руны на ткани казались тоньше, менее строгими, словно ещё не до конца определившимися.
Римма действительно была копией матери: те же светлые волосы, те же черты лица, та же ясная линия взгляда. Но в её глазах жило не спокойствие – в них жило постоянное движение. Любопытство, которое не умело сидеть на месте. Вопросы, которые рождались быстрее, чем ответы.
Она смотрела на статуи не как на украшения сада, а как на загадки. Иногда замедляла шаг, иногда почти останавливалась, наклоняя голову, словно пытаясь уловить что-то, что не было слышно. Её взгляд задерживался на деталях – на трещинах в камне, на стертых рунах, на том, как свет ложился на крылья или клинки.
Римма задавала вопросы миру так же естественно, как дышала.
Миру – да.
Но не матери.
С матерью она говорила иначе. Спокойно. Доверчиво. Так, как говорят с тем, кто точно знает больше, но не станет торопиться с ответом.
И мать это чувствовала.
Иногда ей казалось, что Римма уже стоит на пороге – не между детством и взрослением, а между мирами. И этот порог становился всё тоньше с каждым днём.
Римма некоторое время шла молча. Она разглядывала сад, статуи, свет между листьями – будто собирала всё это в голове, складывая в один большой, пока ещё неоформленный вопрос. Потом остановилась и слегка потянула мать за руку.
– Мама… – сказала она неуверенно, будто опасаясь, что вопрос может оказаться слишком большим. – А как всё это вообще появилось?
Мать посмотрела на неё внимательнее, чем прежде. Не с удивлением – скорее с тем особым спокойствием, которое приходит, когда понимаешь: этот разговор всё равно однажды должен был начаться.
– Ты хочешь услышать легенду? – спросила она.
Римма кивнула.
Они остановились у края аллеи, где дорожка расходилась в две стороны. За их спинами оставался сад, впереди – светлая даль, скрытая мягкой дымкой. Мать медленно опустилась на каменную скамью, жестом приглашая Римму сесть рядом.
– В самом начале, – начала она тихо, – не было ни света, ни тьмы. Не было даже времени. Было только намерение.
Римма нахмурилась.
– Чьё?
Мать чуть улыбнулась.
– Это первый вопрос, на который никто не знает ответа. Кто-то говорит – самого мира. Кто-то – тех, кто был до него. А кто-то считает, что намерение возникло само, потому что иначе просто не могло быть.
Она посмотрела вперёд, словно видела то, о чём говорила.
– Это намерение разделилось. Не на добро и зло – так люди всё слишком упрощают. Оно разделилось на порядок и движение. На сохранение и изменение. На то, что удерживает, и то, что толкает вперёд.
– Как вдох и выдох? – осторожно предположила Римма.
– Именно, – кивнула мать. – Свет стал тем, что сохраняет. Тьма – тем, что проверяет. И между ними появилась Земля. Мир людей.
Римма остановилась и взглянула на маму очень внимательно. Выжидая.
– А люди знали об этом?
– Нет, – ответила мать. – И в этом была их особенность. Их не создавали для того, чтобы они понимали устройство мироздания. Их создали для того, чтобы они выбирали.
– Даже если выбирают неправильно?
Мать повернулась к дочери.
– Особенно тогда.
Она помолчала, давая словам улечься.
– Люди не владеют магией так, как мы, – продолжила она. – Зато они владеют чем-то другим. Не знаю как объяснить тебе это, ведь ты еще маленькая, чтобы понять этого…Способностью ошибаться и жить с этим. Способностью менять себя, даже когда кажется, что уже слишком поздно.
Римма задумалась.
– Но почему тогда есть вы? И папа? И Пограничье?
– Потому что любой мир нуждается в равновесии, – ответила мать. – Свет не может существовать без тени. Тьма – без границы. А человек – без выбора. Пограничье – это место, где эти вещи соприкасаются. Где решается, кем ты становишься.
Римма посмотрела на статуи. На ангела с опущенными крыльями. На воина, который не поднимал меч.
– Значит, – тихо сказала она, – мы не управляем миром?
Мать мягко коснулась её плеча, откинув запутавшиеся волосы.
– Нет. Мы лишь следим, чтобы он не рухнул раньше времени.
Римма долго молчала, размышляя, затем сделала пару шагов и снова остановилась.
– А если кто-то захочет заглянуть туда, куда не следует?
Мать вздохнула – почти незаметно.
– Тогда миру понадобится тот, кто это заметит.
Римма улыбнулась. Совсем чуть-чуть.
– Мам… – сказала она после паузы. – А почему люди ничего этого не чувствуют? Почему они не видят духов так, как мы?
Мать не ответила сразу. Она подняла руку и провела по нему. Воздух рядом с ними дрогнул – мягко, без резкого движения. Завибрировал.
Пространство будто раскрылось, и перед Риммой возникли прозрачные, едва заметные картины:
Комнаты в детских лагерях.
Комнаты детских домов и приютов.
Больницы хосписов.
Обычные квартиры домов.
Все это изображениями висело в воздухе, мерцая, показывая разнообразные картины происходящих событий. Без привязки ко времени или месту действий.
Но на них было только одно – дети которые испытывали эмоции, жили своей жизнью, переживали внутренним событиям.
– Люди чувствуют, – сказала мать. – Но по-разному. Особенно дети. Их восприятие ещё не затянуто шумом мира. Они видят энергетику – не осознанно, не так, как мы, но достаточно, чтобы заметить лишнее.
На одном из образов несколько детей сидели вокруг стола. Свечи дрожали, отражаясь в стекле. Кто-то шептал слова, не до конца понимая их смысл.
– Они видят духов? – спросила Римма, подаваясь вперёд.
– Иногда, – кивнула мать. – Чаще – чувствуют. Присутствие. Холод. Чужое дыхание в тишине. Поэтому им и кажутся реальными призраки, демоны, страшилки. Для них граница тоньше.
Картина изменилась.
Тень стояла за спиной мальчика. Она была близко – слишком близко – но не могла дотянуться.
– Духи слышат зов, – продолжила мать. – Они чувствуют, когда их зовут. Но попасть к детям не всегда могут. Не хватает силы. Или… допуска.
– А если хватает? – снова спросила Римма, уже зная, что ответ ей не понравится.
Картины потемнели.
Один ребёнок стоял отдельно. Воздух вокруг него был плотнее, словно сгущённый.
– Тогда такие дети становятся заметными, – сказала мать. – Они родились не в нашем мире, но оказались в человеческом. Или были перенесены. В них есть искра, которую люди называют магией, не понимая, что это лишь способность слышать мир громче остальных.
– И поэтому они оказываются в лагерях? – задумчиво спросила Римма. – В приютах? В детских домах?
Мать посмотрела на неё внимательно.
– Это места, где дети остаются без защиты. Не в физическом плане. В эмоциональном. Где они наиболее ярко смогут ощутить одиночество, страх, желание быть услышанными. Где границы между мирами становятся тоньше. Или наоборот. Максимально проявить себя, свое внутреннее состояние. Раскрыться.
Лагеря – это место где либо они раскрываются…либо уходят.
Римма сжала пальцы.
– Но за ними кто-то следит, да?
– Следят, – ответила мать честно. – Не только мы.
Картины изменились в последний раз.
В темноте двигались другие тени. Не осторожные. Выжидающие.
– Силы тьмы ищут таких детей, – сказала мать. – Они умеют убеждать. Обещать. Давать ощущение значимости. Переманивать проще, чем ломать.
Римма молчала. Её взгляд был прикован к образам, но внутри что-то медленно, почти незаметно сдвигалось с места.
– А если ребёнок не хочет к ним? – спросила она наконец.
Мать погасила картины одним щелчком.
Сад снова стал обычным – тихим, солнечным, без видимых угроз.
– Тогда миру нужен тот, кто это заметит, – сказала она. – И не вмешается слишком рано. И не опоздает.
Римма подняла голову.
– А если такой ребёнок просто хочет понять, кто он?
Мать улыбнулась – мягко, но в этой улыбке мелькнула тень тревоги.
– Тогда его путь только начинается.
Римма ничего не ответила.
Но в её взгляде уже не было простого любопытства.
Глава 1.
Начало

Ночь отступала нехотя, выпуская город из своего ледяного плена черными когтями. Серое предутреннее марево медленно расползалось по улицам, сглаживая края домов, стирая линии крыш, превращая всё вокруг в зыбкую акварель. Четвёртый час утра – время, когда мир кажется особенно хрупким, натянутым, как тонкая плёнка, под которой дрожит тишина. Звуки глохнут, будто кто-то набросил на них тяжёлую ватную простыню.
Даже собаки, вечные стражи ночной окраины, прячутся в щелях и дворах. Редкие машины пробираются через туман, вздрагивают на кочках и тают в пустоте, словно стёртые ластиком.
Многоэтажки стояли вдоль улицы мрачными каменными саркофагами – терпеливые, усталые, лишённые надежды. Они пережили тысячи таких рассветов, одинаково тусклых, с разбитыми подъездами, обмыленным стеклом и чьими-то запутанными судьбами за стеной толщиной в ладонь. В нескольких окнах ещё тлел свет – тревожный, как лампочка над входом в больницу. Там сидели те, кому не спится. Те, кого утро встречает не облегчением, а знакомой тяжестью под рёбрами.
Воздух стоял неподвижным, тягучим. Пахло выхлопами, мокрым железом, старой пылью. Казалось, город давно разучился дышать и теперь просто ждал – чего именно, никто бы не сказал. Фонари под жёлтым налётом времени разливали тусклые островки света, похожие на плохо разведённую краску. Деревья не шевелились. Ни ветра. Ни тепла. Всё вокруг затаилось, как перед тем моментом, когда что-то должно произойти.
И в самом сердце этой неподвижности, на заброшенной детской площадке, в полумраке тусклых фонарей и редких огоньков окон, на скрипучих качелях сидела Римма.
Она не выделялась светом – но мир вокруг словно бледнел рядом с ней.
На ней было то же платье, что и всегда. Ярко-золотистое, будто сотканное не из ткани, а из тёплого солнечного отблеска. Тонкий корсет мягко подчёркивал фигуру, не стягивая и не сковывая движений. По ткани тянулись узоры – не броские, не сияющие, но если присмотреться, в них угадывались руны, вплетённые так искусно, будто они были частью самого рисунка, а не знаками силы.
Длинная юбка спадала слоями, лёгкая и полупрозрачная по краям. Когда качели медленно двигались вперёд и назад, подол тихо колыхался, задевая пыльную землю, но не пачкался – словно грязь просто не решалась к нему прикоснуться.
На ногах – высокие светлые сапоги, украшенные тонкой вышивкой. Они казались слишком изящными для этого места, где асфальт давно растрескался, а трава пробивалась сквозь бетон. Но Римма сидела так, будто это был самый естественный для неё мир.
Золотистые волосы спадали по плечам и спине мягкими волнами. В них были вплетены тонкие ленты, почти незаметные в сумраке, и простая диадема – не как украшение, а как напоминание о том, кем она является, даже здесь. Даже сейчас.
Римма держалась за холодные цепи качелей тонкими пальцами. Металл скрипел, сопротивлялся, но поддавался. Она слегка отталкивалась носком сапога от земли – ровно настолько, чтобы движение не прекращалось, но и не становилось заметным.
Её лицо оставалось спокойным. Ни улыбки, ни тревоги. Только внимательный, сосредоточенный взгляд, направленный в сторону подъезда, откуда должна была выйти Рита.
Этот мир был для Риммы чужим – слишком шумным, слишком грубым, слишком тяжёлым. Но именно здесь она любила бывать. Здесь всё было настоящим. Здесь страхи не прятались за легендами, а одиночество не имело красивых названий.
Качели скрипнули снова.
Римма ждала.
И мир, сам того не понимая, затаил дыхание вместе с ней.
Синие глаза девочки были направлены на подъезд пятиэтажки напротив. Не моргали. Не отворачивались. В её взгляде жила та сосредоточенность, что бывает у зверей, уже учуявших шаги. Или у людей, уверенных, что их ожидание близится к концу.
Холод был ощутим – ночной, сырой, липкий, – но он был рассчитан на людей. Для Риммы он оставался всего лишь состоянием мира, не способным причинить ей ни боли, ни неудобства.
Качели больше не скрипели. Они остановились сами, когда движение стало слишком медленным, почти незаметным. В предутренней тишине это было правильно – не нарушать её лишним звуком.
Из-за угла дома показалась фигура девушки.
Она шла медленно, тяжело, будто каждый метр давался ей с усилием. Тёмная толстовка висела на плечах, словно была на размер больше. Джинсы были порваны на коленях и испачканы у щиколоток. Волосы сбились в спутанный ком и падали на лицо, скрывая взгляд.
Лицо было уставшим, серым, с размазанным макияжем – не от свежих слёз, а от тех, что закончились задолго до этой ночи. После них не плачут. После них просто идут.
Она направлялась к подъезду. Не потому, что хотела домой – просто потому, что знала: туда нужно идти. Всё остальное потеряло значение. Двор, дома, небо, чужое присутствие – всё существовало где-то на периферии, не доходя до сознания.
Рита.
Она шла, не поднимая головы. Внутри неё не было ни мыслей, ни воспоминаний – только глухая, вязкая пустота, в которой шаги становились автоматическими. Алкоголь сгладил углы реальности, стер резкие чувства, оставив одно – возможность не чувствовать.
Когда Рита поравнялась с детской площадкой, двор словно замер. Фонарь над подъездом мигнул, но свет не изменился. Воздух стал плотнее, тише, будто ночь решила посмотреть внимательнее.
Римма наблюдала.
Она слегка наклонила голову, изучая походку, осанку, паузы между шагами – не как судья и не как спаситель, а как тот, кто давно ждал именно этого момента. Улыбка появилась едва заметно – тёплая, спокойная, без тени торжества.
Рита прошла мимо, не оборачиваясь. Она не видела девочку на качелях. Не чувствовала взгляда. Для неё существовал только путь от края двора до двери подъезда – узкий, прямой, единственный.
Качели тихо качнулись, едва уловимо, словно кто-то вдохнул.
Ожидание закончилось.
Девочка слетела с качелей легко, почти невесомо. Движение было настолько точным, плавным, что человеческому телу оно подходило лишь условно – как одежда, надетая не на того.
Её шаги не оставляли следов на влажном асфальте и не издавали ни единого звука, будто она ступала не по земле, а по выдоху тумана.
Рита добралась до подъезда по привычке, выученной телом: тяжёлая голова, пустой взгляд, шаги, ведущие сами себя. Дверь – как всегда – распахнута. Год назад она сама раскокала домофон кирпичом, пытаясь доказать подружке, что «слабо» – это только слово.
Пять ударов, три проснувшихся соседа, один безвременно погибший домофон – и репутация семьи, рухнувшая быстрее всех.
Она толкнула дверь плечом. Железо протяжно вздохнуло и поддалось.
Римма шла следом. На мгновение остановилась у покорёженной панели домофона, будто пальцем могла прочитать историю его гибели. Провела ладонью по холодному металлу – осторожно, как по артефакту, случайно обнаруженному среди бытового хлама. Во взгляде мелькнуло сухое, почти научное любопытство. И тут же погасло, словно предмет не заслуживал даже этой крохи внимания.
Подъезд встретил их влажным духом сырости и подгоревших проводов – запахом, который въедается в стены и чужие судьбы. Над почтовыми ящиками дрожала одинокая лампочка, мерцая неровным светом. Она мигала, будто кашляла, бросая рваные тени на облупленные стены, превращая подъезд в сумбурный набор пятен и темноты.

Рита прошла вперёд.
До их квартиры было меньше десяти шагов – первый этаж, «удобный», как любят говорить те, кто никогда не пытался прожить здесь ни дня. Каждый шаг отдавался глухим эхом, так будто подъезд уже разучился различать живые звуки и теперь внимал им с недоумением.
Римма шла позади. Тихо – слишком тихо. Не было ни шороха ткани, ни стука каблуков, ни привычного касания подошвы об пол. Только ощущение, что воздух за спиной уплотняется, наливается вниманием.
У их двери свет лампочки становился ещё слабее, будто умирал прямо над головой. Тусклый, мертвенный – он не давал тепла, не давал даже иллюзии безопасности.
Рита пыталась попасть ключом в замок. Пальцы не слушались, дрожали, цеплялись за воздух. Ключ скользил мимо цели, будто испытывал хозяйку на настойчивость. Вторая попытка – промах. Третья – тоже. Лишь на четвёртый раз раздался сухой щелчок, похожий на короткий смешок судьбы.
Рита толкнула дверь и почти свалилась внутрь, не удержав равновесие.
Прихожая встретила теснотой и привычным хаосом. Куртки свисали с крюков тяжёлыми тенями. Обувь – сваленная в кучу, будто у входа стояла невидимая лавина. У стены сиротливо жались забытые пакеты. На треснувшем зеркале, перекошенном и уставшем, застыли следы былой ярости. Рита швырнула в него кроссовком после очередной ссоры с матерью. Заменить так и не собрались – ни сил, ни желания, ни смысла. Квартира давно научилась жить с трещинами. Люди в ней – тоже.
Она сделала шаг – и нога поехала по линолеуму. Пытаясь удержаться, Рита ухватилась за косяк, но промахнулась. Бутылка, торчавшая из кармана, выскользнула и упала.
Звон разбившегося стекла прорезал тишину, как крик. Настоящий крик последовал позже – хриплый, пьяный, разозлённый, будто адресованный не ей одной, а всему дому сразу.
Осколки разлетелись веером – острые, блестящие, холодные. Запах дешёвого пива мгновенно заполнил прихожую: кислый, липкий, унизительный.
Рита смотрела на блестящие куски, как на задачу, которую нельзя решить. Согнуться? Убрать? Признать очередную ошибку? Мысли текли медленно, тяжело, будто вязли в собственном тумане. Тело тоже казалось не своим – ватным, неповоротливым.
Она грязно выругалась и сделала шаг вперёд. Под подошвой раздался хруст. Но боли не было. Алкоголь заботливо стирал её, оставляя только тупое раздражение, похожее на усталость, которая никогда не проходит.
Ещё шаг. Мир покачнулся. Стены поплыли. Пол ушёл из-под ног.
Она опустилась на колени, затем на бок, прямо в лужу расползшегося по линолеуму пива, среди стекла, как на дне какой-то жалкой, никому не нужной пьесы.
Глаза закрылись сами. Сон сомкнулся над ней мгновенно, как крышка.
И только одна девочка – та, что не принадлежала этому дому, этой реальности – спокойно перешагнула распростёртое тело и села рядом. Тихо. Спокойно. Как наблюдатель, который не спешит вмешиваться, но точно знает момент, когда это понадобится.
Мать долго не выходила. Она стояла в глубине комнаты, собирая силы – не физические, а те, которые нужны, чтобы снова увидеть одно и то же, но не закричать.
Наталья вышла в прихожую, и взгляд её сразу споткнулся о привычный ужас.
Рита лежала на полу – бледная, с потемневшими кругами под глазами, губами, пересохшими от алкоголя. Толстовка задралась, открывая худой, болезненно острый живот. Волосы спутаны. От неё несло так сильно, что Наталья инстинктивно отшатнулась, закрыв на секунду рот ладонью – то ли от запаха, то ли от боли.
Она не заплакала. Не вскрикнула. Даже не вздохнула.
Слёзы давно иссякли – осталась только привычная, тупая усталость.
Просто стояла и смотрела.
Наталья чувствовала, как внутри всё обмелело. Как-то незаметно слёзы перестали приходить – будто организм отказался тратить на них силы. Какая теперь разница? Она плакала первые разы, когда Рите было четырнадцать, когда она стала приходить домой пьяной.
Плакала, когда уговаривала дочь не уходить из дома. Плакала, когда соседи жаловались. Но теперь даже слёзы казались роскошью, которую она себе не могла позволить.
Сколько раз уже? Десять? Двадцать? Может, больше. Наталья давно сбилась со счёта. Каждый раз одно и то же – хмельные шаги за дверью, грохот, ругань, падение, тяжёлая тишина. То Рита валялась в прихожей. То уснёт на коврике в туалете. Однажды её притащили соседи – положили под дверью, словно ненужную вещь.
«Ваша», – сказали, не глядя в глаза.
Тогда Наталья плакала. А сегодня – нет.
Она медленно опустилась на корточки, чувствуя, как хрустят колени. Протянула руки к дочери, попыталась перевернуть её на бок, поднять хоть чуть-чуть. Но Рита была тяжёлая. Не по весу – по бессилию. Словно не тело, а мешок с мокрым песком. Или Наталья сама настолько истощена, что её силы давно на пределе.
– Доча… вставай… – голос вышел тихим, хриплым, будто она обращалась не к живому человеку, а к тени. – Пойдём, пойдём в кровать…
Рита зашевелилась, пробормотала что-то нечленораздельное. Потом резко оттолкнула мать рукой.
– Съеева…лись… – слова смешались в слюне, дыхании, пьяном бреду. Но толчок был неожиданно сильным.
Обе упали.
Рита снова размялась на полу, а Наталья, ударившись боком, схватилась за грудь. Боль кольнула резко – не от падения, а от того, что стало привычным:
от обиды.
от бессилия.
от того, что её собственная дочь отталкивала её сильнее, чем алкоголь.
Она замерла, переводя дыхание. Несколько секунд просто сидела, глядя куда-то в сторону, пытаясь собрать остатки внутренней выносливости.
Потом подтянула себя к дочери и снова попыталась её поднять. Обхватила Риту под мышки – руки дрожали, подкашивались, но она тянула. Не думая. Не оценивая. Просто делала то, что делала уже сотню раз.
Тело сопротивлялось – неосознанно, тяжело, как сопротивляется камень, который пытаешься сдвинуть с места. Опять и опять.
Наталья тащила её по коридору. Сантиметр за сантиметром. Иногда останавливалась, опиралась рукой о стену, закрывала глаза, чтобы перестало кружиться в голове. Потом снова тянула.
Спина ныла. Плечи горели. Дыхание сбивалось. В глазах темнело. Но она продолжала – будто знала, что если сейчас остановится, то останется сидеть в этой прихожей навсегда.