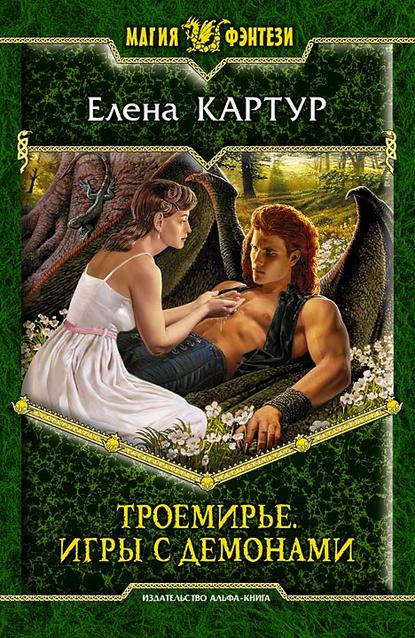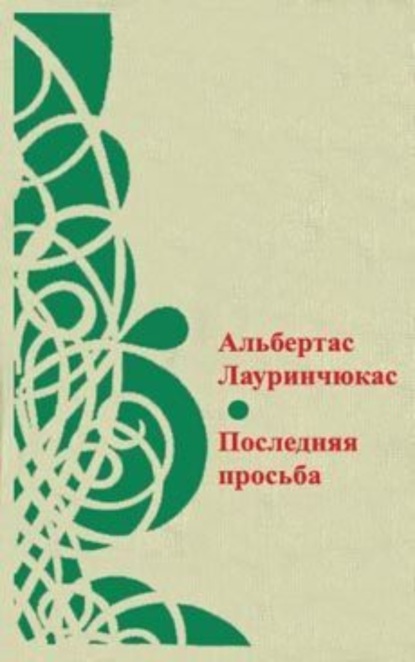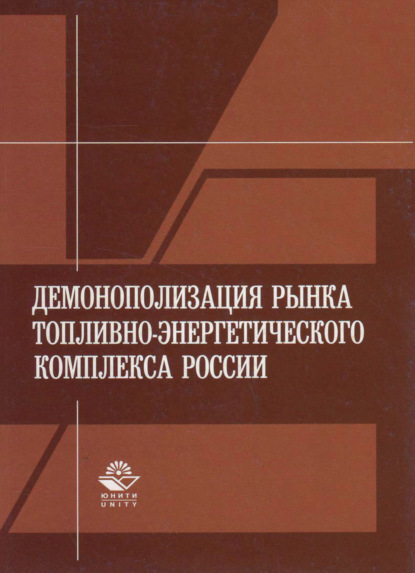На рынке, где все кричат правильно и мимо, одна женщина поднимает ладонь и говорит то, что выдерживает толпу: «по одному», «две минуты», «через двор — ровно».
«Единая линия» орёт издалека, «Сеть» приносит правильные плакаты, но город учится дышать по-своему: сначала говорит место, потом центр. Появляются новые ремёсла — «лист извинения», «расписание тишины», «паспорт места». Ночью слова короче, свет мягче, «спасибо» только после.
Это роман не про лозунги, а про людей, которые держат край, а не людей. Про порядок, который не толкает. Если вы устали от громких героев, здесь их нет. Здесь есть стрелка на уровне пояса, лампа, мигающая дважды, и город, который наконец запоминает, как идти без крика.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация