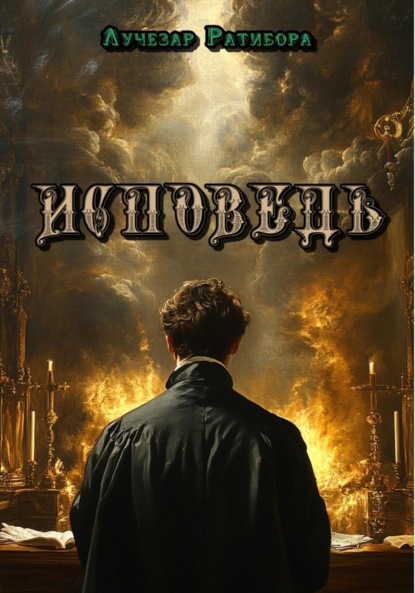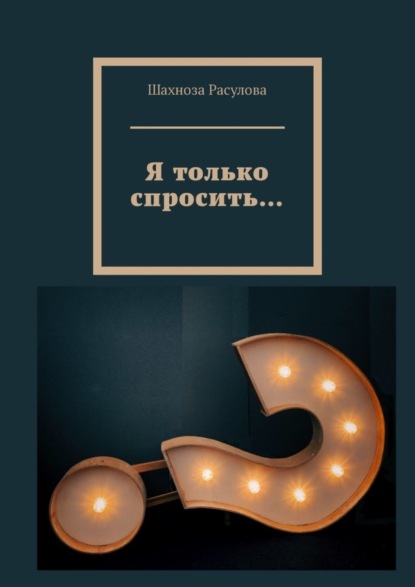- -
- 100%
- +
Жезл завис у его лица, как будто пытаясь поймать звук, который ещё не прозвучал. Гиль не дрожал. Он вообще был создан, чтобы не выдавать себя тем, что у детей обычно выдаёт – плечами, где живет страх.
– На учёбе нельзя на рынок, – сказал левый. – Но у переписчика – право вводить в контекст.
Орр чуть разжал пальцы на маске.
– Рынок – лучший контекст для заведения расходников, – сказал он. – Мы, в отличие от некоторых, не любим, когда суммы в сметах отображаются без подписи.
Это была легальная насмешка. Её в городе прощали только тем, у кого подпись в порядке. Жезл потускнел.
– Идите, – сказал правый. – И держитесь по правилам.
Они прошли мимо. Рынок выдохнул. Люди двинулись дальше, как вода, которой убрали камень с пути. Орр не сразу опустил маску. Он ждал звук шагов, который уходит не только в уши, но и в стены. Только когда этот звук растворился, он положил маску на стол.
– Вот зачем я вам, – сказал он. – Чтобы на рынке перепрыгивать через лужи не мокрыми ногами. Но в картуше мои ноги никому не помогут. Там вода другая.
– Вода везде вода, – сказала Мара. – Меняются берега.
Он усмехнулся краешком губ. Это не было согласие. Это было то, что называется «пока не спорю».
– Служебная перепись сейчас ищет «переучёт», – сказал он позже, уже идя по узкому проходу между гирляндами бумажных лент. – Знаешь, что это?
– Когда изменения переводят из временных в постоянные, – сказала Мара. – Когда стирание подтверждают на уровне, к которому мы не доберёмся случайно.
– Верно. Они поднимают следы подписи до такого уровня, на котором твоя пластина будет всего лишь зеркалом. Ты увидишь, что кто-то видел, но не увидишь, что он сделал. В картуше это значит «ничего».
– Значит, нужен другой уровень доступа, – сказала Мара.
– Значит, нужен ключ подписи, – сказал он. – Не от двери. От человека.
Они остановились у лотка, где продавали тяжёлые ножницы и шпагат. Хозяин лотка смотрел на них так, как смотрят на людей, которые собираются что-то резать, что потом придётся связывать. Мара положила на стол монету, взяла катушку шпагата, покрутила в пальцах и положила обратно. Это было не про покупку. Это было про паузу между важными словами.
– Ты знаешь, у кого ключ? – спросила она.
Орр посмотрел ей в глаза. В его взгляде не было признания. Там было невысказанное «да». Иногда оно честнее, чем произнесённое.
– Знаю, – сказал он. – Но если я назову, я стану свидетелем. А свидетелей картуш не выпускает просто так.
– Значит, ты уже свидетель, – сказала Мара. – Потому что ты это знаешь и стоишь рядом со мной.
Он покачал головой. Это был не отказ. Это была попытка отодвинуть момент выбора на один шаг, на одну лавку, на одну катушку шпагата. Он не любил, когда его ставят в ряд с вещами, которые нужно назвать.
– Ты хочешь вернуть «Семь мостов», – сказал он наконец. – А они этого не хотят. И будут правы в своих бумагах. Ты готова быть «неправой» официально?
– Я готова быть живой, – ответила Мара. – Всё остальное – формы.
Он вздохнул, как вздыхает человек, который в прошлый раз выбрал иначе и дорого за это заплатил. Пальцы его коротко сжались на ремне сумки.
– Ладно, – сказал он. – Сегодня вечером ты не идёшь в Архив. Ты идёшь в «Старую вагу». Там, над пекарней, будет окно без занавески. Постучишь трижды, потом пауза, потом один. Если я открою, значит, я выбрал. Если не открою, значит, ты пойдёшь одна и проиграешь. И это будет уже не моё дело.
– Ты откроешь, – сказала Мара.
– Этого не пишут заранее, – сказал он. – Даже переписчики.
Он достал из кармана маленький прямоугольник бумаги. Не пропуск, не удостоверение – кусочек срезанной рамки от официального бланка, где осталась часть тиснёной печати. В этот обрывок был впаян едва заметный волос. Такой волос иногда кладут в бумагу, чтобы «поймать» подпись, когда она проходит мимо. Он положил обрывок на стол, не глядя на окружающих.
– Держи. Это не ключ. Это приманка. Если картуш рядом, он отзовётся. Не любопытствуй. Просто принеси отклик.
Мара взяла бумагу так, как берут травинку на ветру: пальцами, которые помнят, что всё хрупко. Бумага была тёплой. Это значит, что её недавно держали в руках, которые умеют писать так, будто это приговор.
– До вечера, – сказал Орр и ушёл в ту же полутьму, откуда вышел. Ткань арки приняла его без усилия. Рынок вернулся к шуму, цены снова закачались, стрелки на шкалах поехали по цифрам.
Гиль посмотрел на Мару.
– Он придёт?
– Он уже пришёл, – сказала она. – Просто не до конца.
Она положила обрывок в внутренний карман, ближе к коже, где тепло держится дольше. Там ему было место. Там он отзовётся, если рядом пройдёт чья-то подпись.
– Что дальше? – спросил Гиль.
– Работа, – сказала Мара. – Мы идём в «Старую вагу». Но сначала – тишина. Надо, чтобы город успел забыть нас на рынке. У него короткая память на тех, кто не нарушает правил слишком громко.
Они двинулись по переулку в тень, где звук шагов растворяется быстрее. Пакет с пеплом в кармане был тяжёлый не весом, а смыслом. Он шуршал, когда Мара меняла ритм шага. Она слушала этот шорох, как слушают фон: если из него пропадает обычное, значит, необычное уже рядом.
На выходе из рынка стоял мальчишка. Не Гиль. Другой. В руках у него была дощечка с прографленной сеткой для счёта. Он дотрагивался до клеток пальцем и шептал какие-то числа, как будто от них зависело, сколько будет хлеба. Взгляд у него был пустой, как у человека, которому дали роль и забрали текст. Мара задержала шаг. Жезл «служебной переписи» успел побывать здесь тоже. Она не смотрела на Орра – его рядом уже не было. Она только положила на край дощечки монетку, и мальчишка, машинально взяв, продолжил шептать, не поднимая головы.
Они ушли из рынка и растворились в городе, который снова сделал вид, что ничего не происходит. Вечер обещал решение. А решение – цену.
Глава 3. Мини-дело: возврат ярлыка
День израсходовал себя на мелочи и свернулся за низкими крышами. Город стал тише не потому, что устал, а потому что стал осторожней. Когда темнеет, подписи делаются короче, но точнее.
Мара и Гиль переждали час в маленьком дворике, где когда-то сушили бельё, а теперь сушили запах хлеба. Пекарня поднимала пар волнами, и от этих волн у людей на улице менялась походка: они шагали мягче, как будто им в ладонь положили тёплый камешек. В таком месте легче забыть, что тебя ищут. Поэтому его и выбирают для встреч.
В кармане у Мары лежал обрывок бланка с впаянным волоском. Он грел кожу, хотя на улице было прохладно. Это не магия. Это просто бумага, которая недавно была в чьей-то руке, где рука знала, что делает.
– Три, пауза, один, – сказал Гиль, повторяя схему стука, как стишок на запоминание.
– И не торопись, – сказала Мара. – В паузе тебя слушают сильнее, чем в стуке.
Он кивнул. Он умел слушать передышка.
Окно без занавески светилось жёлтым. Свет не выпадал на улицу, а оставался за стеклом, словно боялся испачкаться городом. Мара поднялась по деревянной лестнице. Каждая ступень знала свой звук и не уступала его другой. Вверху дверь. Она постучала: три раза, будто ставит точки после коротких предложений. Пауза как вдох. Потом один, как слово, которое говорят тихо.
Замок щёлкнул. Дверь приоткрылась на ширину ладони. В щели показалась маска переписчика – тряпичная, потёртая, с заломом у щеки. Потом маска сползла ниже, и на её месте оказалось лицо Орра. Он не спрашивал «кто». Он считал, что если ошибся в ожидании, то это его ошибка, а не пришедшего.
– Заходите, – сказал он.
Комната была длинной и узкой, как вагон, от которого осталось только название: «Старая вага». По левую стену – стол, на нём пресс для бумаги, ручные ножи, стеклянные банки с мукой и шнуры, скрученные аккуратными восьмёрками. По правую – высокие зеркала, в которых отражалась не комната, а вещи на столе. Внизу, под зеркалами, стояли ящики с хлебом. Хлеб источал тепло и закрывал запахи. Хорошее место для разговоров.
Орр жестом показал на скамью. Мара села. Гиль остановился подальше от зеркал, словно боялся увидеть не себя.
– Ты пришёл, – сказала Мара.
– Я ещё не остался, – ответил Орр. – Сначала правило. Я говорю вещи, которые не нравятся. Ты не оправдываешься.
– Согласна.
– Второе правило. Если ты попросишь меня заплатить чужой памятью, я уйду.
– Я не прошу платить чужим.
– Все так говорят. Пока не начинают.
Он снял маску и положил рядом со стаканом воды. Лицо у него было из тех, которые хуже всех переносят чужие решения: оно не любило, когда с ним спорят, но привыкло спорить с собой.
– Покажи, – сказал он.
Мара достала обрывок. Бумага, как собака, чьей держат чужой кости, оживилась едва заметно. Орр не взял её в руку. Он наклонился так, чтобы дышать на неё. Воздух, прошедший через его нос, был сухим, как воздух в подвале Архива, где известь лежит на стенах тонким снегом.
– Пахнет печатью, – сказал он. – Свежей. И… – он замолчал, потом тихо выдохнул. – И волос действительно ловит подпись. Хитро. Кто додумался?
– Человек, который не любит проигрывать, – сказала Мара. – Ты его знаешь.
– Я слишком многих знаю, кто этого не любит. Хорошо, – он выпрямился. – Схему картуша я не принесу. Если принесу – мы сгорим по дороге. Там теперь другая логика. Но я могу провести туда, где эта логика начнётся для тебя не с нуля.
– Переучёт, – сказала Мара.
– Да. Они поднимают временное на уровень «как будто было всегда». Если мы успеем поймать момент, когда оно ещё не стало прошлым, мы сможем сунуть туда палец. А дальше уже твоя работа – удержать, чтобы не захлопнуло.
Гиль чуть повернул голову, как собака, которая слышит невидимый свисток.
– Это можно? – спросил он.
– Можно всё, что сделано вовремя, – сказал Орр. – Вопрос в цене.
Он налил из графина воды, поставил стакан перед Марой, второй перед Гилем. Сам не пил.
– Прежде чем вести вас куда-то, мне нужно знать две вещи, – сказал он. – Первая: ты умеешь возвращать ярлык?
– Бумажный? – уточнила Мара.
– Бумажный. Улица, дом, подъезд, этаж, дверь. Ярлык – это не «табличка с номером». Это способ, которым город помнит место. Если ярлык сняли и подшили к другому делу, адрес начинает скользить. Люди живут на этаже, а этаж уходит в промежуток между лестницами. Это не метафора. Это становится неудобно даже у тех, кто не верит в «слои».
– Я делала такое однажды, – сказала Мара. – В старом квартале переписали проходной двор под склад, и дети стали приходить домой через другой подъезд, потому что их дверь «пересчиталась». Вернули. Тогда было проще. Там не трогали якоря.
– Здесь тоже якорь не тронут, – сказал Орр. – Пока. Они вначале снимают ориентиры. Если ты сможешь вернуть один ярлык, я пойму, что тебя можно вести на глубину. Вторая вещь: ты не будешь вытаскивать оттуда больше, чем нужно для дела. Любопытство – это не знание. Это слабость.
– Я не коллекционирую судьбы на полке, – сказала Мара. – Я их несу.
Он посмотрел на неё долго и без симпатии. Но где-то на дне взгляда мелькнуло то, что люди называют уважением, когда не могут позволить себе более мягкое слово.
– Хорошо, – сказал Орр. – Я дам тебе ярлык. И мы посмотрим, как ты его вернёшь.
Он достал из сумки тетрадь без обложки. Листы в ней были разного цвета, как если бы их собирали из чужих бухгалтерий. Он листал их пальцем, как гитарист щиплет струну: слегка, но точно. Остановился на листе с тонкой синей сеткой, где пара линий уползала в сторону.
– Переулок Дымный, дом девять, – прочитал он. – Вчера по документам дом перестал существовать, потому что «слишком мало жителей для отдельного адресного плана». По факту люди в нём есть. Они молчат, потому что молчат всегда, когда речь идёт о цифрах. Мы не будем звать их говорить. Мы вернём им ярлык. Справишься?
– Где он?
– У человека, который любит чужие ярлыки. Он их копит. Не чтобы продавать, а чтобы знать, куда приходить, когда всем остальным станет нечего делать. Таких людей в городе не любят и не трогают. Но мы тронем. Ненадолго.
– Имя?
– Его зовут Мел. Он держит «комиссионку» на следующей улице, через двор. Дверь с медной ручкой в виде рыбьей головы. Он покажет жалость. Не ведись. Жалость у него – форма торга.
– Мы идём сейчас? – спросил Гиль.
– Сейчас ты идёшь спать, – сказал Орр. – У тебя лицо ученика, а ученикам спать положено. Утром вам нужно будет быть не только смелыми, но и точными. Сон – это точность, которую не ценят в сметах.
– Гиль останется у меня, – сказала Мара. – Тебе это устроит?
– Меня устраивают только вещи, на которые я могу повлиять, – ответил Орр. – На ваш сон я не повлияю. Но я скажу: не держи приманку в кармане ночью. Положи под хлеб. Он заберёт на себя то, что шумит.
Мара кивнула. Она знала такие простые способы. Они иногда работают лучше сложных.
Пекарь поднялся по лестнице, постучал кулаком по косяку и заглянул внутрь, как сосед, которого позвали поздороваться.
– К утру булки будут, – сказал он. – Кого-то кормить?
– Да, – сказала Мара. – Одного ученика и одного переписчика, который делает вид, что ему не нужно.
Пекарь кивнул. Он видел больше, чем говорил. Такие люди в городе удерживают слои лучше, чем печати.
***
Ночь наступила быстро, как бывает только в местах, где окна низкие, а крыши высокие. Гиль уснул, едва положив голову на согнутую руку. Мара положила приманку на буханку, накрыла тонким полотном. Тепло хлеба вытащило из бумаги лишний звук. В комнате стало тише. Тишина – это не отсутствие, это порядок.
Орр сидел у окна. Он не курил, не пил. Он просто сидел, как человек, у которого в комнате лежит то, что нельзя забыть и нельзя помнить. Он слышал, как город перебирает свои карманы: где деньги, где документы, где пустой воздух на случай внезапного визита.
– Ты был на «Семи мостах», когда их трогали в прошлый раз, – сказала Мара, не спрашивая.
– Был, – сказал он. – Тогда мы делали «контрольное стирание» на уровне домовладений. Ушли «чёрные лестницы», «дворы на один ключ», пара лавок без лицензий и несколько фамилий, которые мешали квартальному учёту. Ничего страшного, если смотреть на бумаги. Очень страшно, если стоять там живым. Город стал тише на один удар сердца. И с тех пор бьётся на полтона ниже.
– Ты мог отказаться.
– Я был результатом своей биографии, – сказал он. – Теперь стараюсь быть причиной своих решений.
Он встал, подошёл к зеркалу и посмотрел в него не на себя, а мимо. В зеркале отражались ножи на столе, катушки шпагата и буханки, которые остывали, как камни после дождя.
– Ты думаешь, что память – это добро, – сказал он. – Я думаю, что память – это форма власти. Мы с тобой говорим на одном языке, но разные слова делаем главными.
– Я думаю, что память – это способ удержать выбор, – сказала Мара. – Даже если потом этот выбор окажется ошибкой, он будет твоим. А не чьим-то чужим, записанным поверх.
– Посмотрим, – сказал он. – Утром у тебя будет шанс показать, что ты умеешь возвращать ярлык без героизма. Героизм – плохая методика. Он оставляет следы, которые слишком легко заметить.
Мара накрыла Гиля старым пальто. Мальчишка спал, как спят те, у кого нет собственного имени на бумаге: осторожно. Она посмотрела на него и подумала, что иногда лучшее, что можно дать человеку, – это бумага с буквами. Не чтобы привязать, а чтобы перестали дёргать.
– А если Мел не отдаст? – спросила она.
– Отдаст, – сказал Орр. – Он живёт тем, что отдаёт. Он забирает до того, как у людей попросят, а потом возвращает, когда они приходят и «соглашаются на условия». Мы не будем соглашаться. Мы напомним ему, что у него нет подписи. У него только привычка. Привычка – не власть. Это я выучил поздно.
Он сел обратно и положил ладонь на стол, будто проверял, насколько он ещё крепкий. Стол был крепкий. Старые вагоны держат вес лучше новых. Их дерево пропитано чужими словами, и от этого становится твёрже.
***
Утро началось без рассвета: просто стало светлее. Пекарь принёс кружки и две булки. Гиль проснулся от запаха и сделал вид, что уже не спал. У него хорошо получалось.
– Идём, – сказал Орр. – Пока город считало цифры за ночь, по нему можно пройти, как по пустому двору.
Они вышли через заднюю дверь, где петля скрипнула негромко, будто прощаясь без нежности. Улица ещё не проснулась, но её слышали те, кто за неё отвечает. Это всегда так: кто отвечает – слышит раньше.
«Комиссионка» Мела пряталась за вывеской «ремонт часов». Часы не работали. Человек, который торгует ярлыками, не любит, когда время указывает на него.
Дверь с медной ручкой в виде рыбьей головы была отполирована чужими ладонями. Мара взяла её двумя пальцами и не нажала, а ощутила её вес. Ручка любила тех, кто не делает вид, что она легкая. Она отозвалась.
Внутри пахло лаком, старой кожей и тем, что раньше было мебелью, а теперь стало товаром. На стене висели рамки без картин. На полке стояли банки без табличек. За стойкой сидел Мел. Он был похож на человека, который успел помириться со всеми и поссориться с каждым. Лицо тихое, глаза внимательные, руки медленные. Такими руками снимают чужие ярлыки.
– Доброе утро, – сказал он. – Я рад людям, которые приходят до покупателей. Они напоминают мне, что мы ещё в состоянии выбирать, с кем говорить.
– Нам нужен ярлык, – сказала Мара. – Переулок Дымный, дом девять.
– Хороший адрес, – сказал Мел. – Японский чай купили там однажды. Не понравился. Но чашки были тёплые. Зачем вам ярлык?
– Чтобы он был там, где должен.
– Справедливо, – сказал Мел и улыбнулся, как человек, который радуется чужим правильным словам, потому что знает их цену. – У меня много ярлыков. Я храню их, чтобы не потерялись.
– Они не теряются, – сказал Орр. – Их снимают. И ты это знаешь.
Мел не обиделся. Он вообще редко обижался. Он открыл ящик и достал оттуда узкий деревянный пенал, такой, в каких хранят перья для письма. Открыл. Внутри лежали полоски плотной бумаги, каждая с тонкой прорезью посередине. На каждой было по слову: «двор», «лестница», «подъезд», «крыльцо», «окно», «дверь». На одной было «дом девять». Прорезь рассекала «м» и «д». От этого слово выглядело подранным.
– Вот, – сказал Мел. – Ему здесь лучше, чем там. Там он мешает – в документах. Здесь он нужен – как память.
– Он нужен там, – сказала Мара.
– С чего вы взяли, что у вещей есть «там» и «здесь»? – спросил Мел. – У вещей есть «сейчас». А «сейчас» у каждого – своё.
– У адреса есть место, – сказал Орр. – У тебя – нет.
Мел вздохнул. Это был вздох человека, который с утра хотел поговорить о погоде, но пришли те, кто знает точные слова.
– Я не против вернуть, – сказал он. – Но вы знаете правила. Возврат ярлыка – это всегда обмен. Я отдаю, вы приносите мне другой. Я не коллекционер, я балансирую город. Иначе всё падает.
– Я принесу тебе «лестницу», – сказала Мара. – Но не сегодня. Сегодня тебе хватит слова.
– Слова чего?
– «Спасибо».
Он чуть улыбнулся. Неплохо сказано, но не из тех слов, за которые отдают бумагу.
– Ладно, – сказал он. – Я вижу, вы всё равно не уйдёте. Возьмите. Но знайте: если не вернёте мне ничего взамен, город сам что-нибудь заберёт. Он делает это без злобы. Просто у него такая бухгалтерия.
Мара взяла ярлык. Он был тяжёлый, как ключ, хотя весил как бумага. Гиль посмотрел на полоску и выдохнул. Ему хотелось потрогать, но он не тронул. Это было правильно: некоторые вещи любят, чтобы их не трогали лишний раз.
– Как вернуть? – спросил он.
– Вставить туда, где слово разрезали, – сказала Мара. – Не в дверь. В «между». У любого дома есть место, где его решают. Там и ставят.
– Ты умная, – сказал Мел. – Это опасно.
– Глупые опаснее, – сказал Орр. – Они делают вид, что не знают.
Они вышли. На улице стало оживлённее: буквы в табличках прибавили громкости, цифры на квитанциях начали спорить между собой. Город проснулся.
– Пойдём, – сказала Мара. – Пока «между» не стали «после».
***
Переулок Дымный жил тем, чем живут переулки: соседскими разговорами, мусором, который жалко выбросить, и кошками, которые знают ключ от каждой двери. Дом девятый не выделялся ничем, кроме того, что его не было на бумаге. Из-за этого он стал заметнее глазами. Люди так устроены: они видят лучше то, чего у них не записано.
– Где «между»? – спросил Гиль.
– Смотри на трещины, – сказала Мара. – «Между» всегда живёт там, где один материал устаёт быстрее другого.
Он смотрел в стену, как смотрят в воду: чтобы увидеть глубже, нужно не шевелиться. Трещина шла от подоконника к ступени, как линия в тетради, по которой кто-то вёл карандаш и не успел довести. Воздух у трещины был чуть холоднее. Значит, здесь город «решал».
Мара приложила ярлык к щели. Полоска не вошла. Её держало слово «девять». В нём застревала цифра. Они с Орром поменялись местами, как слесари у старого замка: один держит, другой слушает. Орр коснулся словом «дом». Бумага чуть согнулась. Этого оказалось достаточно. Полоска вошла, как клин, который ждут. На секунду ничего не произошло. Потом из глубины стен вышел тихий звук, похожий на вдох человека, который решился говорить.
– Есть, – сказал Орр.
Внизу открылась дверь. Из неё вышла женщина с корзиной. Она не удивилась людям у стены. Она посмотрела на них так, как смотрят на тех, кто наконец сделал то, что всем было лень.
– Почтальон до вас не доходил, – сказала она. – Теперь дойдёт.
Мара кивнула. Её рука ещё держала ярлык. Отпустить было трудно – привычка удерживать. Она отпустила. Бумага осталась в трещине. Там её место.
– Дальше – «переучёт»? – спросил Гиль.
– Дальше – мы идём к Смотрителю района, – сказал Орр. – И делаем вид, что мы – законопослушные люди с замечаниями по адресу.
– Это глава позже, – сказала Мара. – Сегодня мы возвращаем ярлыки и смотрим, кто на нас посмотрит в ответ.
Она была права. Едва они отошли на три шага, по переулку прошёл человек с кожаной папкой. Он не выглядел опасным. Он выглядел правильным. Такие люди опаснее всего. Он оглянулся не на людей, а на трещину. Увидел бумагу. Не остановился. Просто чуть поменял шаг. Но город записал его шаг, как замечание на полях.
– Видишь? – сказал Орр. – Рыба на приманку вышла. Вечером будет движение в картуше. И там мы встретимся с тем, кто поставил свою подпись там, где её не должно быть.
– У тебя будет имя? – спросила Мара.
– Имя – потом, – сказал он. – Пока – маршрут.
Он быстро набросал на краю пустого чека три короткие линии: «Старая вага», «Дымный», «Семь мостов». Между ними поставил точки, как если бы соединял звёзды в детской книжке, чтобы получился рисунок.
– В полночь – у четвёртого моста, – сказал он. – Там есть люк, который не числится в ведомости. Его забыли закрыть в прошлый раз. Такое редко бывает дважды. Надо успеть.
Мара спрятала чек. Гиль посмотрел на небо, которое не обещало ничего, кроме того, что будет темно. Его это устраивало. Тьма – хорошее место для тех, кто не любит, когда на них смотрят.
– Мы вернули ярлык, – сказал он тихо, как будто сообщает городу новость, которую город сам уже записал.
– Да, – сказала Мара. – Один. Дальше будет сложнее. Но теперь мы знаем, что «между» ещё не стало «после». Значит, у нас есть шанс.
Они пошли обратно к «Старой ваге». Днём хлеб пахнет иначе, чем ночью. Днём в этом запахе меньше надежды и больше работы. Это нормально. Работа держит мир от распада лучше надежды.
На ходу Мара ощутила, как в кармане шевельнулся пустой воздух – там, где лежал обрывок с волосом. Он отозвался на движение подписи где-то в стороне. Не громко. Но достаточно, чтобы понять: картуш шевельнулся. Значит, они сделали всё вовремя. Теперь надо сделать всё правильно.
Глава 4. Док-нить, служебная струна, по которой наверх уходят пометки, к «Контрольному Стиранию»
Ночь не наступила – просто перестала сопротивляться. Река под мостами шла, как будто у неё были дела поважнее, чем отражать чьи-то лица. Четвёртый мост держался чуть ниже остальных, поэтому от него лучше слышно, как город шепчет в собственные щели.
– Люк вон там, – сказал Орр, не показывая пальцем. – Где камень не блестит, а слушает.
Гиль наклонился, коснулся ладонью края плиты. Камень был тёплый, как хлеб, но это был не хлеб. Тепло шло не изнутри, а от бумаги, которая когда-то лежала на этом камне. Бумага оставляет следы лучше ног.
– Подхватывай с этой стороны, – сказал Орр. – И не дергай. Здесь любят тех, кто делает вид, что у него есть время.
Плита не скрипнула. Она просто согласилась. Под ней открылась тьма, которая пахла известью и чернилами. Мара сначала положила на край куртку, потом колени, потом вглядом нашла ступени. Внизу было не сыро. Сухая тьма – хуже мокрой. Она хранит чужие голоса дольше.