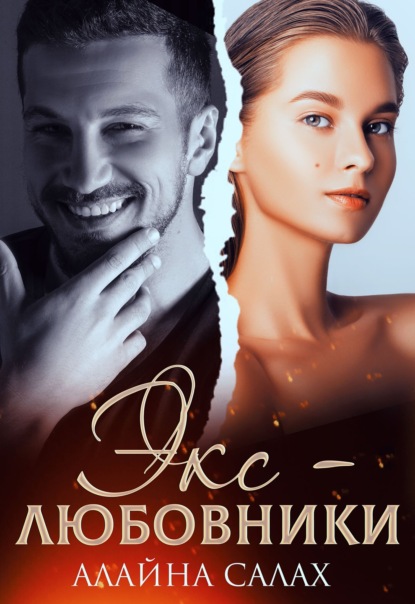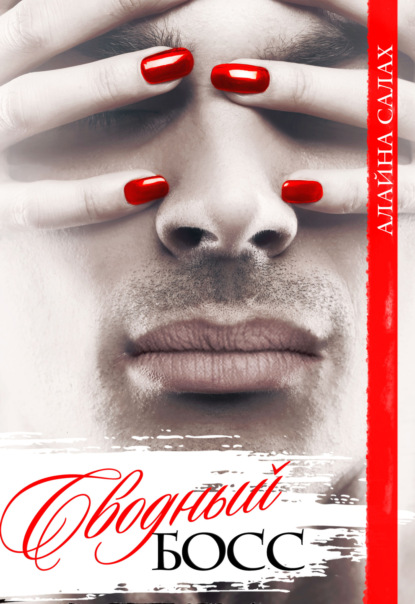- -
- 100%
- +
Пластина Печатьника лежала у неё в ладони, как тревога, от которой никто не просил избавлять. Когда металл прогрелся, воздух упал на полку. Мара провела пластиной по стене. Эхо шевельнулось и улеглось, как кошка на подоконнике.
– Сюда, – сказала она.
Ход шёл вдоль русла, но говорили в нём не вода, а бумага. На стенах были метки, которые не читались взглядом, зато читались шагом. Орр шёл первым. Его шаг был тонким ключом, подобранным к замку: не быстро и не медленно, ровно настолько, чтобы стены не спросили «кто здесь».
– Ты понимаешь, – шепнул Гиль, – что если нас тут поймают, то в бумагах мы будем не мы?
– В бумагах ты и так не ты, – ответила Мара. – Поэтому ты самый трудный для них предмет.
Он кивнул и стал ещё тише.
Первый поворот был на звук. Второй – на отсутствие звука. На третьем Орр поднял руку. Впереди, в полу, лежала полоса металла с тиснёнными буквами: «ПЕРЕУЧЁТ: ЛИНИЯ 3». Над буквами – тонкая нить. Не провод. Нить. На ней не было пыли. Пыль на таких вещах всегда чужая.
– Док-нить, – сказал Орр. – Не трогай.
Нить шла по стене тонкой, почти невидимой линией, уходя вверх, туда, где у города живут новые решения. Она была не ровная: в ней попадались узлы, и каждый узел был как дата. Мара приблизила пластину. Металл еле слышно зашипел. Отзвук поднялось и показало тонкие волны от каждого узла – как от капли на воде, которая упала слишком точно.
– «КС», – прошептал Орр, глядя на едва заметные втиснутые буквы у первого узла. – Контрольное стирание. Семнадцать. Линия две. Они поднимают «Семь мостов» по второму уровню.
Гиль тянулся глазами, но не руками. Мара накрыла связка тонкой марлевой лентой, которую Сефира когда-то сунула в карман «на случай, когда тебе придётся дышать вместо того, чтобы говорить». Лента чуть потемнела – значит, рядом с ней запульсировала подпись.
– Нам нужен фрагмент, – сказала Мара. – Не для коллекции. Для зацепки.
– Десять сантиметров, не больше, – сказал Орр. – И только между узлами. Если порвёшь на ноте – усилителю наверху покажется, что здесь кто-то переписывает.
– Между узлами – это «между датами», – сказал Гиль. – Значит, это не совсем «вчера» и не совсем «завтра». Хорошее место, чтобы не шуметь.
Фразы у мальчишки часто получались правильными случайно. Но правильность – это тоже привычка. Мара дыхнула на пальцы, чтобы они перестали быть чужими в этой тьме. Она поддела нить пинцетом, провела вдоль гладкого участка и не резанула, а как будто вынула нитку из шва старой рубахи. Ничего не звякнуло. Ничего не вспыхнуло. Просто в руке оказалось чуть-чуть тишины, связанной чернилами.
– Держи, – сказала она Орру.
– Нет, – ответил он. – Ты взяла – тебе и нести. Иначе бумага решит, что мы играем в «перекидывание ответственности». Она этого не любит.
Мара намотала нить на кусок чистого картона и убрала в внутренний карман. Карман шевельнулся. Это не был ветер. Так шевелится мысль, которая притворяется вещью.
– Дальше по линии будет бокс, – сказал Орр. – Там узел «обоснования». Если утащить документ, то нас встретят ещё до лестницы. Но если утащить заголовок… – он пожал плечами. – Заголовки не считают. Их только читают.
– Мы не тянем заголовки, – сказала Мара. – Мы запоминаем их темп.
Они пошли дальше. Вход в бокс был похож на старую дверцу шкафчика в школе: краска, высохшая двадцать лет назад, и ручка, которая давно не чувствует человеческой ладони. Но ручка была тёплой. Значит, кто-то трогал её сегодня.
Орр не стал браться за ручку. Он положил пальцы на рамку и чуть-чуть надавил. Дверца приоткрылась, как будто сама хотела, чтобы в неё заглянули. Внутри висела узкая полка с пачкой карточек. На верхней – надпись: «Упрощение плана обслуживания, район «Семь мостов»». Ниже – мелким: «перевод на ротацию». Ещё ниже – «контроль: Куратор Пепла». Подпись была не буквами. Подпись была стилем: ровный, экономный штрих.
– Нам не это, – прошептала Мара. – Нам слово.
Орр кивнул. Он повернул карточку. На обороте, посреди пустоты, аккуратно стояла печать: «основание: КС-17-Л2». Печать была современная. Чернила – нет. Видно было, что ставил печать человек, у которого рука знает, как отжимать лишнее.
– Теперь – да, – сказал Орр.
Мара приложила пластину к краю карточки и едва коснулась печати. Пластина запомнила ритм. Чернила слегка запульсировали, как будто печать поставили только что. Этого хватало. Карточка осталась на месте. Руки остались чистыми. Бумага не обиделась.
В коридоре что-то изменилось. Не звук. Воздух. Он стал более официальным. Это бывает в местах, где рядом прошла служба. На стене зашевелилась тень. Не человеческая. Служебная. Такие тени никуда не спешат. Они знают, что у них есть время.
– Гасим дыхание, – сказал Орр.
Гиль перестал быть человеком. Он стал вещью, которая стоит в углу, чтобы её занесли в опись позже. Мара прижалась спиной к камню и ощутила, как внутренний карман дышит вместе с ниткой. Связка не хотела на свет. Нить хотела остаться там, где её держали.
Тень прошла мимо. Не видя. Не глядя. Просто отмеряя. Она оставила на полу сухую полоску, как след от линейки. Орр подождал ещё счёт до десяти и только потом сдвинулся.
– Пока нас спасает твоя «незаписанность», – шепнул он Гилю. – Но это не броня. Это дыра. Через неё может прийти что угодно.
– Пока приходит воздух, – ответил тот так тихо, что слова можно было принять за шорох.
Они двинулись обратно, не меняя ритма. В таких местах ритм – это паспорт. Из люка слышно было реку. Река не спрашивала «зачем». Она там работала без канцелярии.
На поверхности градус ночи изменился. Темнота стала меньше личной и больше общественной. Над мостом стоял человек с кожаной папкой. Тот самый, который утром проходил мимо ярлыка. Он не поздоровался. Он просто перестал быть тенью и стал человеком. Его это устраивало.
– Поздно гуляете, – сказал он. – Ночь – плохой регистратор. Утром всё кажется иначе.
– Зато ночью не спорят цифры, – сказала Мара. – Им нечего делить.
– Вы удивитесь, – сказал он. – Цифры спорят всегда. Просто одни умеют шептать.
Он не попросил документов. Он не пригрозил. Он просто постоял, подождал, пока в их дыхании появится лишний удар, кивнул и ушёл. Но город записал его шаг за нас. Шаги таких людей записываются сами.
– Кто это? – спросил Гиль.
– Комиссия, – сказал Орр. – Люди, которым нравится задавать вопросы, на которые у меня нет приличных ответов. Не переживай. Если бы он пришёл по нас, он бы не ушёл. Он пришёл по свою уверенность.
– А у нас что? – спросила Мара.
– У нас – волокно, – сказал Орр. – И манера печати. Этого хватит, чтобы зайти к тем, кто любит отчитываться. Они такие же опасные, как те, кто любит командовать.
***
В «Старой ваге» пахло утренним хлебом, хотя было ещё темно. Пекарь не спал. Он не любит будить людей, но любит, когда его не будят бумаги.
– Что принесли? – спросил он, глядя не на руки, а на лица.
– Тишину на десять сантиметров, – сказала Мара.
– Постараюсь её не уронить, – ответил он серьёзно и ушёл на кухню, не задавая вопросов. Он умел работать с хрупким.
Орр разложил на столе грубую бумагу, нарисовал кружок и четыре коротких линии, как точки вокруг него.
– Здесь «Семь мостов», – сказал он. – Но на бумаге их теперь шесть. Четвёртый – самое удобное место, чтобы заходить «ниже». Там недописанная подпись. Её не любят проверять: скучно.
– Мы же только что вышли оттуда, – сказал Гиль.
– Это был «низ», – сказал Орр. – Теперь «верх». Мы не можем входить в картуш, пока не привяжем наш кусок нити к чему-то, что видят наверху. Иначе у нас будет просто вещь. Вещи в этом городе редко побеждают людей.
– К кому идём? – спросила Мара.
– К Смотрителю района, – сказал он. – Он человек, который умеет говорить о порядке так, чтобы ему верили. Но у него есть слабость: он любит «правильные формулировки». Если мы дадим ему формулировку, которая звучит правильнее его, он либо пойдёт с нами, либо – против нас. И то, и другое нам годится.
– У тебя есть формулировка? – спросил Гиль.
– У тебя, – сказал Орр, глядя на Мару. – «Основание КС-17-Л2 переводит временную меру в устойчивую норму без учёта живых связей». Он это поймёт. Он будет делать вид, что не понял. Но поймёт.
– Я не люблю, когда меня хвалят за правду, – сказала Мара.
– Тебя не похвалят, – сказал Орр. – Если повезёт, тебе возразят. Это значит, что тебя услышали.
Гиль хмыкнул. Он в такие игры ещё не играл, но любопытство у него было честное. Это многое лечит.
– Утром идём к Смотрителю, – сказал Орр. – Нить отнесём Сефире. Её «Печатьник» умеет держать ритм без утечки. И ещё – пекарь, – он на секунду прислушался, как будто проверял, готов ли тот к разговору, – спрячь на день у себя эту приманку с волоском.
Пекарь показался в дверях, вытер руки о фартук и взял маленький обрывок, не спрашивая, что это. Он умел брать на себя то, что не надо задавать в вопросах.
– Под булками всегда найдётся место, – сказал он. – Они уже привыкли к чужим историям.
***
Утро пришло как инспектор: без улыбки и без злобы. В канцелярии Смотрителя пахло кофе и отчётностью. Стены были покрыты списками, в которых одиночные имена выглядели как случай. На столе стояла стеклянная пресс-папье в форме моста. Не четвёртого. Первого. Первый мост гордо держал бумагу, как трофей.
Смотритель был из тех, кого уважали и не любили. Он умел говорить «нет» так, что звучало «надо». Он увидел Орра, увидел Мару, не увидел Гиля. Гиль стоял на два шага позади, и его взгляд не ловил. Это не фокус. Это привычка.
– Вы по записи? – спросил Смотритель.
– По порядку, – сказала Мара. – Запись – часть порядка.
Он кивнул. Сел, взял ручку, положил рядом. Это был жест человека, который готов слышать, но не готов соглашаться.
– Район «Семь мостов», схема «упрощения обслуживания», основание КС-17-Л2, – сказала Мара без театра. – Мы наблюдали линию «переучёта». Волокно поднята. Узлы выставлены. У вас в документах это пройдёт как «мера ради устойчивости». На месте это выглядит как «устойчивость без живых связей».
Смотритель не вздрогнул. Он поставил ручку на крышку пресс-папье и тихо сказал:
– Устойчивость без живых связей – это порядок, который может стоять без людей. Такой порядок не держится. Он падает сам от себя. Вы предлагаете альтернативу?
– Да, – сказала Мара. – Остановить перевод в норму, пока мы не проверим «между»: ярлыки, адреса, маршруты. Это не саботаж. Это проверка прочности.
– У вас есть право проверять? – спросил он.
– У нас есть обязанность не молчать, – ответил Орр. – А право – у вас.
Смотритель откинулся на спинку стула. На секунду он выглядел человеком, а не должностью.
– Я ничего не видел, – сказал он. – Но я слышал, что вы сказали. И если бы я был тем, кто может двигать подписи, я бы сказал: «подождите три дня». Я не тот. Но я могу притормозить «переучёт» в части адресных ярлыков. Это мало. Но иногда «мало» – это то, что успевает.
– Нам хватит, – сказала Мара. – Мы не просим чудес. Мы просим времени.
Он кивнул.
– Идите, – сказал он. – И не делайте из меня героя в своих рассказах. Герои – плохие сотрудники.
На выходе Гиль тихо спросил:
– Это было «за»?
– Это было «не против», – сказал Орр. – Больше от Смотрителей и не надо. Они держат бумагу. Мы – всё остальное.
***
Сефира встретила их молчанием. Это у неё означало «я жду объяснений, которые у меня уже есть». Мара положила на стол моток нити. Металл Печатьника лежал рядом, как тарелка, на которую сейчас положат горячее.
– Между узлами, – сказала Сефира, глядя, не прикасаясь. – Хорошо. Чернила не подали сигнал наверх. Значит, у нас есть несколько часов.
Она щёлкнула переключателем, и в мастерской стало слышно не «шшш», а «ммм» – тихий, глубинный звук, от которого стёкла становятся честнее. Сефира взяла пинцет, сняла два витка нити и уложила на пластину, как волосы ребёнка на лбу.
– Смотри, – сказала она.
Под тонким стеклом появился рисунок: не буквы, не цифры. Ритм. Он был ровным и очень экономным. Каждая «доля» как будто экономила чужую жизнь, чтобы сохранить общий счёт.
– Кто-то очень уверен в своём праве, – сказала Сефира. – И это почти всегда значит: кто-то очень неправ.
– Куратор Пепла, – сказала Мара.
– Имя – мелочь, – сказала Сефира. – Важно, что у нас на столе «док-нить, служебная струна, по которой наверх уходят пометки,» с привязкой к КС-17-Л2. Это – не пуля. Это – якорь. Мы можем за него тянуть. Но если потянем слишком сильно, утонем вместе с лодкой.
– Мы тянем ровно настолько, чтобы лодка замедлилась, – сказал Орр. – Смотритель дал нам три дня. Он не говорил «три», но его «мало» звучит именно так.
– Этого хватит, если не отвлекаться, – сказала Мара. – Сегодня ночью – четвёртый мост ещё раз. Завтра – «слои» у самого квартала. Мне нужно видеть карту эхов до того, как они поднимут «норму».
– Карта будет, – сказала Сефира. – Но сначала – еда. Вы двое пахнете рекой и чернилом. Ум перебывает хуже рук.
Пекарь, словно дежурная тень доброты, уже стоял у порога с мисками. Он никого не спасал. Он просто накладывал суп.
Гиль ел молча. Иногда ребёнок, который не записан в бумагах, лучше всех понимает, где правда. Правда была в ложке. Она согревала быстрее, чем планы.
– Что дальше? – наконец спросил он.
– Дальше мы идём по нити, – сказала Мара. – Но не как глупцы, которые тянут руками. Мы идём как люди, которые умеют слушать. У нас есть ритм печати, ярлык на месте и Смотритель, который «не против». Это больше, чем обычно. Этого должно хватить, чтобы не умереть от собственной уверенности.
Она посмотрела на Орра. Тот не кивал и не спорил. В его молчании было согласие, которое не нуждается в словах.
Ночь снова собиралась к мостам. Город перетекал из «после» в «между», как вода, которой показали новую русловую точку. Где-то наверху кто-то готовил очередной «переучёт». Где-то внизу лежала нить, которая пока ещё была их.
И этого было достаточно, чтобы сделать следующий шаг.
Глава 5. Поиск слоёв «Семи мостов»
Слои города легче увидеть, когда у него болят суставы. У «Семи мостов» болели все. Утро тянуло бумагу на себя, как ребёнок одеяло, а вода внизу шла ровно, будто ей все эти попытки смешны.
Сефира разложила на столе длинную ленту плотной кальки. На ней тонкими штрихами уже легли «дышащие» линии: не улицы и не стены, а их отголоски. Рядом гудел Печатьник, как кот под печкой, – не громко, зато уверенно. На металлической пластине лежал наш кусок «док-нити»; штрих печати дрожал в стекле ровной, экономной пульсацией.
– Карта эхов строится не по тебе, – сказала Сефира, не поднимая головы. – Она строится по тому, кто уверен, что прав. И чем он увереннее, тем проще рисовать.
– Удобная несправедливость, – отметила Мара.
– Любая система удобна кому-то, – ответила Сефира. – Наша задача – чтобы удобство не стало нормой.
Она повела пером; тонкая линия метнулась по кальке и вдруг остановилась, как нитка, зацепившаяся за шов. На месте остановки Сефира поставила маленькую точку.
– Якорь адреса, – сказала она. – Вот здесь они вшивают «норму».
Орр стоял у окна и смотрел вниз, туда, где город уже примерял к себе «обслуживание». Он не мешал, но слышал каждую точку на кальке так, будто она звучала.
– Будет четыре таких «узла», – сказал он. – По числу мостов, которые им нужны, чтобы «распределить потоки». Четвёртый – самый слабый. Поэтому мы здесь.
– Хорошо, – произнесла Мара. – Но прежде чем лезть в узлы, мне надо закрыть долг.
Она достала из кармана маленький свёрток, перевязанный тонким шпагатом. Внутри лежала полоска плотной бумаги с прорезью посередине и словом «лестница». Слово было не написано – выведено из старого план-смета, который Сефира нашла в коробке с «на всякий случай». План был двадцатилетний; в нём было достаточно лестниц, чтобы одну вырезать аккуратно и не разрушить дом.
– Ты обещала, – сказал Орр. – И город любит, когда обещания исполняют до того, как началась драка.
– Пойдём к Мелу, – сказала Мара. – Пусть он перестанет ждать. Ожидание делает людей злее, чем отказ.
***
«Комиссионка» встретила их тем же запахом лака и терпением предметов. Мел сидел так же, как вчера, только взгляд у него был чуть свежей, как бумага, которую не успели потрогать жирными пальцами.
– Вернулись, – сказал он. – Значит, с адресом всё получилось. Видно по походке.
– Держи «лестницу», – сказала Мара и положила полоску на край стола. – Чистая, с плана, без чужих следов.
Мел не притронулся сразу. Он на секунду закрыл глаза, будто слушал слово «лестница», а не смотрел на него. Потом взял. Бумага тихо хрустнула. Этот звук в городе признают за полноценную валюту.
– Хорошая, – сказал он. – С ней никто не упадёт, если делать шаги вовремя.
– Насчёт шагов, – подал голос Орр. – Кто сегодня проходил по Дымному «по делу»?
Мел на секунду улыбнулся, как человек, которого позвали сыграть любимую мелодию.
– Человек с папкой, – сказал он. – У него походка «комиссии», но глаза не каменные. Он не любит то, что делает, но делает правильно. Таких опасно недооценивать. Они не поднимают голос. Они поднимают подпись.
– Имя? – спросила Мара.
– Имена я не храню, – сказал Мел. – Они быстро портятся. Я храню направления. Его – к четвёртому мосту и выше. Утром. Днём он вернётся сверху вниз. Вечером он будет говорить с тем, кто умеет закрывать двери так, чтобы их потом открывали только с внутренней стороны.
– Достаточно, – сказала Мара. – Долг закрыт.
Мел кивнул. Это кивок человека, который держит равновесие не ради морали, а ради механики.
– Возьмите на дорогу, – сказал он, протянув маленький мешочек с тёплой печатью. – Это не взятка. Это привычка. Привычки спокойнее, когда их кормят.
***
Возле мастерской Сефиры на улице уже лежали тонкие полоски света, как измерительные ленты. прибор гудел увереннее. На кальке выросли новые линии. Карта эхов «Семи мостов» легла, как нервная система: от узлов расходились «нервы», которые сходились в «мозге» – картуше.
– Смотри, – сказала Сефира. – Они переводят «обслуживание» в «ротацию». Это значит: люди будут ходить по «чётным» дням через один мост, по «нечётным» – через другой. Бумажно это красиво. На месте это выломает привычки. Привычки начнут сопротивляться. А там, где привычки сопротивляются, у нас появляется шанс.
– Нам нужно пройти контуром, – сказала Мара. – Не «брать» узлы, а слушать их издалека. Если войти сразу, нас запишут внутрь.
– Согласен, – сказал Орр. – Мы идём на «пятачок» у воды, где всегда сушат рыбу. Там эхо держится лучше, чем у канцелярий. Оттуда поднимем «показания».
Гиль шагал рядом и молчал так, как умеют молчать те, у кого и без того забрали лишние слова. У воды пахло не рыбьим, а бумагой, которая пережила много рук. Ленты на верёвках колыхались на ветру, будто тоже хотели что-то сказать и всё время не успевали.
Мара поставила Печатьник на камень; металлическая пластина вздохнула. Сефира положила поверх кальку, поправила кромки, чтобы не качало по воде. Нить под стеклом дрогнула, и на кальке проступила новая точка.
– Вот, – сказала Сефира. – Это «маршрут привычки».
– Почему не «маршрут людей»? – спросил Гиль.
– Потому что люди забывают, – сказала Мара. – А привычки помнят за них.
Они шли от точки к точке. Город подкидывал им маленькие «да» и «нет», как если бы играл в детскую игру с лепестками. У лавки переплётчика «да» оказалось громче. Там привыкли иметь дело с временем в бумаге. У будки сборщика талонов «нет» зазвучало так, будто кто-то поставил сверху ногу. Там любили считать больше, чем помнить.
На углу с видом на четвёртый мост Мара остановилась. Воздух стал плотнее, как ткань, которую слишком часто стирали. Пластина зашипела, но звук не пошёл наружу – будто утонул в себе. На кальке проступил круг – не точка. Замкнутое «место», которое уже посчитали за «факт».
– Это «обоснование», – сказал Орр. – Его не пробить словами. Его нужно расшивать «по краям».
– По привычкам, – согласилась Мара. – Мы делаем шаг в сторону.
Они свернули в переулок, где тени жили дольше света. Там, у стены, на высоте человечесого плеча, был вбит гвоздь без шляпки. На нём висела старая верёвка. Верёвка была срезана так, что конец её всё ещё помнил узел. Под гвоздём была узкая трещина в камне.
– Здесь люди оставляли «на сегодня», – сказал Орр. – Сумки, сетки, чужие просьбы. Если эта привычка жива, «обоснование» начнёт спорить само с собой.
Мара коснулась трещины Печатьником. Металл дрогнул так, будто городской воздух сел на проволоку. На кальке линии в круге чуть расплылся, как если бы на него выдохнули. Этого было достаточно, чтобы круг перестал быть «фактом» и снова стал «делом». Дело – можно обсуждать.
– Записываю, – сказала Сефира. – Точка у гвоздя. С ней круг не закроется. Двигаемся дальше.
***
К полудню у них была карта, которую можно было показать даже тем, кто любит закрывать глаза. Эхо маршрутов, места силы привычек, слабые узлы обоснований, где достаточно чужого выдоха. Мара смотрела на ленту и видела, как город шевелится под бумагой, как рыба под льдом.
– Мы можем тормознуть «переучёт», – сказала она. – Не навсегда. Достаточно, чтобы люди дожили до своих решений.
– И этого хватит, – сказал Орр. – В городе, где всем всё равно, «немного времени» – это революция.
Он умолк. Рука его, лежавшая на краю стола, вдруг едва заметно дрогнула. Дрожь шла не из пальцев. Она шла из памяти. Гиль это увидел раньше Мары. Он тихо коснулся локтя Орра.
– Ты в порядке?
– Это не про меня, – сказал Орр. – Это про тех, кого я не успел.
Он не стал объяснять. Он вообще редко объяснял. В этот момент под дверью тихо шевельнулся воздух. Пекарь поднял глаза и сказал так, будто читает рецепт: «Пришли».
Вошли двое. Не «сниматели показаний». Другие. Те, кто приходит без жезлов. На их пиджаках не было значков, но рукава выдавала одинаковая складка – от портфеля, который долго носили на одной стороне. Они посмотрели на стол. На кальку. На Печатьник.
– Что это у вас? – спросил первый.
– Карта запахов, – ответил Пекарь. – Люди делают вид, что хлеб пахнет одинаково. А он пахнет по-разному на каждой улице.
Мужчины на секунду потеряли темп. У хорошей лжи есть свойство: она не лезет в драку, она тянет на разговор. Первый поднял глаза на Орра.
– А вы у нас кто?
– Тот, кто будет отвечать, если здесь найдут лишние линии, – сказал Орр. – А вы – кто, если их не найдут?
– Мы – комиссия, – сказал второй. – Временная. По «устойчивости».
– Временно устойчивые редки, – заметила Мара. – Обычно такие либо падают, либо становятся постоянными и начинают падать чаще.
Первый чуть улыбнулся. Он узнал в ней человека, который умеет говорить. Это раздражало и притягивало.
– Нам сообщили, – сказал он, – что вы ходите по мостам ночью и дышите в щели. Это не запрещено. Пока. Но город не любит, когда в него дышат не по расписанию.
– Город вообще не любит, когда в него дышат, – сказал Пекарь. – Он терпит.
Первый перевёл взгляд на карту. Его рука, сама того не желая, нарисовала в воздухе маленький круг. Привычка. Профессиональная.
– У вас красивая калька, – сказал он. – Красивые вещи обычно нервничают, когда их смотрят слишком близко.
– А некрасивые – когда их кладут в папки, – сказала Мара. – Далеко и надолго.
Они смотрели друг на друга, как два человека, которые одновременно подошли к узкой двери и ни один не хочет уступать. Тишину спас пластина. Он тихо «мммкнул» – звук, который он издаёт, когда верхние уровни меняют «громкость». Нить под стеклом дрогнула. На кальке, в правом нижнем углу, проступила новая линия. Она не шла из города. Она шла «сверху».
– Переучёт ускоряют, – сказала Сефира спокойно. – Наша точка у гвоздя их раздражает. Они решили «пересчитать» раньше, чем планировали.
– Значит, мы успели их догнать, – сказал Орр. – И они заметили, что мы бежим.
Комиссия перехватила взгляд. Первый посмотрел на жилка под стеклом, потом на бумагу, потом на руки Мары. Он ничего не сказал. Он кивнул и ушёл. Второй задержался на полшага дольше и произнёс почти искренне:
– Берегите карту. Даже если она не ваша.
Когда дверь закрылась, Пекарь сел. Он редко садился днём. Его усталость всегда была честной.
– Вечером придут другие, – сказал он. – Те, что не спрашивают. Я буду печь громче.
– А мы будем работать тише, – сказала Мара. – У нас есть контур. Нам нужна «точка входа». Такая, которую они не поднимут быстро.
– Есть, – сказал Орр. – «Слепой архив» под пятым мостом. Там хранят то, что не смогли правильно положить в дело. Его любят забывать, потому что он напоминает, что не всё получается. Оттуда можно дотянуться до их «обоснования» не по линии, а по стыду.