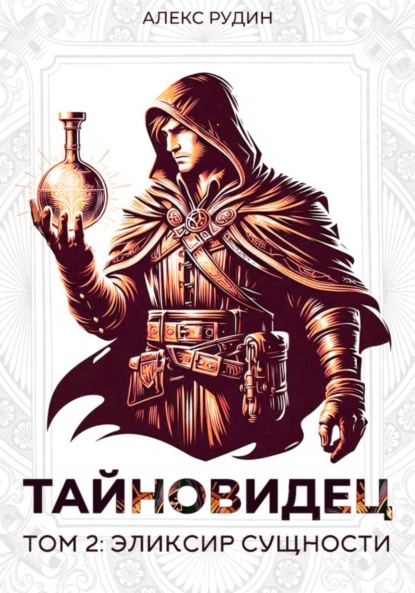- -
- 100%
- +

Пролог
Я впервые упал с лестницы задолго до того, как вообще оказался на заводе.
Мне было двадцать семь, я сидел ночью на кухне, пил остывший чай и смотрел в тёмное окно. За стеклом отражалась только моя блеклая физиономия и лампа под потолком. Всё было до смешного обычным: грязная чашка в раковине, записка от мамы на столе, телефон с бесконечной лентой новостей.
И вдруг мир оборвался.
Ступень ушла из-под ноги так резко, будто кто-то выдернул её. Воздух ударил в лицо. Металл лестничного пролёта резанул по руке. Колено встретилось с жёсткой гранью ступени, чьи-то голоса вспыхнули сверху, кто-то крикнул. Я не успел выругаться. Лишь короткий, рваный вдох – и плотный удар в бок, в спину, в голову. Секунда, и тишина.
Я сидел всё там же, на своей кухне. Чашка с чаем стояла на столе. Телефон лежал экраном вниз. Никаких лестниц рядом не было.
Я посмотрел на свои руки. Ладони дрожали, пальцы сжались в кулаки. Никаких синяков, никаких ссадин. И всё же тело болело так, будто я действительно скатился с пролёта.
«Спокойно», – сказал тихий голос внутри.
Он не звучал в ушах. Не вибрировал в воздухе, не ломился в череп. Это было скорее ощущение, чем звук, привычная интонация, которую я знал лучше собственного дыхания.
– Это не со мной было, – прошептал я.
«Не в этот раз», – отозвался голос.
Я провёл рукой по лицу, чувствуя липкий пот на лбу. В горле стоял вкус железа. Запястье ныло, будто я уже успел его вывихнуть. Я встал, прошёлся по кухне, дотронулся до стола, до стены, до холодного подоконника. Всё было на месте. Только мир чуть дрожал, как стекло после удара.
Я знал, что это повторится.
Такие чужие воспоминания приходили ко мне не впервые. Иногда это были короткие вспышки: запах чужой весны, боль в чужом плечe, детский смех в доме, где я никогда не жил. Иногда – целые сцены, как эта: падение, крик, удар о бетон. Они возникали внезапно, выжигали сознание и оставляли за собой странную пустоту, как воронку после взрыва.
Долгое время я считал, что просто схожу с ума.
Мама списывала всё на усталость. Врач говорил о стрессе и советовал больше гулять. Коллеги шутили, что мне нужно отпуск, а лучше – новую жизнь. Никто не видел того, что видел я, и никто не слышал того голоса, который шептал иногда между мыслями.
«Это не болезнь», – повторял он, когда я снова хватался за виски. – «Ты просто помнишь больше, чем один человек должен помнить».
Больше, чем один человек должен помнить.
Тогда это звучало как оправдание. Сейчас – как приговор.
Я стоял у окна и смотрел на своё отражение. В жёлтом свете лампы оно казалось плоским, чужим. На лбу, прямо посреди переносицы, меня вдруг кольнуло знакомое чувство – будто в глубине кожи, под костью, кто-то медленно закрутил тонкую спираль. Не больно. Настаивающе.
Я моргнул. На миг показалось, что в стекле отражаюсь не только я. Будто за моими плечами стоят силуэты других людей: выше, ниже, старше, в форме, в халате, в рабочей одежде. Сотни глаз смотрят сквозь меня, не видя. Они живут каждую свою жизнь, не подозревая, что кто-то несёт в себе их память.
Я.
«Знаешь, чем плоха спираль?» – тихо спросил голос. – «Её легко перепутать с кругом».
Я тогда не понял, о чём он.
Спираль казалась мне красивым словом из чужих лекций: про вселенную, про ДНК, про повторяющиеся узоры судьбы. Но в ту ночь, глядя на своё отражение в чёрном стекле, я впервые почувствовал, что живу не по прямой. Все мои дни, выборы, ошибки, страхи и решения словно наматывались на невидимую ось, возвращаясь почти в те же точки, только на другом витке.
И где-то на одном из этих витков кто-то уже упал с лестницы.
Кто-то, чью боль я только что прожил вместо него.
Тикнул настенный час. Чай остыл окончательно. Я медленно сел обратно, взял чашку двумя руками, пытаясь согреться. В кухне стало тесно, как будто помимо меня тут теперь сидели ещё десятки людей, каждый со своей историей, своей усталостью, своими неслучившимися словами.
– Кто он? – спросил я вслух. – Тот, кто упал.
«Ты узнаешь», – ответил голос. – «Если не испугаешься».
Я фыркнул и поставил чашку на стол.
Я уже боялся. Боялся давно. Боялся, что очередная чужая память однажды станет последней – и я не вернусь. Боялся, что проснусь в теле другого человека и забуду своё имя. Боялся, что всё, что я считаю «своей жизнью», на самом деле просто один из фрагментов большого архива, который мне доверили без права выбора.
Но больше всего я боялся другого: что спираль продолжит крутиться, и я так и останусь в ней немым свидетелем.
«Ты можешь вмешаться», – сказал голос. – «Ты не только архив. Ты точка, в которой всё сходится».
Я не ответил.
Я тогда ещё не знал, что впереди меня ждёт тот самый завод. Та самая лестница. Люди, которые повторяют движения десятилетиями, пока кто-то один не оступится так, чтобы потрясти всех остальных.
Я не знал, что придётся решить, чью жизнь считать важнее: чужую, уже однажды прожитую, или свою, ещё не случившуюся.
Я просто сидел на кухне, держал в руках холодную чашку и пытался понять, сколько ещё чужих падений мне предстоит пережить, прежде чем спираль перестанет быть красивой метафорой и станет угрозой.
В углу тикали часы. Где-то глубоко внутри лёгкой дрожью вибрировала невидимая ось, на которую наматывались дни.
«Запомни это ощущение», – шепнул голос. – «С него всё началось. И им же всё сможет закончиться».
Я закрыл глаза и постарался запомнить.
Глава 1. Чужие сны
Мне всегда казалось, что сны – это помойка для мозга. Куда оно скидывает весь дневной мусор: обрывки разговоров, случайные лица из метро, чью-то фразу из новостей, забытый страх детства и вечное «надо бы заняться собой», которое каждый раз переносится на завтра.
Так было раньше.
В какие-то годы я мог неделями не помнить ни одного сна. Просыпался с тупой усталостью, но без картинок. Жизнь шла по прямой: будильник, душ, дорога, работа, дом, лента новостей, краткая иллюзия отдыха – и снова по кругу.
В последнее время круг перестал быть кругом.
Сны больше не распадались. Они стали слишком цельными. Слишком подробными. Слишком чужими.
В ту ночь, после лестницы, я почти не уснул. Несколько раз проваливался в тёмную пустоту – без фигур, без голосов, без привычных вспышек чужой памяти. Просто темнота и стук собственного сердца, который наконец-то был только моим.
А утром всё вернулось, как будто ночь была короткой передышкой.
Я проснулся не своим утром.
Сначала было ощущение света. Он падал не на мой потолок и не в мою комнату. Там был другой дом: низкий, с толстым слоем краски на подоконнике, с двойным окном, за которым стояло дерево, ободранное до голых веток. На оставшихся листьях держался тусклый ржавый цвет, как будто осень давно кончилась, но кто-то забыл снять декорации.
Я – не я – стоял босыми ногами на холодном линолеуме и знал, что в комнате пахнет угольным дымом и старой вязаной кофтой. Знал, что в кухне сопит во сне человек, который привык вставать раньше всех. Знал, что в правом кармане штанов лежит ключ, который всегда заедает в замке.
Я не видел ничего этого глазами. Я просто знал.
В этом сне мне было лет десять. Там. В чужой голове. В чужом теле, которое помнило, как сильно щиплет мороз, если высунуться во двор без шапки. В жизни, которая началась задолго до моего рождения и закончилась задолго до моего сегодняшнего утра.
Я вдохнул и вместе с воздухом втянул чужой страх.
Страх был тихим, без крика. Не про монстров, не про войну и не про смерть. Скорее про то, что завтра снова будет так же. Тот же дом. Та же кухня. Те же слова через плечо. Те же недосказанности, от которых в груди скапливается кислый ком.
Я дёрнулся, будто меня дотронулись ледяной ладонью, и проснулся.
Потолок был мой. Обои – мои. Трещина над шкафом – моя, я наблюдал, как она растёт вторую зиму. Телефон на тумбочке издавал привычный вибро-рык, требуя, чтобы я уже вставал и делал вид, что хочет жить этот день.
Только тело было не совсем моим.
В груди ещё шевелился чужой холод. Колени слегка дрожали, будто я действительно стоял на голом полу. Плечи ныли так, как не могли ныть у человека, который всю жизнь провёл за столом, а не в угольном дворе.
– Доброе утро, – прохрипел я, не очень понимая, кому.
«Не ему», – отозвался где-то внутри знакомый голос. – «Твоё утро. Его давно кончилось».
Я поморщился, сел на кровати и проверил ладонями своё лицо, как будто оно могло смениться за ночь. Всё на месте: щетина, которую давно пора было подстричь; нос, который я терпеть не мог на школьных фотографиях; веки, оттяжелевшие от недосыпа.
Я поднялся, дошёл до ванной и включил свет. Зеркало показало того же человека, которого я видел вчера ночью в окне кухни. Того, кто слишком много знает для одного тела.
– Нормальный, – сказал я отражению.
Голос прозвучал глухо, как будто шёл через вату. В глубине груди на эту фразу кто-то едва заметно фыркнул.
«Ладно, нормальный, так нормальный», – добавил тот же голос.
Мы с ним не разговаривали вслух. Никогда. Я слишком боялся поймать однажды чужой взгляд: настороженный, профессиональный, оценивающий. Тот взгляд, после которого люди говорят слова вроде «специалист», «наблюдение», «курс терапии».
Я умылся, сделал себе кофе, открыл ноутбук и телефон. На экране, как всегда, вспыхнуло всё сразу: рабочие чаты, личные переписки, новости, уведомления. Ощущение, будто мир одновременно кричит в ухо, но по делу говорить не хочет.
Я открыл заметки.
У меня была отдельная папка, названная нарочито скучно: «Список». Без намёков на мистику, без слова «сны», без заголовков вроде «Что со мной не так». Внутри – короткие записи последних месяцев.
Пальцы дрожали едва заметно, когда я начал набивать новую строку:
«Дом. Низкий потолок. Двойное окно. Дерево с ржавыми листьями. Холодный пол. Запах угольного дыма. Кофта, которая колется. Ключ, который заедает. Ощущение, что это не первый такой день и не последний».
Я остановился и какое-то время смотрел на написанное, будто пытался поймать там ошибку.
Ошибки не было.
Я пролистал заметки вверх.
Несколько недель назад: «Поезд. Ночной вагон. Я – мужчина лет сорока. Кожа на руках грубая, с трещинами. Пахнет металлом, потом и дешёвыми сигаретами. В кармане билет в один конец. Никаких сообщений, никакой переписки. Тишина. Страх не оттого, что кто-то ждёт, а оттого, что никто не ждёт».
Ещё один сон, месячной давности: «Комната с высокими потолками. Большие окна в пол. Я – женщина чуть старше тридцати. На столе открыто письмо, в котором одно и то же слово повторяется до тошноты: «должна». Я стою у окна и знаю, что внизу меня ждут. Знаю, что сейчас скажу «да» во имя спокойствия других. И что через несколько лет буду ненавидеть себя за это решение так же сильно, как сейчас боюсь сказать «нет»».
Ещё дальше вниз – короткие, обрывочные фразы, запахи, жесты, фрагменты комнат, кухонь, дворов. Все они принадлежали людям, которых я никогда не встречал. Людям, чьи жизни уже давно свернулись в архивы, но почему-то продолжали жить во мне.
Я перечитывал записи и чувствовал, как в голове складывается странная последовательность. Это не была привычная помойка. Сны были слишком логичными. Слишком эмоционально точными, чтобы быть случайностью.
Каждый раз, просыпаясь, я ощущал не испуг, а усталость. Как будто отработал дополнительную смену в чужой жизни.
«Чужие сны», – машинально набрал я вверху списка.
Смотрел на эти два слова и вдруг почувствовал, как что-то внутри дёрнулось, словно ребёнок, которого назвали «чужим» в собственном доме.
«Не чужие», – спокойно сказал голос. – «Свои. Просто не только твои».
Я стёр слово «чужие». Восстановил. Потом всё-таки оставил как было.
– Тогда так проще, – буркнул я себе под нос.
«Проще – не значит точнее», – заметил голос. Но спорить не стал.
Работа встретила меня, как всегда: письма, задачи, напоминания о встречах. Монитор высветил список дел настолько длинный, что можно было накрыться им, как одеялом, и сделать вид, что это безопасный мир.
Я делал вид.
Письма раскладывались по папкам. Таблицы заполнялись цифрами, отчёты собирались в аккуратные формы. На переднем плане всё выглядело прилично: вежливые формулировки, планы, дедлайны, созвоны. На заднем, фоновой дорожкой, продолжал жить мальчик у окна, мужчина в ночном вагоне и женщина перед письмом.
– Ты сегодня какой-то помятый, – заметил коллега, проходя мимо.
– Не выспался, – ответил я привычной формулой.
Объяснять про сны не хотелось. Не потому, что я боялся, что мне не поверят. Наоборот. Я боялся, что подберут для всего происходящего слишком правильные слова.
Если назвать чудо медицинским термином, оно перестаёт быть чудом и превращается в диагноз.
В обед я снова поймал себя на том, что смотрю не в экран, а сквозь него. Таблица с цифрами превратилась в осторожную шахматную доску. Каждый ход казался заранее просчитанным, и всё равно кто-то неизбежно оказывался под ударом.
Я свернул рабочие окна и снова открыл заметки.
Хотел дописать детали утра того мальчика. Вспомнить, как в животе холодком отозвалось ожидание чьих-то шагов в коридоре. Как он заранее знал, какие слова прозвучат через дверь, и как отчаянно надеялся, что в этот раз всё будет иначе.
Пальцы зависли над клавиатурой.
Где-то внутри, под привычными мыслительными слоями, шёл свой процесс. Память раскручивалась не по хронологии, а по степени готовности. Как будто кто-то аккуратно подталкивал меня только к тем моментам, которые я ещё способен выдержать.
«Не спеши», – посоветовал голос. – «До всего дойдём».
– Ты, кстати, сам работаешь где-нибудь? – пробормотал я. – Или только комментарии раздаёшь?
Ответом было то самое молчание, в котором прячется улыбка.
День докатился до планёрки. Игорь – наш начальник – говорил уверенно, как человек, который привык держать план в голове, а людей – в рамках. Я ловил знакомые интонации: лёгкий нажим на «надо», исходящий от того, кто никто не спрашивает, чего он хочет сам.
– Главное – предсказуемость, – сказал он. – Стабильность. Система не любит сюрпризы. Любой сбой дороже, чем нам кажется.
Где-то в глубине головы шевельнулась картинка: мужчина с билетом в один конец, который тоже однажды выбрал предсказуемость, пока она не превратилась в петлю.
«Система не любит сюрпризы», – тихо передразнил голос. – «Спираль, между прочим, тоже. Она любит повторения».
Я отмахнулся, словно от назойливой мухи, и кивнул в нужных местах. Рабочий день докатился до вечера, как вагон по рельсам, давно проложенным кем-то другим.
Дома я поймал себя на том, что двигаюсь медленнее обычного. Снял куртку. Повесил. Поставил чайник. Каждое движение казалось заранее записанным в каком-то внутреннем сценарии, который кто-то прокручивает снова и снова.
Телефон зазвонил, когда вода только начинала шуметь. На экране высветилось: «Мама».
– Привет, – сказала она. Голос звучал немного устало, но в этом было что-то тёплое, привычное, родное.
– Привет, – ответил я. – Как ты?
– Да нормально, чего мне будет, – автоматическая формула. – Ты как? Что-то голос у тебя…
Я откашлялся.
– Плохо сплю, – честно сказал я. – Снятся странные вещи.
На том конце повисла короткая пауза.
– Плохие? – спросила она. – Кошмары?
Я задумался. Кошмарами это назвать было трудно. В них было мало ужаса. Больше усталости.
– Скорее тяжёлые, – сказал я. – Как будто всю ночь жил чью-то жизнь, а утром нужно тащить ещё и свою.
Она тихо хмыкнула.
– Бывает, – сказала. – У меня раньше тоже… Ну, в молодости. Такое.
Она запнулась. Я почти услышал, как шуршат пальцы по столу, выпрямляя какую-нибудь бумагу. Типичный жест, когда человек собирается сменить тему.
– Тоже? – переспросил я. – В смысле?
– Снилось, – неохотно уточнила она. – Как будто не ты. Как будто ты – кто-то другой. Или изнутри на тебя кто-то смотрит. Потом проходит. Ты не волнуйся. Главное – не загоняйся.
Слово «проходит» задело сильнее всего.
– А у тебя прошло? – спросил я.
Ещё одна короткая пауза.
– Жить надо дальше, – уклонилась она. – Не ковыряться в этом. Слышишь?
Я слышал. Но вместо того чтобы успокоиться, почувствовал, как внутри что-то почти знакомо дёрнулось, как та самая невидимая спираль под кожей.
После звонка квартира показалась ещё тише.
Я поставил чайник снова – предыдущий уже успел остыть, пока мы говорили. Достал из сушилки нож, чтобы отрезать хлеб. Обычное движение: рука, ручка, доска.
И тут мир изменился.
Кухня дрогнула и стала будто чуть уже. Стены посерели. Свет лампы стал резче, дешевле. Рука с ножом потяжелела, кожа под ней огрубела. На костяшках проступили старые шрамы – не мои, но слишком привычные, словно я сам получал их по одному, в разные годы.
Я сидел за столом, держа нож лезвием вниз. На столешнице стояла недопитая бутылка, тарелка с холодной картошкой, грязная сольница. В воздухе висел тяжёлый, приторный запах дешёвой еды и старого табака.
Где-то в коридоре скрипнула дверь.
– Ты чего с ножом сидишь? – спросил мужской голос, молодой, ещё не успевший огрубеть до конца.
В проёме кухни стоял парень лет тридцати, помладше того, чьими глазами я сейчас смотрел. На нём была потёртая куртка, взгляд настороженный, но в нём сквозило больше бессилия, чем настоящего страха.
Ответ прозвучал из моей груди, но голос принадлежал не мне:
– Думаю.
– О чём тут думать, – отмахнулся младший. – Ты или сделай, или перестань так сидеть. Люди и так шепчутся.
Мне не нужно было видеть продолжение.
Оно уже было во мне, как заранее записанная плёнка. Ещё один вечер. Ещё одна бутылка. Ещё один разговор, в котором никто не умеет сказать главное. Ещё один шаг по знакомому кругу, который кто-то из них вскоре попытается разорвать самым прямым способом.
Тень будущего преступления стояла в этой кухне раньше, чем кто-то действительно упадёт на пол.
Пальцы сильнее сжались на рукояти.
«Не надо», – сказал голос. Уже мой. Уже здесь.
Мир дрогнул.
Я отпустил нож.
Кухня вернулась на место с глухим хлопком. Стены снова стали моими. Лампочка светила обычным, немного тёплым светом. Нож со звоном ударился о доску и перекатился к краю.
Я стоял посреди комнаты, тяжело дыша, будто пробежал марафон. Ладони дрожали. На коже выступил пот. Сердце колотилось не только от испуга, но и от странного, почти осязаемого чувства: я только что вмешался в чужую жизнь, которая уже когда-то случилась.
Я включил воду и подставил ладони под холодную струю. Смотрел на свои руки – на них не было ни шрамов, ни чужих прожилок, только мои родинки и мелкие царапины.
Память о грубой коже и тяжёлой рукояти, однако, никуда не делась.
Некоторое время я просто стоял и слушал, как шумит вода. Звук напоминал дождь по крыше, под которой я никогда не спал, но почему-то знал, как именно он звучит.
«Ты не обязан повторять их», – тихо сказал голос. – «Ни один из этих сценариев. Ни один из этих падений».
Я выключил кран и сел за стол, наконец-то отрезав себе хлеб. Руки всё ещё немного дрожали, но дрожь была уже моей.
– Сначала разберись, где кончается «их» и начинается «ты», – пробормотал я.
Ответа не последовало. Но где-то глубоко, в том месте, где под кожей вращается невидимая ось, мне показалось, что спираль на секунду сместилась. Совсем чуть-чуть – на полшага в сторону.
Впервые за долгое время это движение принадлежало мне.
Глава 2. Руки, которые уже держали нож
Ночью после истории с ножом я почти не спал. Организм обиделся: вместо привычной усталости он получил чужую жизнь в нагрузку и никак не мог решить, что с ней делать.
Каждый раз, как я закрывал глаза, ладони вспоминали тяжесть рукояти. Пальцы сжимались сами, кожа будто грубела, становилась толще, старше. Я чувствовал, как в чужом теле когда-то ноют суставы после долгой смены, как режет кожу сухость, как плечи сводит от однообразного движения.
Стоило открыть глаза – всё исчезало. Моя комната, мой потолок, мой будильник с треснувшим пластиком. Мои руки, без шрамов и мозолей, с обычной офисной бледностью.
Чужое тело отступало. Но память о нём нет.
Я переворачивался с боку на бок, ловил каждый вздох, как будто проверял: это точно моё дыхание или где-то рядом дышит кто-то ещё.
«Спи», – советовал голос.
– Легко сказать, – буркнул я в темноту.
Ответа не последовало. Но ощущение, что я в комнате не один, не ушло.
В какой-то момент я всё-таки провалился в тяжёлую, вязкую дремоту, из которой вынырнул не от будильника. Меня выдернуло ощущение, что в руке снова что-то есть.
Пальцы были напряжены, будто сжимали рукоять. Ладонь помнила шершавость, а подушечки – чуть влажный холод металла. Я резко сел и первым делом посмотрел на руку.
Она была пустой.
Обычные пальцы. Обычная кожа. Немного пота на ладони от ночной нервотрёпки. Но ощущение тяжести никуда не делось. Как будто кто-то забыл вернуть нож в реальность, и он остался где-то между сном и явью, продолжая лежать в руке, которой у меня никогда не было.
Я постоял так пару секунд, перед тем как встать.
На кухне было ещё темно. Я включил свет, щурясь от резкого жёлтого круга под потолком, и автоматически посмотрел на подставку с ножами. Длинный, тяжелее остальных, тот самый, которым я обычно резал мясо, торчал третьим слева. Совершенно невинный, просто кусок стали с пластиковой ручкой.
Я протянул к нему руку и точно в таком же месте остановился, как прошлым вечером.
Тело помнило. Пальцы помнили. Внутри они уже сжимали рукоять, хотя снаружи ещё висели в воздухе.
– Прекрасно, – сказал я себе. – Ещё чуть-чуть, и я начну бояться собственной кухни.
«Ты боишься не ножа», – спокойно заметил голос. – «Ты боишься того, что он уже делал до тебя».
Я сжал зубы.
– Эти сцены уже были, – сказал я. – Уже случились. Что бы там ни произошло, оно не моя вина.
«И не твоя ли ответственность?»
Вопрос прозвучал мягко, без нажима. Но от него внутри будто что-то скривилось.
Я всё-таки взял нож. Медленно. Доказать себе, что могу. Рукоять легла в ладонь почти ласково. Она и правда была меньше, легче, чем в чужой памяти. Но движение пальцев оказалось таким же.
Не моим.
Рука чуть провернулась, меняя хват. Клинок пошёл не по прямой, а лёг под углом – точно так, как режут не хлеб, а что-то более плотное. Я поймал себя на том, что автоматически ищу, где удобнее поставить локоть, чтобы вес тела пошёл вниз.
Я никогда так не делал. Мне не для чего было.
Я положил нож на доску и отступил на полшага.
– Хватит, – сказал я вслух.
Кухня честно промолчала.
«Тело помнит быстрее, чем голова», – сообщил голос. – «Ты удивляешься, но так было всегда. Любой ребёнок сначала падает, а потом понимает, что тут вообще есть сила тяжести».
– Разница в том, что это не мои падения, – ответил я. – И не мои руки.
«Но это всё равно твоя ладонь, когда ты их проживаешь», – не споря, напомнил он.
Я поставил воду, сделал себе кофе и сел за стол с кружкой, которая грела ладони чуть лучше любого утешения.
Телефон на тумбочке мигал уведомлениями. «Список» ждал свою следующую строку.
Я открыл заметки и, не давая себе думать слишком долго, набрал: «Руки. Грубые, с шрамами, сухая кожа. Длинный нож. Белый стол. Запах мяса, старый жир, крик ребёнка за стеной. Чувство, что если отпустить рукоять, всё развалится, а если не отпустить – всё уже развалилось».
Посмотрел на набранный текст.
Было ощущение, что я фиксирую чужой приговор.
Кофе остыл быстрее, чем мне хотелось. Я допил его в несколько глотков, наскоро умылся и собрался на работу. Движения тела были отточены, привычны, но в каждом я искал лишнее. Чужое.
Как я держу зубную щётку? Не странно ли ставлю ногу на ступеньку, когда шнурую ботинок? Не слишком ли уверенно поворачиваю ключ в замке?
До двери дошёл уже с лёгким смехом над самим собой. Паранойя, следующая станция – фольга на голове.
На улице было прохладно. Воздух стягивал кожу на руках, и мои собственные пальцы наконец-то почувствовали себя на месте.
До остановки нужно было пройти мимо маленького супермаркета. Обычно я забегал туда вечером, но сегодня вспомнил, что дома кончился хлеб. Время ещё было, и я свернул к стеклянным дверям.
Внутри пахло привычным миксом из резиновых перчаток, выпечки и дешёвого порошка. Тележки дребезжали, чьи-то шаги шуршали по плитке. Мир казался до боли нормальным.