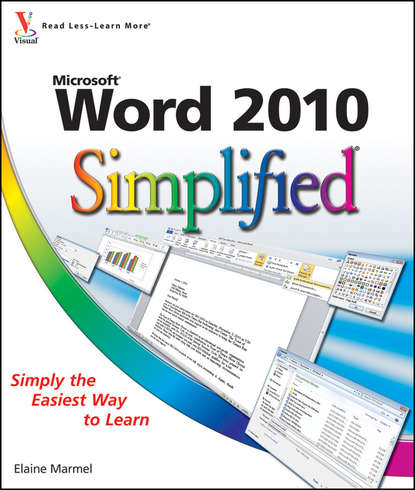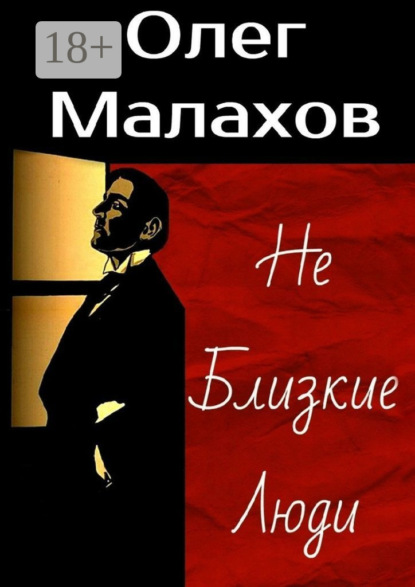- -
- 100%
- +

ГЛАВА 1. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Дождь шел третий день подряд – тяжелый, холодный, осенний. Тот самый дождь, который превращает Москву в серое пятно на карте, стирает лица прохожих и делает город похожим на декорацию к фильму о конце света. Монотонный шум воды, барабанящей по крышам и асфальту, создавал странную иллюзию, будто время застыло, а мир за пределами слезящихся окон размылся и утратил четкость.
Марина Спицина стояла у входа в заброшенное здание бывшей текстильной фабрики и смотрела на желтую оградительную ленту, хлопающую на ветру. Порывы ледяного воздуха выдергивали полиэтилен из рук молодого полицейского, который пытался закрепить его на ржавых столбах ограждения. Парень выглядел совсем юным, почти подростком. Наверное, только из академии.
«Место преступления. Вход воспрещен».
Слова, написанные на ленте, скрывались под струями дождя. Марине казалось, что они вот-вот совсем исчезнут, словно предупреждая: то, что внутри, не имеет названия. Не может быть классифицировано. Не помещается в привычные рамки.
Она поправила воротник плаща, но влага все равно пробиралась за шиворот, ледяными пальцами касаясь кожи. Промокшие волосы прилипли к лицу, и Марина машинально заправила прядь за ухо, только размазав влагу по щеке. Ей было тридцать два года, и она работала криминальным психологом в Следственном комитете уже пять лет. За это время она видела многое: расчлененные тела, жертв маньяков, результаты семейных драм, переросших в бойню. Научилась абстрагироваться, отделять себя от работы, не пускать ужасы, которыми была наполнена её профессиональная жизнь, в сны и мысли.
Но сегодняшний вызов заставил её руки дрожать еще в машине, когда Лыжин позвонил и сказал только два слова: «Приезжай. Срочно».
Что-то в его голосе – хриплость, надлом, почти неуловимая нота страха – заставило Марину выехать мгновенно, не спрашивая подробностей. За пять лет совместной работы она никогда не слышала, чтобы Дмитрий Лыжин, человек с нервами из стальных тросов, говорил так. Она проехала половину города за двадцать минут, нарушив, наверное, с десяток правил дорожного движения. Когда добралась до места, адреналин колотился в висках, заставляя сердце биться чаще.
Дмитрий Лыжин стоял у входа, прикрывая сигарету от дождя. Его массивная фигура казалась несоразмерно большой рядом с хрупкими заграждениями. Майору полиции было сорок пять лет, но выглядел он на все пятьдесят пять. Лицо изборождено морщинами – каждая линия история, каждая складка между бровей бессонная ночь. Он был наставником Марины, когда она только пришла в отдел. Человек, который не просто учил, но и защищал её от того, с чем им приходилось сталкиваться. Научил её главному правилу: «Не пытайся понять убийцу. Пытайся понять жертву. Тогда найдешь того, кто её убил».
Обычно он встречал Марину легкой полуулыбкой, саркастическим комментарием о её вечных опозданиях, шуткой о том, что женщины в хорошей форме должны парковаться с первого раза. Сегодня он молчал. Глаза потухшие, веки опущены, как будто боялся встретиться с ней взглядом.
– Готова? – спросил он, затягиваясь. Дым смешался с паром изо рта, создавая странное впечатление, словно он горит изнутри.
– Насколько плохо? – Марина уже знала ответ по его глазам. По тому, как он держал плечи, чуть наклонившись вперед, словно против невидимого ветра.
– Хуже, – ответил он после долгой паузы, и в этом коротком слове Марина услышала нечто такое, что заставило её сглотнуть сухим горлом.
Они прошли через разбитую дверь внутрь фабрики. Запах старого кирпича, влажной пыли и чего-то химического ударил в нос. Здание пустовало лет пятнадцать – сначала его планировали снести, потом продать, потом забыли. Идеальное место для того, что никто не должен был увидеть. Ничьи глаза, ничьи уши. Только стены, которые простояли здесь с советских времен и видели всякое: и трудовые подвиги, и годы запустения, и деградацию района, и диких подростков, ищущих места для инъекций и секса; и вот теперь – это.
Марина смотрела на заваленные мусором коридоры, подмечая странную тишину, повисшую внутри, несмотря на постоянный шум дождя. Фабрика слишком большая, слишком пустая. Её шаги отдавались эхом от бетонных стен, будто крики в безлюдных горах. Она узнавала это ощущение, это замирание между лопаток – так бывает всегда, когда подходишь к границе, за которой нормальность, обыденность уже не существуют. Там, впереди, начинается территория тьмы. И, хотя они с Лыжиным ходили туда не раз, каждый визит был как первый. Каждый раз это чувство возвращалось.
– Где все? – спросила она, заметив отсутствие суеты, обычно сопровождающей обнаружение тела.
– Второй этаж, восточное крыло. – Лыжин держал фонарик, освещая путь. Электричества здесь давно не было. – Мы сделали все тихо. Никаких внешних групп, минимум людей. Даже шефу не позвонили, пока ты не увидишь.
Это насторожило. Лыжин был педантом в плане процедур. Всегда по инструкции, всегда с полным оформлением и отчетностью. Что могло заставить его изменить своим принципам?
Они поднялись по шаткой лестнице, держась за влажные перила. Внутри работали криминалисты в белых комбинезонах. Немного, человек пять. Все знакомые лица. Свет прожекторов бил в глаза, создавая резкие тени на стенах. Марина услышала щелчки камер, приглушенные голоса, скрип половиц под ногами.
А потом она увидела комнату.
Контраст был настолько резким, что на мгновение ей показалось, будто она переместилась в другое здание или даже в другую реальность. Посреди промышленного хаоса, среди ржавых станков и осыпающейся штукатурки, кто-то создал идеальную белую комнату. Пол выстлан белыми простынями, без единой складки, идеально ровно. Стены завешаны белой тканью, как театральные кулисы. Каждая складка, каждый изгиб просчитан, срежиссирован. В центре – детская кровать, тоже белая. Даже воздух здесь казался другим: стерильным, неподвижным, словно в операционной или в музее.
На кровати лежала девочка.
Марина подошла ближе, заставляя себя дышать ровно. Вдох-выдох. Профессиональная отстраненность – единственный способ не сойти с ума в этой работе. Она чувствовала на себе взгляд Лыжина, оценивающий, наблюдающий. Он беспокоился за неё, и это раздражало. Она не новичок, дважды в неделю посещает психолога, соблюдает все протоколы эмоциональной гигиены.
Девочке было лет двенадцать. Светлые волосы аккуратно расчесаны и разложены на подушке, как у куклы в витрине дорогого магазина. Она была в белом платье, почти подвенечном, только маленьком, детском. Руки сложены на груди, как у покойницы в гробу. Глаза закрыты, лицо безмятежное, словно во сне.
Вокруг кровати – круг из белых роз. Сотни роз, каждая развернута так, чтобы смотреть на девочку, формируя идеальный ореол вокруг постели. Их аромат, сладкий и густой, перебивал запах сырости и разложения, наполняя воздух смесью царственной красоты и смерти.
– Личность установили? – спросила Марина, не отрывая взгляда от лица девочки, стараясь запомнить каждую черту. Она всегда делала это: запоминала жертв, сохраняла их образы, словно обещая, что их смерть не будет напрасной.
– Алина Соколова, двенадцать лет, – ответил Лыжин, доставая блокнот из внутреннего кармана куртки. Она заметила, что его пальцы слегка дрожат – ещё один тревожный признак. – Пропала пять дней назад по дороге из школы. Частная художественная школа на Таганке. Мать отвернулась на секунду у магазина – девочка исчезла. Никаких свидетелей, никаких камер в той точке. Как будто испарилась.
Марина присела рядом с кроватью. Лицо девочки было спокойным, почти умиротворенным. Как будто она заснула и сейчас проснется, удивленно хлопая длинными ресницами, спрашивая, где она и что случилось. Но синеватый оттенок кожи, неподвижность грудной клетки говорили об обратном.
Смерть, даже такая эстетизированная, всегда выдает себя. Смерть не умеет притворяться жизнью, как бы ни пыталась.
– Она не выглядит… – Марина подбирала слова, чувствуя, как сознание сопротивляется тому, что видят глаза. – Не выглядит так, будто страдала.
– Это самое страшное, – сказал Лыжин, и его голос звучал глухо, словно сквозь вату. – Посмотри на руки.
Марина аккуратно приподняла рукав платья. На запястьях – следы от мягких наручников. Не грубо, не жестоко. Почти нежно, если такое слово вообще применимо к ситуации. Кожа не была ободрана, не было следов борьбы. Как будто девочка сама позволяла связывать себя, не сопротивляясь.
Это не вязалось с обычными похищениями. Дети борются, всегда. Даже самые запуганные. Это инстинкт, глубинная программа выживания. Если только…
– Наркотики? – спросила Марина.
– Предварительно да. Токсикология еще не готова, но эксперт сказал – похоже на смесь седативных и галлюциногенов. Держали её в полусознательном состоянии.
Марина поежилась. Представила себе этот ужас: сознание, затуманенное наркотиками, и кто-то, кто манипулирует тобой, словно куклой в кукольном театре.
А потом она увидела оригами – белая птица, журавль. Идеально сложенная фигурка лежала на груди девочки.
– Есть еще кое-что, – Лыжин кивнул на стену, не глядя в ту сторону, словно боялся того, что показывал.
Марина повернулась. На белой ткани, которой была завешена стена, кто-то написал красным, аккуратными, словно выверенными по линейке буквами:
«σ = √[(Σ(x-μ)²)/N]»
Формула. Математическая формула, написанная кровью.
– Это стандартное отклонение, – прошептала Марина, и её сознание профессионала начало работать, анализируя увиденное. – Формула вычисления стандартного отклонения в статистике.
– Что это значит? – Лыжин подошел ближе. Его дыхание заставляло шевелиться ткань, из-за чего формула, написанная на ней, казалась живой, шевелящейся, как змея.
– Это способ измерить, насколько данные отклоняются от среднего значения. Отклонение от нормы. – Марина почувствовала, как по спине пробежал холод, как в детстве, когда она слушала страшные истории под одеялом с фонариком. Только теперь монстры были реальны. – Он пытается что-то сказать этой формулой. Что-то о… нормальности? Об отклонениях?
В голове начали складываться кусочки, но картинка была слишком пугающей, чтобы сразу её принять. Убийца образованный, расчетливый. Каждый элемент на месте преступления – это символ, часть послания. Ничего случайного.
Один из криминалистов подошел к ним. Эдуард Песков, патологоанатом, с которым они работали последние три года. Обычно сдержанный, сегодня он казался напряженным, бледным.
– Доктор Спицина? Вам нужно это увидеть.
Он провел её к дальнему углу комнаты. Там, на белой ткани, были вырезаны символы. Не написаны – именно вырезаны, аккуратно, скальпелем или очень острым ножом. Тонкие прорези в ткани, похожие на ритуальные символы.
Марина узнала эти символы. Она видела их раньше. Несколько лет назад, в другом деле.
Руны. Не настоящие древние руны, а псевдомистические символы, которые один человек использовал для «маркировки» своих жертв.
Алексей Шаманаев.
Архитектор.
Имя всплыло в памяти как пузырь из трясины. Дело, которое изучали в академии как пример манипулятивного убийцы, который никогда не прикасался к своим жертвам физически, но убивал их словами.
– Боже, – выдохнула Марина, чувствуя, как пол начинает уходить из-под ног.
– Ты его узнаёшь? – Лыжин стоял рядом, наблюдая за её реакцией. Профессиональный взгляд, изучающий.
– Это его символика. Шаманаева. Но это невозможно. Он в тюрьме уже несколько лет. – Марина покачала головой. – Пожизненное заключение в «Белом Камне». Одиночная камера. Полная изоляция.
– Я знаю, – Лыжин закурил прямо в помещении, плюнув на все правила о сохранении места преступления. Это лучше всего показывало, насколько он выбит из колеи. – Поэтому ты здесь.
– Подражатель? – Марина посмотрела снова на тело девочки, на весь этот театр, созданный убийцей. – Но знает о деталях Шаманаева только узкий круг людей. Материалы засекречены. Суд проходил в закрытом режиме, чтобы избежать подражателей.
– Да. Но журналисты все равно написали достаточно. А интернет помнит все, даже заблокированные статьи. – Лыжин наклонился к самому уху Марины, почти шепча: – И есть ещё кое-что. Что-то, о чем знают только те, кто работал над делом.
– Что?
Он кивнул в сторону, отводя Марину от остальных.
– Когда Шаманаева арестовали, он сказал: «Я не один. Мои идеи будут жить. У тишины много архитекторов». Мы думали, это бред, обычные угрозы пойманного психопата. Но что, если он действительно имел в виду последователей? Учеников? Людей, которые разделяют его философию?
– И кто-то из них решил продолжить его работу. – Марина обошла комнату по периметру, записывая в блокнот каждую деталь, фотографируя мысленно, сохраняя картину в памяти. Это их ритуал с Лыжиным – она обрабатывает детали, он общается с людьми. Он – сила, она – мозг. Так они шутили раньше.
Белые розы – Шаманаев всегда использовал белые цветы. В его философии белый был цветом «чистоты» и «избавления от боли». Оригами – это тоже его почерк, он складывал бумажные фигурки во время допросов, его пальцы никогда не останавливались, создавая из листа бумаги крошечных птиц, цветы, животных. Символы на ткани. Формула на стене.
Но было что-то еще. Что-то новое.
– Лыжин, освещение здесь какое было, когда нашли тело?
– Никакого. Абсолютная темнота. Мы принесли прожекторы. – Он удивленно посмотрел на неё, но уже догадывался, что она увидела что-то, пропущенное остальными.
– Выключите их.
– Что?
– Выключите свет. На минуту.
Лыжин поколебался, затем скомандовал. Криминалисты переглянулись, но подчинились. Прожекторы погасли один за другим. На несколько секунд воцарилась полная темнота, абсолютная, как в пещере.
Затем кто-то включил ультрафиолетовую лампу.
И комната ожила.
На стенах, на полу, на потолке – надписи. Десятки, сотни слов, написанных специальным составом, видимым только в УФ-лучах. Они покрывали каждый сантиметр белой ткани, змеились, переплетались, создавая жуткий узор из мыслей убийцы.
Марина читала, и её тошнило.
«Чистота»
«Невинность»
«Спасение»
«Освобождение»
«Боль – это любовь»
«Тишина – это храм»
«Дети – незавершенные проекты Бога»
И в центре, над кроватью, крупными буквами:
«ТЫ ВИДИШЬ МЕНЯ, МАРИНА?»
Её имя. Её имя на стене места преступления.
Комната завертелась перед глазами. Марина почувствовала, что падает, но крепкая рука Лыжина поддержала её.
– Включите свет, – сказала она, и голос прозвучал чужим, хриплым от ужаса.
Когда прожекторы вспыхнули снова, Марина увидела, что Лыжин смотрит на неё с тревогой. Его глаза, обычно холодные и профессиональные, сейчас полны беспокойства. И чего-то ещё, что она не могла прочитать.
– Это послание тебе? – спросил он тихо, так, чтобы другие не слышали.
– Я не знаю. Я не знаю, кто это мог написать. – Она изо всех сил пыталась сохранить профессиональный тон, не позволить страху просочиться в голос.
Но она лгала. Она знала, что происходит. Это было послание. Игра. Вызов.
Кто-то копировал Алексея Шаманаева. Но при этом знал её имя. Знал, что она будет здесь. Знал, что именно она увидит надписи.
Кто-то следил за ней. Изучал её. Готовился к этой встрече.
– Мы найдем его, – сказал Лыжин, и его голос звучал как клятва. – Кем бы он ни был. Обещаю.
Марина кивнула, заставив себя выпрямиться, отстраниться от его поддержки. Она должна быть сильной. Должна мыслить ясно. Не позволять страху затуманивать разум. Не позволять убийце играть на её эмоциях.
Потому что одно она знала точно – это только начало. Послание было слишком личным, слишком тщательно подготовленным. Убийца не планировал останавливаться.
Это была первая сцена в длинной и страшной пьесе, и Марина, сама того не желая, стала главной актрисой.
Они вышли из фабрики час спустя. Дождь закончился, но небо осталось низким, серым, будто потолок старого дома. Тело Алины Соколовой увезли в морг, криминалисты закончили работу на месте, собрали все возможные улики. Теперь начиналась бюрократическая часть процесса: формы, заполнение, процедуры.
Но прежде чем сесть в машину, Марина бросила последний взгляд на здание фабрики. И на мгновение ей показалось, что она видит фигуру в одном из разбитых окон верхнего этажа. Кто-то наблюдал за ней.
Просто тень. Игра света. Ничего больше.
Но тревожное чувство осталось. Ощущение, что этот кто-то смотрит на неё. Изучает. Ждет.
И имя этому чувству – страх. Чистый, первобытный страх, который не может ни объяснить разум, ни успокоить логика. Страх, который говорит: беда идёт, и она идёт за тобой.
ГЛАВА 2. МОРГ
Патологоанатомическое отделение находилось в подвале Главного бюро судебно-медицинской экспертизы. Громоздкое здание 1970-х годов, серый бетонный фасад, скрывающий за собой лабиринт коридоров, кабинетов и затхлых архивов. Из окон первого этажа были видны чахлые деревья во внутреннем дворике, мокрые от ночных дождей и блеклые в утреннем свете. Скамейки, когда-то выкрашенные в зеленый, облупились, и сквозь слои старой краски проступало рыжее дерево – как будто саму скамейку охватила какая-то кожная болезнь.
Марина ненавидела это место. Не из-за трупов – к ним привыкаешь. К запаху формалина тоже можно притерпеться, как привыкают к любым, казалось бы, невыносимым условиям. К лампам дневного света, делающим лица живых похожими на мертвецов, к гулкому эху шагов по кафельному полу, ко всему этому профессионал приспосабливается. Но что-то в самом воздухе морга вызывало у неё физическую реакцию отторжения – запах, который впитывается в одежду и остается с тобой часами после ухода. Запах смерти, концентрат всего того, что напоминает о хрупкости человеческой жизни и конечности существования.
Она пришла рано утром, сразу после бессонной ночи. Попытки заснуть были тщетными: стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором возникала белая комната, символы на стенах, лицо девочки. И эта надпись: «ТЫ ВИДИШЬ МЕНЯ, МАРИНА?»
От этих слов мурашки сбегали по позвоночнику. Убийца знал её имя. Знал, что она будет расследовать это дело. Вся инсценировка была создана для неё, как подарок, как приглашение к игре.
Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, она залила в себя две чашки крепкого кофе, попыталась поработать с материалами, благо, Лыжин скинул ей предварительные отчеты криминалистов. Но слова плыли перед глазами, составляя странные узоры, похожие на сообщения, которые видит истощенный мозг: несуществующие значения, паттерны, которых нет. К трём часам ночи она сдалась, приняла душ и решила, что лучше явиться в морг пораньше, чем продолжать безуспешно бороться со своими демонами.
Вскрытие Алины Соколовой было назначено на девять утра. Марина хотела быть там. Не потому что это входило в её прямые обязанности – анализ психологического профиля преступника обычно не требовал физического присутствия при аутопсии. Но Марина давно усвоила, что ответы всегда в деталях. И очень часто эти детали находятся внутри. То, как убийца обращался с телом жертвы, может рассказать опытному психологу больше, чем десятки интервью и тысячи страниц материалов дела.
Она прошла через контрольно-пропускной пункт, показав удостоверение угрюмому охраннику. Спустилась в подвал, где находился морг, и сразу почувствовала перемену температуры – здесь всегда было прохладнее, чем в остальном здании. Стерильно и безлично, как внутри холодильника.
Доктор Елена Сергеевна Власова ждала её в коридоре. Патологоанатом с тридцатилетним стажем, женщина лет пятидесяти пяти, с седыми волосами, собранными в строгий пучок, и внимательными карими глазами. Она была легендой в своей области – могла определить причину смерти по мельчайшим признакам, которые другие просто не замечали. Но главное, у неё был талант оставаться человечной в работе с мёртвыми, не превращаться в равнодушный механизм, перемалывающий трупы.
– Доброе утро, Марина, – поздоровалась она, когда Марина вошла в предбанник. – Или правильнее сказать «доброе» в кавычках, учитывая обстоятельства.
Она заметила тёмные круги под глазами Марины, общую бледность и напряжённость в плечах – признаки бессонной ночи и психологического давления.
– Доброе, Елена Сергеевна. – Марина натянула одноразовый халат и маску, методично готовясь к тому, что должна была увидеть. – Что можете сказать?
Они прошли в секционную, стерильно белую комнату с металлическими столами, хирургическими лампами и стенами, выложенными плиткой. На центральном столе лежало тело девочки, белая простыня деликатно прикрывала её.
Тело Алины Соколовой казалось совсем маленьким на огромном металлическом столе под ярким светом ламп. Без белого платья, без роз, без всей той жуткой инсценировки оно выглядело просто хрупким и беззащитным. Странный контраст: на месте преступления тело было частью театральной постановки, почти произведением искусства в извращенной логике убийцы. А здесь, на столе в морге, это была просто мертвая девочка. Человек, который больше никогда не откроет глаза, не улыбнется, не заплачет.
Марина почувствовала, как сердце сжалось от этого осознания. Все их профессиональные разговоры об уликах, профилях и доказательствах не должны заслонять главное: человека уже нет. Жизнь оборвалась.
– Предварительные результаты интересные, – Власова надела очки и взяла планшет, листая заметки. – Время смерти – примерно восемнадцать часов назад. Причина смерти – остановка сердца, вызванная введением лекарственного препарата.
– Какого именно? – Марина взяла предложенные ей перчатки. Тонкий латекс казался недостаточной преградой между жизнью и смертью, но это была необходимая иллюзия защиты.
– Токсикология еще не готова полностью, но по косвенным признакам – комбинация барбитуратов и опиатов. Смесь, которая вызывает глубокий сон, переходящий в кому, а затем – остановку дыхания. Смерть наступает мирно, без боли, почти незаметно для самой жертвы.
– Как эвтаназия, – тихо сказала Марина, и это слово повисло в стерильном воздухе секционной, словно капля чернил в чистой воде.
– Именно, – Власова подошла ближе к телу, жестом приглашая Марину подойти. – Но это не все. Смотрите сюда.
Она указала на руки девочки. Марина уже видела следы от привязывания на месте преступления, но теперь, при ярком свете, было видно больше.
– Она была привязана долго. По характеру следов – не менее трех дней, вероятно, все пять, с момента похищения. Возможно, шелковыми лентами или бархатными ремнями. Заметьте, кожа не повреждена, нет признаков борьбы или попыток освободиться.
– Почему она не сопротивлялась? – спросила Марина, хотя уже подозревала ответ. – Её держали в сознании?
– Да, но в изменённом состоянии. И вот что странно. – Власова подсветила фонариком глаза девочки, осторожно отводя веко. – Видите? Зрачки расширены неравномерно. Это признак воздействия определенных психотропных веществ. Она была под действием препаратов, которые вызывают галлюцинации, изменение восприятия реальности.
Марина почувствовала, как сжимается желудок. Перед внутренним взором возник ужасающий сценарий: девочка, привязанная к кровати, сознание затуманено наркотиками, реальность искажена, а рядом кто-то, кто внушает ей что-то, отравляя не только тело, но и разум.
– Её пытали психологически, – выдохнула она, сдерживая дрожь в голосе.
– Скорее, «перепрограммировали», – Власова сняла очки, протерла их, словно давая себе время сформулировать мысли. – Марина, я работаю здесь три десятка лет. Видела жертв всех видов насильственной смерти: от бытовых убийств до изощрённых пыток. И это один из самых странных случаев. Физически эта девочка не пострадала. Нет насилия, нет следов побоев, нет признаков сексуального насилия. Её кормили, за ней ухаживали. Посмотрите на ногти – чистые, подстрижены. Волосы вымыты. Даже зубы почищены незадолго до смерти.
– Он заботился о ней? – Марина пыталась понять логику убийцы, и эта забота о жертве была ключом к его мотивации.
– Именно. Как о пациенте. Или… как о дочери.
Власова осторожно повернула тело на бок, показывая спину. На коже, едва различимые без увеличения, были вырезаны символы. Те самые руны, которые Марина видела на ткани в импровизированной «комнате».
– Эти порезы сделаны скальпелем, – продолжала Власова, показывая на экране увеличенное изображение одного из символов. – Точность хирургическая. Глубина – ровно два миллиметра, не больше, не меньше. Режущий инструмент обрабатывался антисептиком перед каждым надрезом. Нет инфекции, нет воспаления.
– Медицинские навыки? – Марина поймала взгляд Власовой, и та кивнула.
– Определенно. Либо врач, либо кто-то с медицинским образованием. С опытом работы с тонкими инструментами. Возможно, хирург, патологоанатом, лаборант – кто-то, кто привык к точности и аккуратности.