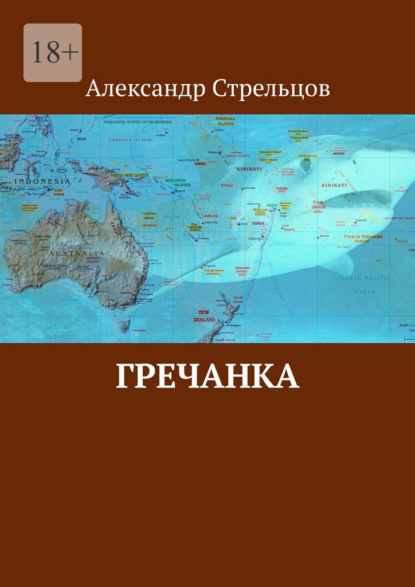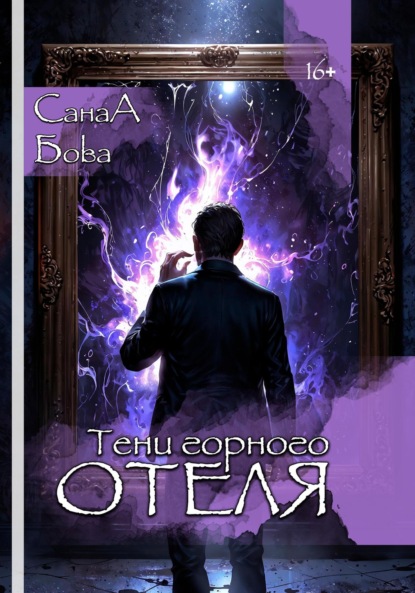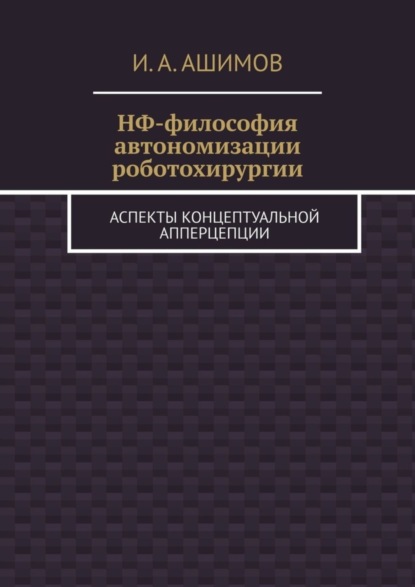- -
- 100%
- +

Редактор Л. А. Камаева
© Александр Стрельцов, 2025
ISBN 978-5-0068-6058-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Все изложенные в произведении события
Основаны на реальных событиях.
Имена членов экипажа – вымышлены.
Автор оставил за собой право на художественный вымысел.
В повести использовано стихотворение Виктории Мозговой.
Выражаю сердечную благодарность
За помощь в написании повести
Директору основной школы села Николаевка —
Бородачевой Наталье Николаевне,
Учителю истории – Семенцовой Нине Павловне.
Жителям села Николаевка, Михайловского района:
Салгановой Валентине Андреевне (внучка Гречанки)
Фоминой Марии Дмитриевне
Дрозд Маргарите Борисовне,
Джол Ольге Николаевне.
Гречанка
Как много в имени твоем
Лежит загадок и секретов…
Но к сожаленью мною в нем,
Увы, не найдено ответов.
Мне ни о чем не говорит
Его шальная мелодичность…
И необычный колорит…
И красота… и экзотичность…
(Из стихов Александра Васенькова)ПРОЛОГ
Как много в имени твоем, Владивосток!
Часто ли мы, живущие в этом продуваемом морскими ветрами городе, задумываемся, проезжая по улицам города или путешествуя по побережью Японского моря, о странных названиях улиц, районов, бухт, мысов и сопок, которые так привычны уху горожан, но режут слух приезжим?
Если с такими названиями, как бухты Золотой Рог, Диомид, Улисс, Патрокл, Аякс, остров Аскольд все более-менее понятно, то не каждый, считающий себя коренным Владивостокцем, может, не заглядывая в интернет сказать, кто такие были Назимов, Поспелов, Чуркин, Эгершельд, Россет, Басаргин, Скрыплев, Старк, Шкот, Буссе. Список можно продолжить, но я хочу остановиться на последней фамилии Буссе: Буссе Федор Федорович, который оставил значимый след в истории заселения Приморского Края.
Фёдор Фёдорович Буссе родился 23 ноября 1838 года в семье директора и педагога 3-й Санкт-Петербургской гимназии, в будущем члена Учёного комитета Министерства народного просвещения по математическим наукам Буссе Фёдора Ивановича.
После обучения в 3-й гимназии в 1855 году18-летний Фёдор поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Казалось, что он пойдет по стопам отца и станет таким же прекрасным математиком и педагогом. Однако, как часто бывает в жизни, все не может идти так гладко и планомерно. Уже на втором курсе Буссе переводится на факультет естественных наук, но его Фёдору окончить не удается. В 1859 году университет закрылся на неопределенный срок из-за студенческих волнений и беспорядков.
И вот в такой ситуации 23-летний молодой человек остается один на один со своим будущим. Что ему делать? Куда идти? На эти вопросы помогает ответить Фёдору его двоюродный брат Николай Буссе, который занимает должность военного губернатора Амурской области. Николай был на 10 лет старше Фёдора, но успел определиться в выборе жизненного пути и имел высокое положение в обществе.
Старший брат предлагает Фёдору начать чиновничью службу на Востоке России. Недолго думая, наш герой соглашается на предложение Николая. В 1862 году Фёдор Буссе зачисляется в штат Главного управления Восточной Сибири и становится участником сплава по Амуру. Цель подобных экспедиций была в обеспечении русских поселений всем необходимым. В этот период Фёдор начинает приспосабливаться к новой территории и условиям, которые определят всю его дальнейшую жизнь.
Уже вскоре Фёдор добился первых карьерных успехов. Несмотря на то, что университет ему окончить не удалось, это никак не помешало ему в будущем. Математический склад ума, усердие и дисциплина помогла Буссе добиться должности управляющего путевой канцелярией в 1863 году.
Несмотря на достижения в карьере, судьба решает добавить в жизнь нашего героя мрачных красок. В 1866 году умирает его двоюродный брат Николай. При возвращении из Благовещенска в Иркутск у него случается инсульт. Так уходит из жизни человек, благодаря которому Фёдор оказался на Дальнем Востоке. Несмотря на утрату, 28-летний Фёдор Фёдорович решает остаться на уже ставшем для него близким Дальнем Востоке.
В 1881—1882 годах Буссе участвует в разработке Положения о переселении крестьян в Южно-Уссурийский край. В проекте предусматривалось переправление крестьян морем из Одессы во Владивосток и выделение переселенцам пособий. После выполнения этого задания в июле 1882 года чиновника назначают на должность руководителя учрежденного во Владивостоке Переселенческого управления.
На этом посту он пробудет 11 лет. Всё это время Фёдор Фёдорович будет профессионально выполнять свои обязанности, ведь крестьян, желающих переселиться, было много. Крестьяне представляли Южно-Уссурийский край себе как «чуть ли не обетованную землю». С 1882 года процесс переселения приобретет более организованный характер, а Южно-Уссурийский край до начала XX в. становится основным колонизируемым районом Дальнего Востока России.
Одной из важнейших задач переселения была доставка переселенцев здоровыми. Фёдор Буссе лично участвовал в осуществлении этой задачи. В 1891 году он сопровождал переселенцев из Одессы во Владивосток. Несмотря на то, что в отчете Буссе оценивал общее состояние переселенцев как «превосходное», он указывал ряд факторов, которые свидетельствовали об обратном. Буссе писал, что многие каюты были завалены вещами и из-за этого создавалась теснота, которая не позволяла убираться в помещениях и адекватно их проветривать.
Фёдор Буссе действительно заботился о качественной реализации переселенческой политики и о здоровье будущих жителей Дальнего Востока.
Не буду утомлять читателя полной биографией Ф. Ф. Буссе. Приведу до полноты картины его рапорты вышестоящему начальству: «Главную цель правительства в Южно-Уссурийском крае составляет, путем заселения русскими людьми, укрепить в нем русское владычество и дать должный отпор посягательствам Китая, который своею пограничной колонизацией и приготовлениями в Манчжурии, обнаруживает стремление завладеть выходом к морю этой обширной страны. Таким образом, политическая цель заключается в противопоставлении желтому человеку белого, в нравственном, экономическом и даже физическом отношениях. Этим требованиям соответствуют все русские подданные, какого бы происхождения они не были и потому привлечение их в край было бы тем полезнее, что такое приращение населения, не вызывает расходов правительства, мало того, приносит с собою капитал, энергию и умственный труд…».
«…Это чужестранное население рассеяно, мелкими фермами, по всему краю, и владеет многочисленными джонками, для морских промыслов и потому в военное время может оказать сильную поддержку не только единокровным китайцам, но и флоту европейской державы, исполняя обязанности лазутчиков и своими грабежами, отвлекая часть войск для защиты обозов, складов и немногих русских деревень, того времени, которые по малочисленности обывателей, не могли защищаться самостоятельно»
Ф. Ф. Буссе. (Стиль и пунктуация сохранены)Как известно детская память очень цепкая, особенно если никто из взрослых насильно не акцентирует на чем-то внимание детей.
Так уж вышло, что моя детская память запечатлела из разговоров за застольем в доме моих дедушки и бабушки, живших в с. Манзовка, воспоминания их родственников из села Николаевка, частенько навещавших их по праздникам и на дни рождения, слово «Орлик», странное имя – Гречанка старшей сестры моей бабушки Наталии и некоторые подробности ее путешествия с родителями из Одессы во Владивосток.
Если бы эти разговоры на смеси русского, украинского и белорусского языков были услышаны мною в 17- 18 лет, как много нюансов и достоверных подробностей мог бы я правдиво изложить в этом рассказе.
Но, как известно – история не терпит сослагательного наклонения!
Давно собирался заняться написанием этой истории, но кроме девичьей фамилии моей бабушки Наталии – «Севастьянова», ласкового названия «ОРЛИК» и что пунктом отправления был город Одесса, у меня не было. Не помогло и обращение в Краевой архив. Поэтому я сделал смелое предположение, что «Орлик» это ласковое имя парохода «Орел», и ошибся.
Оказывается, в приморском селе Николаевка Михайловского района проживает много прямых потомков тех самых переселенцев, которые прибыли во Владивосток пароходом «Петербург» в конце апреля 1883 года, и часть из них поселилась в Николаевке (Николаевское). Стоило мне написать письмо на адрес директора основной школы, как мою просьбу донесли до всех жителей села. В тот же вечер несколько человек позвонили и поделились своими воспоминаниями. И уже через сутки я знал и название парохода, и полный состав семьи моих далеких предков, и подтверждение фактов, основываясь на которые я собирался писать этот рассказ.
ПАРОХОД ПЕТЕРБУРГ
У парохода с названием «Петербург», купленного на добровольные пожертвования жителей Петербурской губернии и принятого в состав Добровольного флота в июне 1878 года вместе с двумя другими пароходами «Москва» и «Россия», были красивые обводы и почти открытая верхняя палуба, он походил на военный корабль. Судно отличалось дорогой внутренней отделкой, роскошным музыкальным салоном. Отделка пассажирских кают второго и третьего класса «Петербурга» была проста, без излишнего блеска. Он, как и другие пароходы Добровольного Общества, был привлечен для перевозки грузов, снабжения, каторжан и переселенцев из малоземельных крестьян на малолюдный Дальний Восток. Кроме навесов на открытой палубе для защиты от солнца, в третьем трюме были устроены вдоль бортов двухъярусные нары с узкими проходами между ними. Всего в двух трюмах вмещалось более семисот человек. Еще около ста человек вмещали четырехместные каюты первого, второго и третьего класса.
В Одессе стояло прохладное утро 9 марта 1883 года. Пароход «Петербург» стоял под погрузкой у коммерческого причала Одесского порта. Судно готовилось к очередному рейсу на Дальний Восток. С раннего утра биндюжники на телегах начали подвозить тюки и снабжение под грузовую стрелу парохода, где портовые грузчики, под присмотром боцмана и вахтенного офицера, споро перегружали эти тюки на грузовую сетку и опускали в судовой трюм. На причале, вдоль кормовой части судна, выстроилась длинная очередь из изнывающих пассажиров третьего и палубного1 класса, а попросту – крестьян переселенцев со своими пожитками, женами и детьми. Основной багаж они сдали под опись, еще накануне, и теперь очередь медленно двигалась к трапу парохода. Мужики нервно курили самокрутки и с завистью смотрели, как то и дело к трапу подкатывали брички с пассажирами первого класса, и матросы, подхватив поклажу, провожали их в каюты.
Погрузка палубного класса началась ближе к одиннадцати часам. Южное солнце, уже начало припекать спины, устроившихся на своем скарбе семьи переселенцев, решивших покинуть покосившуюся, крытую выцветшей соломой избу в селе Неглюбка, Черниговской губернии и, уговоривших себя отправиться в далекий, неизведанный край.
Немалую роль решиться на переселение сыграло то, что одетый, как барин, чиновник, который оформлял им документы, как казенокоштных2 переселенцев, выдал бумагу, где были обещаны за казенный счет бесплатный провоз с питанием на пароходе от Одессы до Владивостока; по прибытии на место водворения они обеспечиваются в течение 1,5 лет продовольствием в расчёте на каждую душу (по 60 фунтов муки и по 1 фунту крупы в месяц); для приобретения леса на строительство жилья и подсобных помещений выплачивается из казны безвозвратно по 100 рублей на семью; новосёлы на таких же условиях получают по паре лошадей или быков, по одной корове; семена для посева зерновых, овощей; 28 наименований предметов домашнего обихода. А самое главное для будущих новосёлов – это возможность получить в бесплатное пользование до 100 десятин земли. На казёнокошном переселенце (за счёт государственной казны) лежат только расходы за переезд от дома к пароходу. В течение первых 5 лет со времени водворения на новой родине переселенцы освобождаются от государственных повинностей и податей, несут только общественные повинности, что для бедной семьи, перебивавшейся тем, что батрачили на местного богатея, показалось манной небесной и возможностью выбраться из беспросветной нищеты.
Главу семейства – высокого тридцатитрехлетнего мужчину с бородкой, в картузе натянутом на давно не стриженые волосы и в стоптанных, но до блеска начищенных сапогах, звали Терентий Савостенок. Он посмотрел на очередь из пассажиров, стоящих впереди, прикинул в уме, через сколько дойдет очередь до его с женой, двумя сыновьями семи и четырех лет и дочкой, которой пару месяцев назад исполнился годик. Терентий снял поношенный пиджак и набросил его на плечи жене – миловидной женщине тридцати лет, держащей на руках спящую белокурую девочку с ангельским личиком. Женщина была одета, хоть и просто, но чисто и нарядно. Светлая льняная блуза, вышитая белорусскими орнаментами, выдавала в ней опытную ткачиху и вышивальщицу. Также опрятно были одеты и ее старшие дети, резвившиеся тут же на причале с остальными детьми переселенцев, коих было не менее двух сотен разного возраста. Еще вчера, сразу по прибытию поезда на вокзал Одессы, всю эту разношерстную толпу осмотрели портовый и судовой медики, причем все оказались здоровы. Ночь всем переселенцам пришлось провести кому в полицейских участках, кому в бараках.
Очередь двигалась медленно. Мысли Терентия были обращены в будущее. Местом поселения семье было предложено село Николаевское (позже -Николаевка), выбранного для поселения ходоком из его родного села – Неглюбка – Дорофеем Мельниковым. Плавание на пароходе должно продолжиться, со слов чиновника, месяца полтора, плюс неделя во Владивостоке. Это значит, что, если пароход не задержится в пути, он успеет посадить огород и поставить избу. Мысли о предстоящей первой зиме тяготили его больше всего. Ответственность за беременную жену, дочку и мальчишек, наложило на его чело печать тревоги, не покидавшей его с тех пор, как они с трудом и за бесценок продали свою мазанку и на поезде приехали в Одессу.
На причале показался моложавый, лет двадцати пяти, с аккуратной испанской бородкой и усами чиновник и по головам стал считать выстроившихся в длинную очередь переселенцев.
– Волнуетесь, Терентий Иванович? Не переживайте! Я с вами во Владивосток пойду – сказал чиновник и, сверившись со списком, улыбнулся, глядя на спящую безмятежным сном белокурую девочку, прижимающую к себе куколку, сделанную из дерюжки и соломы.
– Красивая у вас дочка! Словно из сказки про Белоснежку! Никогда таких ангелочков не встречал! – девочка, словно услышала слова чиновника, открыла глаза и улыбнулась.
Моложавый чиновник не удержался и погладил девчушку по головке.
– Словно ангелок, сошедший с росписи купола Александро-Невской лавры! – подумал он.
Девочка протянула ручку и дотронулась до позолоченной, блестящей, с вензелем пуговицы чиновника. Ее голубые глаза лучились той безмятежной радостью, которая свойственна только детям.
– Стало быть, вы, сударыня, будете – Савостенок Евдокия, а девочку зовут Прасковья? – сверился бородатый со списком и приподнял котелок с головы! – Надеюсь, девочка будет? Назовите Натальей! Так жену Пушкина звали, – улыбнулся он и кивнул головой на слегка наметившийся животик женщины.
– Я вот что думаю! Негоже семье с такими малыми детьми ютиться на нарах в палубном классе. Есть у меня одна резервная каюта в третьем классе. Туда вас и проводят! – чиновник сделал пометку в своих бумагах.
– Звать то вас как? За кого свечку за здравие в церкви поставить? – без подобострастия, с легким поклоном спросила Евдокия.
– Плеска его кличут! – держа за руку младшего брата Ванюшку и прячась за юбку матери и озорно стреляя глазами, подсказал старший Нестор, вызвав смех мужиков и баб, стоящих в очереди.
– Моя фамилия – Плеске! А зовут меня Федор Дмитриевич! Фамилия у меня странная. Это потому, что мои предки приехали в Россию из Германии! А по профессии я орнитолог! Птиц изучаю! – улыбаясь, ответил чиновник.
– И не забудьте! Сегодня в два после полудня состоится молебствование, после чего будет объявлен обед!
Только через час Терентий с женой и детьми оказались в четырехместной каюте, показавшейся им царскими хоромами. Двухярусные шконки3 были застелены одеялами и свежими простынями поверх самых настоящих ватных матрасов. К шконкам, для удобства, были приставлены и намертво прикручены небольшие лесенки. Откидной столик располагался под открытым настежь круглым окошечком, называемым непонятным словом – «иллюминатор». Услужливый молодой матросик помог поместить багаж, показал аккуратное отхожее место на их палубе со странным названием «гальюн» и столовую, сооруженную под навесом на палубе для пассажиров третьего и палубного класса.
Дети, онемевшие от строгого порядка в каюте, с мольбой в глазах смотрели на родителей, ожидая разрешения забраться на верхние шконки.
– Всем оправиться и можно! Но не вздумайте в обувке или с грязными пятками! Нестор! С тебя спрошу! – строго разрешил отец.
– А ты, Евдокия, следи за Прасковьей и Ванюшкой, чтобы ночью, не дай бог, не обмочили казенное имущество! – Терентий еще не знал, что через несколько дней и без детских неожиданностей все белье и одежда отсыреют настолько, что его придется ежедневно сушить, развешивая и в каюте и, на палубе. А взрослое население палубного класса без стеснения будет ходить в исподнем.
Повторного приглашения мальчишки ждать не стали и, ловко вскарабкавшись, застолбили каждый свою сторону.
– Нестар? Няхай з табой пасядзіць наверсе? Прыглядзі! Нам трэба адлучыцца ненадоўга! А ты Іван, глядзі не зваліліся! – Евдокия подала дочку в руки старшему сыну, к великой радости девочки, и пригрозила пальцем Ванюшке.
Отвернувшись от детей, Евдокия ловко достала припрятанные на теле остатки небольших сбережений. Всю наличность на время путешествия переселенцев обязали сдать под роспись в судовую кассу.
Терентий и Евдокия, сдав деньги под роспись, вернулись в каюту только минут через сорок. Маленькая Паша, лежа на спине рядом с уснувшим братом, чему-то поучала куклу на своем детском тарабарском языке.
– Оставляй на вас дитя? – не громко, чтобы не разбудить спящих мальчишек, произнесла мать и взяла дочку на руки. Раздался звонок громкого боя, заставивший вздрогнуть Евдокию, и следом громкий голос матроса в коридоре, призывавший пассажиров на молебен.
10 марта 1883г. Одесса
16.00
– Михаил Васильевич, деньги оприходованы, погрузка окончена! Всего на борту 806 пассажиров, из них 285 детей включая 22 грудничков. Старший механик доложил, что котлы под паром! Какие будут распоряжения? – измотанный недосыпом старпом в удлиненном, темно-зеленном, сюртуке с двумя рядами позолоченных пуговиц с якорями и вензелем ДФ, отдал рапорт капитану, наблюдавшему с крыла мостика, как матросы заваливают и крепят трап.
Капитан тряхнул головой, словно отогнал наваждение, надел форменную фуражку и еще раз посмотрев на главную палубу, где продолжали сновать пассажиры, произнес:
– Командуйте матросам «по местам на швартовку», Иван Александрович! Отойдем от причала, пойдем до Турции под парусами! Погода и ветер позволяют! И прикажите объявить обед, как отчалим, уже шестнадцать! И вот еще что: отобедаете и ложитесь отдыхать! До полуночи я сам буду контролировать третьего штурмана. Вы с полуночи будете нести вахту с ревизором!
Михаил Васильевич Гончаров сорока трех лет от роду принял командование парусно—моторным пароходом «Петербург» только два дня назад. Ему, имеющему опыт командования военными кораблями на Балтийском море, неожиданно приказали прибыть в порт Одесса и принять «Петербург» у тяжело перенесшего тяготы последнего рейса с Дальнего Востока капитана Быкова. Выбор пал на него еще потому, что приобретенные у Германии пароходы были переоборудованы в легкие крейсеры. На верфях Германии были укреплены палубы в местах установок пушек, оборудованы крюйт-камеры для хранения снарядов и пороховых зарядов. Офицерский состав, в основном состоял из военных офицеров.
Но до установок пушек дело не дошло. Новым трактатом Сан-Стефанского мирного договора 1878 года на Берлинском конгрессе были улажены противоречия с Англией и Турцией, грозившей России очередной войной. Болгария лишалась выхода к Эгейскому морю, пушки были убраны в трюм, но комсостав набирался по-прежнему из военных моряков.
Пароход качнулся, по корпусу пробежала дрожь, сопровождаемая утробным уханьем паровой машины. Малышка Прасковья, услышав, как заплакал от страха, проснувшийся Ванюшка, обняла мать за шею и прижалась к ней всем своим маленьким тельцем, и только Нестор продолжал спать, не реагируя на дрожащий корпус парохода и легкое покачивание.
Раздался негромкий стук в дверь, и в каюту заглянул Федор Дмитриевич Плеске. Он был одет в обыкновенную светлую косоворотку навыпуск с пояском, легкие льняные брюки и светлые сандалии.
– Не помешаю? Зашел дать несколько советов, пока есть время перед обедом! Вы присядьте, а то ненароком качнет! Отходим! Что-то рано я в светлое оделся! Снег хлопьями повалил! – Федор Дмитриевич, не спрашивая разрешения, сам присел на нижнюю шконку.
– Терентий Иванович, я письмо от Федора Федоровича Буссе получил с просьбой предупредить переселенцев о неких тонкостях жизни на судне! Вас будут кормить по морскому тарифу! Пожалуйста, не налегайте на мясное, во всяком случае, первое время! Для вас мясная пища будет очень вредна! Уверен, что дома вы питались более скоромной едой! Чтобы перестроиться на новую пищу, вашему организму нужно какое-то время. Если на пароходе есть ваши знакомые, передайте мои слова! Иначе будут проблемы с желудком! Это – первое! Второе – одевайтесь днем сами и оденьте детей в самые светлые и легкие одежды и не разрешайте им находиться на солнце без головных уборов. Третье! Обязательно контролируйте, чтобы дети мыли руки с мылом после каждого посещения отхожих мест! И выкиньте все колбаски и прочие, содержащее мясное, которые вы брали с собой в дорогу, ибо прошло уже несколько дней, и дети могут заболеть животом. Голодать вы здесь однозначно не будете! Пейте только кипяченую воду желательно из своих кружек, баки с кипятком стоят на всех палубах! И, конечно, делайте уборку в своей каюте ежедневно! – Федор Дмитриевич посмотрел в глаза отцу семейства, пытаясь увидеть в них понимание своих слов.
– Если будут вопросы или просьбы, моя каюта выше палубой под номером семь! Обращайтесь в любое время! А сейчас позвольте откланяться?
– Што Глядзiш? Доставай крывянку*! – Евдокия стала трясти старшего сына, пытаясь его разбудить.
Терентий залез в баул, достал завернутую в чистый ручнiк снедь, и, развернув, вытряхнул все в открытый иллюминатор.
Обеденные столы и лавки из строганных досок под парусиновым навесом, были накрыты в районе второго трюма. На каждые восемь человек стояла четырехлитровая чугунная кастрюля со щами.
Переселенцы, смущаясь, рассаживались по лавкам и, перекрестясь, доверяли черпак старшему по возрасту мужику, который и разливал щи по деревянным тарелкам. Евдокия усадила дочку к себе на колени, стала кормить ее со своей деревянной ложки. Мальчишки стучали своими ложками по тарелкам, не забывая стрелять глазами по сторонам. Они еще никогда не пробовали таких вкусных, наваристых щей и теплого белого хлеба, коим они протерли пустые тарелки досуха и совсем уже собрались попросить разрешения у бацьку выйти из-за стола, как на стол была поставлена очередная кастрюля с перловой кашей, приправленной обжаренным луком с фаршем. Над столами, словно по волшебству, пронесся непередаваемый запах, отчего у присутствующих свело скулы. Никто из них никогда не пробовал ничего вкуснее этого простого кушанья. В несколько минут кастрюля и чашки были опустошены и вылизаны. Только остаток запаха продолжал витать над столами.
Палуба наполнилась гамом, и криками матросов, и матом боцмана, приступивших к подъему парусов на фок мачте. Вибрация корпуса и уханье паровой машины внезапно прекратились. На смену им пришли шелестящие, успокаивающие всплески морской воды, обтекающей корпус судна и хлопки еще не до конца обтянутых парусов.
– Старейшин прошу остаться! – на палубу вышел судовой фельдшер, знакомый переселенцам по медицинскому освидетельствованию на берегу.
Бабы с детьми и молодежь, отяжелевшие от еды, стали нехотя расходиться, а некоторые, кто скорым шагом, кто почти бегом двинулись занимать очередь в отхожие места, туда же поспешила и Евдокия, передав дочку мужу.
Снежный заряд закончился. Выглянувшее солнце заиграло мириадами отблесков от водной глади. Далеко по корме виднелись светлыми, размытыми пятнами дома Одессы. Впереди «Петербург» ожидали проливы «Босфор» и «Дарданеллы», но никто из переселенцев и близко не слышал этих мудреных названий. Большинство из них ожидала вторая беспокойная ночь на новом месте: в перенаселенном трюме, пропахшем потом и так и не выветрившемся запахе нечистот от пребывания переселенцев с прошлого рейса.