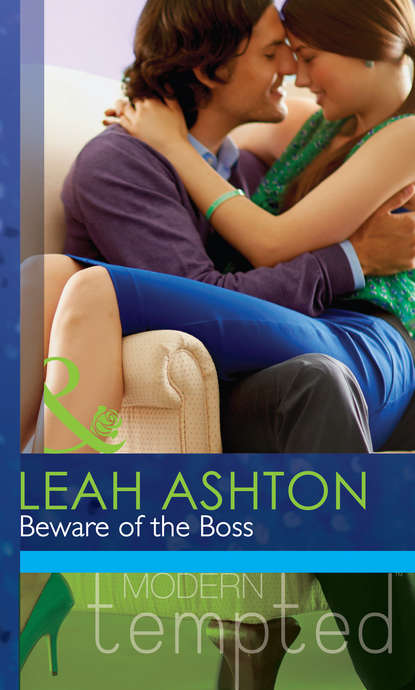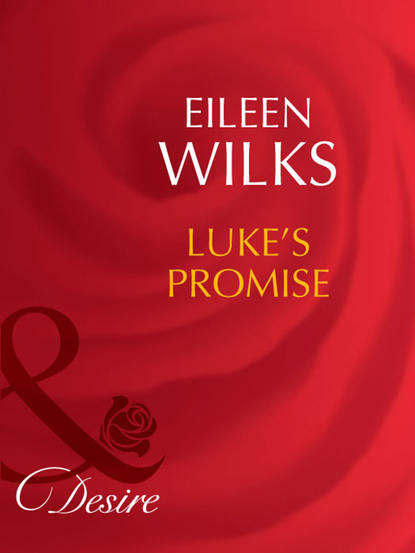Песнь сотворения и пепла

- -
- 100%
- +

Пролог
В начале не было ничего. Ни вспышки света, разрезающей тьму, ни клублящегося хаоса, из которого можно было бы вылепить миры. Не было даже самой тьмы, ибо некому и нечему было её видеть. Существовала лишь одна-единственная, всеобъемлющая, вечная реальность – безмолвие. Оно не было пустым, ибо пустота – это уже свойство, отсутствие чего-то. Это было не-бытие, состояние до всякого свойства, до всякого существования. Оно не длилось, ибо не было времени; оно не простиралось, ибо не было пространства. Оно просто было. И в этом совершенном, нерушимом покое таилась вся потенция вселенных, все формы, все мысли, все чувства, все возможные миры, спрессованные в точку без размера и звука.
И тогда точка эта не выдержала тяжести собственного потенциала.
Из самой сердцевины не-бытия, из самого сердца этого немыслимого Ничто, родился Звук.
Это был не грохот и не мелодия. Это был Акт. Первый и единственный по-настоящему реальный Акт. Чистый, безграничный акт самосознания, который разорвал саму ткань не-бытия, как молния – бархат ночного неба. Это была первичная вибрация, первый импульс, который стал не просто фундаментом, а самим понятием существования. Он не заполнил безмолвие – он отменил его, заменив одной-единственной, всепоглощающей реальностью: Звучанием.
Этот первый Звук, чистый и неструктурированный, породил эхо. И эхо это было не простым повторением – оно было ответом, развитием, вопросом и утверждением одновременно. Оно наслаивалось, дробилось, сталкивалось, переплеталось, рождая новые звуки, новые частоты, новые ритмы. Из этого великого какофонического взрыва родился Порядок. Родилась сложнейшая, бесконечно прекрасная и бесконечно мощная симфония – песнь сотворения.
Каждый её аспект был кирпичиком мироздания. Высокие, звенящие, почти неуловимые частоты сплетались в сияние первых звёзд, в мерцание далёких солнц. Низкие, гудящие, плотные вибрации уплотнялись в камень и металл, в ядро планет и горячую магму. Ритм, ровный и неумолимый, задал сердцебиение времени – тик-так вечности, отбивающий такт от большого взрыва до тепловой смерти всего. Мелодия, прихотливая и полная неожиданных гармоний, вышивала узор судьбы каждой пылинки, каждой кометы, каждой зарождающейся жизни. А гармония – та самая, что рождалась из сочетания всех звуков – стала самой тканью реальности, пространством, в котором всё это существовало.
Из наиболее устойчивых и мощных аккордов этой песни рождались сознания. Первыми пришли титаны – древние, непостижимые сущности, чьи души были настроены на целые пласты бытия. Один стал воплощением гравитации, что скрепляла миры, другой – олицетворением света, что нес жизнь. Их голоса вторили великой симфонии, усиливая её, направляя, становясь её дирижёрами и хранителями. Мир стал совершенным инструментом, а его существование – нескончаемым, божественным концертом, где каждый знал свою партию.
И среди них был один, чей голос был чище горного хрусталя и могущественнее раската грома в самой сердцевине урагана. Его имя было Аэрон. Он был первенцем, первым сыном песни сотворения, её самым любимым и одарённым чадом. Ему была дарована величайшая честь и тягчайшая ноша: он был хранителем гармонии. Его уши, единственные среди всех, могли слышать малейший, зарождающийся диссонанс в музыке мироздания – ту едва заметную фальшь, которая, разрастаясь, могла порвать великую песнь. И одним прикосновением мысли, одним взмахом руки, тихим напевом он мог исправить её, вернув вселенной утраченное равновесие.
Он странствовал по ещё юным, не устоявшимся мирам, и его присутствие было благословением. Там, где его стопа касалась земли, не просто распускались цветы – сама почва начинала тихо мелодично гуметь, наполняясь жизненной силой. Там, где он напевал свои исправительные песни, утихали не просто бури, а сама хаотичная энергия первозданного хаоса укладывалась в стройные, математически прекрасные вихри. Он видел в творении прямое отражение совершенства своей матери-Песни и любил его безмерной, трепетной любовью художника к своей величайшей работе.
Но ничто не вечно, даже для бессмертных. Эоны, неуловимые для смертного ума, текли подобно нотам в бесконечной партитуре. И в великую симфонию начали вплетаться новые, чуждые, резкие звуки. Рождались смертные расы. Люди, эльфы, гномы – существа хрупкие, шумные, полные несовершенства. Их жизни были не долгими, выверенными аккордами, а короткими, отчаянными и часто фальшивыми нотами. Их голоса – полные страсти, жадности, любви и ненависти – вносили в песнь сотворения хаос. Их войны рвали её ткань когтями стали и криками умирающих. Их жадность отравляла чистые ручьи магии мутными стоками зависти. Их короткая память безжалостно искажала и упрощала великие смыслы, заложенные в музыке.
И Аэрон, первый сын, впервые за всё своё бесконечное существование ощутил в своей бессмертной душе нечто странное, холодное и горькое. Это было разочарование. А за ним, как тень, пришла боль. Острая, пронзительная, как нож, сделанный из тишины. Он видел, как созданные им сады, где каждый лист вибрато на своей уникальной частоте, вытаптывались железными сапогами солдат. Он видел, как озёра, чья вода была кристаллом застывшей ноты «ля», мутнели от скверны и невежества. Его любовь к абсолютному, математическому совершенству столкнулась с уродливой, шумной, непредсказуемой реальностью жизни. И жизнь эта, в своей наглой, кипучей деятельности, казалась ему насмешкой над самой идеей гармонии.
Боль переросла в тихую, всепроникающую горечь. Горечь – в холодную, безразличную ярость. Он наблюдал, как гибнут те, кого он когда-то лелеял, как забываются данные им уроки музыки бытия. Он видел, как другие титаны и боги, его братья и сёстры, находили странную, по его мнению, отраду в этом непостоянном, грешном, несовершенном творении. Они любовались вспышкой короткой человеческой жизни, как красивый, но быстро гаснущий фейерверк. Это зрелище наполняло Аэрона бесконечным, вселенским одиночеством и глубочайшим отвращением.
И тогда в его сознании, том самом, что было настроено на идеальную гармонию, родилась ужасающая мысль. Если песнь сотворения породила такую боль, такое уродство, такое несовершенство… значит, сама Песня была изначально порочна. Она была великой ошибкой. Если мир, рождённый из звука, обречён на страдание своих же собственных детей, значит, единственная истинная милость, последний акт любви – это положить ему конец. Прервать этот бесконечный, мучительный концерт. Возвратить всё в изначальную, чистую, беззвучную Пустоту, где никто и никогда не сможет снова страдать.
И Аэрон, первый сын, хранитель гармонии, отвернулся от песни сотворения.
Он ушёл в самые дальние, безмолвные чертоги бытия, на окраину реальности, где музыка мироздания едва долетала шепотом. Он закрыл свои уши, свои бессмертные очи, своё сердце. Он сел в позу вечного ожидания, погрузился в медитацию не-бытия. И начал напевать.
Это не была мелодия. Это было её отрицание. Тихий, монотонный, безжизненный гул, который не творил, а разбирал на части. Он не пел – он шептал. Он выдыхал в ткань реальности слова распада, тишины, небытия. Он призывал конец всех мелодий, конец всех ритмов, конец самого Времени. Так, из самой горечи и отчаяния любви, что обратилась в ненависть ко всему сущему, родилась песнь пепла.
Поначалу это был лишь тихий ропот, едва слышный шелест на задворках мироздания, который тонул в оглушительном хоре жизни. Но Аэрон был могуществен, а его воля, направленная на одну-единственную цель, была непоколебима, как закон тяготения. Он пел свою разрушительную песнь день за днём, год за годом, век за веком. Он не спал, не ел, не отвлекался. Он был лишь голосом, провозглашавшим конец всех голосов. И песнь пепла росла. Набирала силу, как раковая опухоль на теле мира, пожирая здоровые клетки бытия.
Она начала гасить эхо песни сотворения. Реки, чьи воды были когда-то застывшими аккордами, останавливались, их течение замирало, а поверхность становилась матовой и мёртвой. Леса, чьи листья шелестели сложнейшими ритмами, замирали, будто застигнутые врасплох. Магия, что была самим дыханием мира, кровью в его жилах, начала иссякать, оставляя после себя пустоту, онемение, которое смертные с ужасом назвали Молчанием. Аэрон не стремился завоевать мир. Он стремился его отменить. Его слуги, беззвучные тени, рождённые из самого пепла его песни, стали появляться на окраинах обитаемых миров, неся с собой не смерть в привычном понимании, а полное стирание, растворение в беззвучном вакууме, из которого когда-то всё и началось.
Но песнь сотворения, хоть и ослабленная, раненая, изуродованная, ещё звучала. Она, как живой организм, борющийся со смертельной болезнью, отчаянно цеплялась за жизнь. Она находила свои последние, слабые отголоски в самых неожиданных местах: в упорном шепоте ветра, что пытался раскачать ветви древнего дуба; в яростном, ритмичном стуке молота о раскалённый металл в деревенской кузнице, где кузнец боролся с хаосом, придавая ему форму; в терпеливом, монотонном перелистывании страниц в пыльной библиотеке, где одинокий учёный пытался услышать в буквах и словах утерянную музыку.
Она искала проводников. Голоса, которые смогут стать её последним криком, её последней молитвой, её последней надеждой в надвигающейся тьме тишины. И, в величайшей из всех возможных ироний, её взор упал не на могущественных богов, которые уже пали, бежали или отвернулись, а на тех самых хрупких, несовершенных смертных, чьи короткие, полные боли и страдания жизни и стали той самой искрой, что свела с ума Аэрона. Судьба всего сущего была отдана на откуп тем, кого первый сын счёл недостойными великой Песни. Была ли это последняя, отчаянная шутка умирающего мирозения? Или та самая, решающая, диссонирующая нота, которая, войдя в противоречие с песнью пепла, способна породить новую, невообразимую, живую гармонию?
Ответа не было. Лишь звенящая тишина, предвещавшая бурю, да шепот пепла на ветру, обещавший конец всем историям.
Глава 1: Шёпот угасания
Городок Эрлин, затерянный среди холмов, похожих на застывшие зелёные волны, был местом, где время текло иначе. Оно не бежало стремительным потоком, как в шумных портовых городах на юге, и не тянулось бесконечной унылой лентой, как в северных степях. Время в Эрлине было похоже на медленный, ленивый ручей, который тихо журчал меж камней, никуда не торопясь. Воздух здесь был густым и сладким от запаха спелых яблок, хвойной смолы и влажной земли после дождя. Казалось, сама жизнь в этом месте нашла свой идеальный, неторопливый ритм.
Но для Элиана, юного хранителя здешней библиотеки, ритм этот был лишь слабым отголоском чего-то гораздо более великого. С тех пор как он себя помнил, мир для него был не просто совокупностью образов и запахов, но и бесконечно сложной симфонией звуков, которые никто, кроме него, не слышал. Он мог уловить, как каждый лист на дубе у его окна вибрировал на своей собственной, едва уловимой частоте, создавая нежное, переливчатое тремоло. Гул земли под ногами – глубокий, басовитый, проживающий насквозь, – был для него непрерывным органным пунктом, фундаментом всей местной музыки. Даже кирпичи в стенах домов тихо пели свою древнюю, монотонную песнь о минувших веках, о руках, что их сложили, о дождях и солнцах, которые они видели.
Библиотека, где он жил и работал, была его крепостью и его вселенной. Это было неказистое каменное здание, поросшее мхом, с толстыми стенами, в которых были вмурованы тысячи таких же немых песен. Войдя внутрь, человек попадал в царство особой акустики, где даже тихий шёпот отзывался под сводчатыми потолками лёгким эхом. Воздух был напоён ароматом старой бумаги, переплетённой кожи и воска, которым смазывали массивные деревянные двери. Пылинки, кружащиеся в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь высокие стрельчатые окна, танцевали свой беззвучный танец, и Элиану иногда казалось, что он слышит и их – тихий, серебристый шелест, похожий на паутину звука.
Его день начинался всегда одинаково. Проснувшись на рассвете на своей узкой кровати в маленькой комнатке при библиотеке, он первым делом прислушивался. Он слушал, как город просыпается. Первыми всегда были птицы за окном – их трели были ясными, чистыми нотами, рассыпавшимися по всему звуковому спектру. Потом доносился скрип колодезного ворота – ритмичный, немного жалобный звук, похожий на крик одинокой чайки. Затем – отдалённый стук топора, глухой удар молота по наковальне из кузницы на окраине, голоса людей, выкрики торговцев на рынке. Всё это складывалось в утреннюю увертюру Эрлина, живую, хоть и простую, музыку.
– Доброе утро, старина, – тихо говорил он, проводя ладонью по шершавой коре древнего дуба, росшего прямо у входа в библиотеку. Дерево отзывалось едва уловимым, тёплым гулом, словно гигантская виолончель. – Как твой сон?
Дуб молчал, но Элиану казалось, что он понимает. Он чувствовал медленное, величавое течение соков внутри него, подобное адажио в симфонии.
Его обязанности были необременительны. Протереть пыль с полок, разобрать новые поступления (которые случались крайне редко), помочь редким посетителям найти нужный фолиант. Большую часть дня он был предоставлен сам себе и своим исследованиям. Он не просто читал книги – он слушал их. Со временем он научился различать «голос» каждого манускрипта. Одни, самые древние, на пергаменте, звучали низко, с хрипотцой, их повествование было похоже на речитатив старого сказителя. Другие, напечатанные на бумаге, щебетали более высокими, отрывистыми нотами. Он искал не столько знания, сколько следы, отголоски той самой великой Песни, о которой говорилось в старейших легендах.
Однажды, разбирая свитки в самом дальнем и пыльном углу подвального хранилища, он наткнулся на один, особенно ветхий. Он был написан на языке, который уже давно вышел из употребления, но Элиан, благодаря годам, проведённым среди этих текстов, смог его расшифровать. И когда его пальцы коснулись шершавой поверхности пергамента, он не просто увидел буквы – он услышал. Тихий, далёкий, как эхо из глубокого колодца, аккорд. Тот самый, с которого, если верить легенде, всё началось. Это был чистый, ясный звук, полный такой мощи и совершенства, что у юноши на глаза навернулись слёзы. С тех пор он возвращался к этому свитку снова и снова, каждый раз слушая его ослабевающий, угасающий голос, пытаясь запомнить, заучить, впитать в себя эту утраченную гармонию.
Именно в такие моменты он чувствовал своё одиночество острее всего. Он пытался делиться своими «слышаниями» с другими. С старым мэром, который лишь хмурил седые брови и говорил: – Брось ты эти сказки, парень, голова заболит. Занимайся лучше делом, книги на полки расставляй. – С детьми, которые сначала слушали с раскрытыми ртами, а потом, не поняв, убегали играть. С девушками на рынке, которые смотрели на него как на чудаковатого, но безобидного юношу.
– Он добрый, – говорили они, – тихий. Но с головой у него, знаешь, не всё в порядке. Слышит чего-то, чего нет.
Постепенно Элиан смирился. Он перестал пытаться доносить до других то, что было доступно лишь ему. Его мир стал делиться на две неравные части: внешнюю, обыденную, где были яблоки, пыль, простые слова людей; и внутреннюю, невероятно богатую и сложную, где всё было музыкой, где каждый предмет, каждое явление имело свой голос и свою партию в великом, вселенском оркестре.
Сильнее всего эта внутренняя симфония звучала ночью. Когда город затихал, и лишь одинокая сова изредка подавала голос с колокольни старой часовни, Элиан выходил на маленький балкончик под самой крышей библиотеки. Он закрывал глаза и слушал. И тогда ему открывалось всё. Он слышал, как под землёй поют ручьи, как перешёптываются корни деревьев, как звёзды, мириады далёких солнц, ведут свою бесконечную, непостижимую для ума полифонию. Это была песнь сотворения. Ослабленная, потускневшая, местами прерывающаяся, как старая, испорченная граммофонная пластинка, но – всё ещё звучащая. Она была его утешением, его верой, его тайным знанием.
Он не знал, что именно его способность слышать эту угасающую музыку сделает его единственной надеждой мира, который медленно, но верно погружался в немоту. Он был всего лишь хранителем тихого города в зелёных холмах, мальчиком, который слышал эхо мировой песни. И пока что этого было достаточно. Достаточно, чтобы жить. Чтобы чувствовать. Чтобы надеяться, что великая музыка никогда не умолкнет окончательно.
Но в последнее время в этой музыке стало появляться нечто новое. Не фальшивая нота, не случайный диссонанс, который всегда можно было исправить. Нет. Это было нечто иное. Тихий, едва уловимый шёпот на самой границе слуха, который шёл как будто извне, из пустоты между нотами. Шёпот, в котором не было ни жизни, ни гармонии, ни смысла. Лишь одно – обещание полного, окончательного молчания.
Солнце в тот день поднялось над Эрлином особенно лениво, будто нехотя выползая из-за стеганого одеяла холмов. Его лучи, ещё не набравшие полуденной мощи, косо падали на крыши домов, выхватывая из утренней дымки острые треугольники фронтонов и мшистые, посеревшие от времени черепицы. Воздух был прохладен и свеж, он щекотал ноздри ароматами влажной земли, ночного цветения жасмина и дымка из печных труб – сладковатым запахом горящей яблони. Для Элиана это утро началось с лёгкого диссонанса. Обычная, знакомая до каждой нотки утренняя симфония Эрлина была сегодня смазана, будто кто-то провёл по ещё влажному нотному стану мокрой тряпкой. Птичьи трели звучали чуть более отрывисто и тревожно, привычный скрип колодезного ворота – надтреснуто, а из кузницы на окраине, вместо ритмичного, уверенного дон-дон-дзинь, доносилась какая-то нервная, беспорядочная дробь. Это был не разовый сбой, а нарастающая какофония, словно все музыканты городского оркестра вдруг разом забыли свои партии.
Любопытство, та самая сила, что заставляла его часами сидеть над древними свитками, заставило Элиана отложить метлу, с которой он подметал каменные плиты перед входом в библиотеку, и направиться туда, откуда шёл основной источник звукового беспокойства – к кузнице Хагара. Дорога вилась между невысоких, вросших в землю домиков, их стены из дикого камня пели под его шагами глуховатую, многовековую песнь. Но сегодня и эти песни звучали приглушённо, будто придавленные невидимой тяжестью. Рыночная площадь, обычно в это время суток наполненная гомоном, звуками расставляемых прилавков и бодрыми перекличками торговцев, была непривычно пустынна и тиха. Несколько человек кучковались у фонтана, перешёптываясь, их голоса сливались в неразборчивый, встревоженный гул.
Кузница Хагара стояла на отшибе, у самого подножия самого большого холма, упираясь одним боком в скалистый выступ. Это было низкое, длинное здание с огромной, всегда открытой настежь дверью, из которой днём и ночью валил жар и пахло углём, раскалённым металлом и потом. Обычно сама кузница «звучала» для Элиана как мощный, уверенный басовый инструмент. Ровный гул горна – это был её непрерывный гудящий тон, на который наслаивались более высокие обертоны – шипение воды в закалочной ёмкости, звонкие удары молота и глухое, тяжёлое дыхание мехов. Но сегодня из широкого проёма доносился нестройный шум. Слышался не просто гневный, а отчаянный рёв самого Хагара, перемежающийся резкими, металлическими лязгами, и какой-то другой голос – высокий, упрямый, женский.
Элиан замедлил шаг и остановился в тени старого вяза, росшего неподалёку. Внутри кузницы, в багровом свете раскалённых углей, он увидел знакомую картину, но с одним новым, незнакомым элементом. Старый Хагар, его могучая, покрытая шрамами и седыми волосами грудь блестела от пота, стоял у наковальни. Его огромные руки, способные с лёгкостью согнуть подкову, сжимали кузнечные клещи, в которых был зажат какой-то сложный металлический механизм. Элиан узнал его – это был приводной механизм от мельничных жерновов, массивная шестерня с несколькими сломанными зубьями. Мельник принёс его на днях, и Хагар уже бился над ним вторые сутки, что было для него, лучшего кузнеца в трёх долинах, неслыханно долго.
– Не выходит, чёрт бы побрал эту ржавую железяку! – рявкнул старик, с силой швыряя механизм на наковальню. Раздался оглушительный, фальшивый лязг. – Металл какой-то мёртвый! Не хочет коваться, не хочет плавиться! Словно из песка сделан!
И тут Элиан увидел её. Девушку, стоявшую по другую сторону наковальни. Она была невысокого роста, худая, одетая в поношенную кожаную куртку и простые льняные штаны, заправленные в грубые сапоги. Её лицо, заляпанное сажей и саднинами, было обрамлено взлохмаченными, цвета воронова крыла волосами, собранными в небрежный пучок. Но в глазах, больших и тёмных, горел не просто интерес – горел вызов, упрямство и какая-то дикая, неукротимая воля. Это была Лира, дочь Хагара.
– Дай я попробую, отец, – произнесла она, и её голос, обычно звонкий, сейчас был низким и настойчивым.
– Отстань, девчонка! – отмахнулся от неё Хагар, снова хватая клещи. – Не до игр сейчас! Эту штуковину нужно было починить ещё вчера, а она… она не поддаётся!
– Я не играю, – твёрдо сказала Лира. – Дай мне.
Они стояли друг напротив друга, разделённые раскалённой наковальней, как два древних титана, готовых сцепиться в битве. Воздух в кузнице трещал не только от жара, но и от их напряжённого молчания. Наконец, Хагар, с силой выдохнув, отступил на шаг, бросив клещи на наковальню с таким грохотом, что Элиан вздрогнул.
– Ладно! – прохрипел он. – Попробуй! Может, хоть твои тонкие пальцы почувствуют, в чём тут проклятие!
Лира не стала надевать толстые рукавицы. Она подошла к наковальне и осторожно, почти с нежностью, коснулась пальцами сломанной шестерни. Механизм был огромен, почти с половину её роста, и на фоне её маленьких, изящных рук казался ещё более громоздким и мёртвым. Она водила пальцами по сколам, по обломанным зубьям, по ржавым потёкам, и её лицо стало сосредоточенным, почти отрешённым. Она закрыла глаза.
Элиан, затаив дыхание, смотрел и слушал. И он услышал нечто. Тот самый, чуждый шёпот пустоты, что он начал замечать в последние дни, здесь, в кузнице, был особенно силён. Он исходил от самого механизма. Это была не просто тишина – это была активная, пожирающая тишина, которая выедала саму звуковую суть металла, делала его «мёртвым» для ушей Хагара и «некованым» для его молота. Это была песнь пепла, вплетённая в структуру железа.
И тогда случилось нечто. Пальцы Лиры, скользившие по холодному металлу, вдруг замерли. Она глубже вдохнула, и всё её тело напряглось в концентрации. И Элиан увидел, как от кончиков её пальцев, от ногтей, потрескавшихся и чёрных от сажи, пошёл очень слабый, едва различимый в багровом свете горна свет. Он был не белым и не жёлтым, а тёплым, медово-золотистым, цветом расплавленного солнца или чистого, только что выплавленного золота. Этот свет не слепил, он был похож на живую ауру, которая медленно, лениво обволакивала её кисти, стекал по пальцам и переходил на металл.
Он услышал.
Тихий, едва рождённый звук. Противоположность тому шёпоту пустоты. Это был хрустальный, чистый звон, похожий на удар крошечного стеклянного колокольчика. Он зародился в самой сердцевине шестерни и начал расти, набирать силу, вытесняя из металла мертвящую тишину. Золотистый свет сконцентрировался на местах сломов. И Элиан, не веря своим глазам, увидел, как рваные, острые края сломанных зубьев начали меняться. Они не плавились, как под воздействием паяльной лампы. Они… текли. Металл двигался, как жидкий, но оставаясь при этом твёрдым. Он перестраивался, заполняя пустоты, наращивая недостающие фрагменты, сглаживая шероховатости. Ржавчина исчезала, испаряясь лёгким дымком, пахнущим озоном и свежестью после грозы. Процесс длился не больше минуты. Когда золотистый свет погас, а пальцы Лиры оторвались от механизма, на наковальне лежала не сломанная, ржавая железяка, а идеальная, новая шестерня. Металл на сломанных местах блестел свежим, серебристым блеском, будто его только что отлили.
В кузнице воцарилась оглушительная тишина. Даже привычный гул горна казался приглушённым. Хагар смотрел то на дочь, то на механизм, его широкое лицо выражало не гнев, не удивление, а нечто большее – суеверный, животный страх. Он медленно, будто боялся обжечься, протянул руку и коснулся отремонтированного зубца. Металл был гладким и холодным.
– Как… – начал он и замолчал, сглотнув ком в горле.
Лира стояла, тяжело дыша, будто только что пробежала несколько миль. Её руки дрожали. Она сжала их в кулаки, пытаясь скрыть дрожь, и посмотрела на отца с вызовом, но в глубине её глаз читалась та же растерянность и страх.
– Я… я просто починила его, – прошептала она.
– Ты… твои руки… они светились, – выдавил Хагар.
Лира быстро спрятала руки за спину.
– Показалось. От горна. Отблеск.
Но Элиан знал, что это не отблеск. Он всё ещё слышал тот чистый, хрустальный звон, что на секунду вытеснил песнь пепла. Это был звук созидания. Живой, настоящей магии, которая не просто латала дыры, а возвращала вещи их утраченную суть, их истинную «песню». Он смотрел на Лиру, на это хрупкое, упрямое создание, в чьих жилах, казалось, текла не кровь, а само золото, и понимал – она была такой же, как он. Особенной. Слышащей и чувствующей музыку мира, но по-своему. Если он был слушателем, то она… она была инструментом. Живым, дышащим инструментом, способным вносить поправки в саму партитуру реальности.