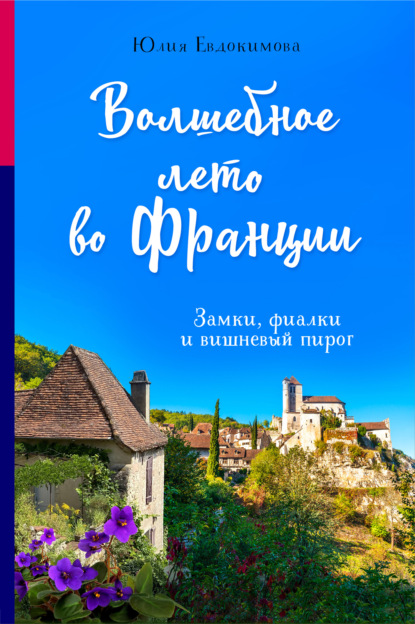Песнь сотворения и пепла

- -
- 100%
- +
Он не решился подойти. Он видел страх в глазах Хагара, виноватое смущение в глазах Лиры. Он тихо, как мышь, отступил из-под вяза и побрёл прочь, назад, в свою тихую библиотеку. Но в ушах у него стоял уже не шёпот пустоты, а тот самый, чистый звон. И в его сердце, привыкшем к одиночеству, впервые зажглась крошечная, робкая надежда. Возможно, он не одинок. Возможно, великая песня ещё не готова умолкнуть, пока в мире есть такие, как она. Девушка с золотом в руках и сталью в душе.
Прошло три дня с того утра в кузнице. Три дня, в течение которых Элиан не мог избавиться от навязчивого звука – того чистого, хрустального звона, что исходил от пальцев Лиры. Он накладывался на привычную симфонию Эрлина, словно новая, незнакомая, но прекрасная тема, и в то же время оттенял собой тот чужеродный шёпот пустоты, что становился всё навязчивее. Теперь, прислушиваясь к миру, Элиан слышал их одновременно: угасающую музыку бытия, ядовитый шёпот пепла и – один-единственный, но такой живой и полный силы, – отголосок золотого звона. Это сводило с ума и заставляло сердце биться чаще. Он несколько раз видел Лиру на рынке – она грузила на телегу мешки с углём, её поза была напряжённой, а взгляд, обычно такой дерзкий, теперь избегал встреч с людьми. Она чувствовала себя обнажённой, пойманной на чём-то запретном, и Элиан понимал её слишком хорошо.
Тревога, вначале едва уловимая, как лёгкое головокружение, постепенно сгущалась, материализуясь в поведении жителей Эрлина. Рыночная площадь больше не гудела привычным деловым гомоном. Люди собирались в кучки, перешёптывались, их голоса сливались в приглушённый, встревоженный гул, в котором ясно читались ноты страха и непонимания. Исчезли бодрые переклички торговцев, не слышно было смеха детей, гонявших между прилавками мяч. Даже животные вели себя иначе: собаки жались к ногам хозяев, нервно поводя ушами, а птицы, обычно заполнявшие небо над городом своими криками, куда-то исчезли, оставив после себя звенящую, непривычную тишину.
Именно в такое наэлектризованное, полное мрачных предчувствий утро на главную, вымощенную булыжником улицу Эрлина въехал всадник. Вернее, то, что от него осталось. Его лошадь, когда-то, должно быть, сильная и ухоженная, была покрыта пеной и язвами, её рёбра выпирали из-под влажной, запачканной грязью шкуры, а глаза были полны такого животного, безумного ужаса, что смотреть на неё было невыносимо. Она шла, почти не поднимая копыт, её движения были механическими, лишёнными всякой воли, будто её гнал вперёд не наездник, а какой-то невидимый, неумолимый кнут отчаяния.
Но всадник был ещё страшнее. Он сидел в седле, сгорбившись, почти обняв шею коня. Его плащ был в клочьях, а под ним проглядывала потрёпанная, запылённая униформа гонца из столицы герцогства. Лицо его было землистым, испещрённым царапинами от веток, а в широко раскрытых, невидящих глазах застыло нечто такое, от чего кровь стыла в жилах. Это был не просто страх перед погоней или усталость от долгой дороги. Это был абсолютный, всепоглощающий ужас, ужас, разъевший душу и оставивший после себя лишь пустую, выжженную оболочку. Он не просто видел что-то ужасное – он видел само Ничто, и это Ничто смотрело на него в ответ.
Лошадь, сделав ещё несколько неуверенных шагов, вдруг замерла посреди площади, её ноги подкосились, и она с тихим, жалобным стоном рухнула на бок, поднимая облако пыли. Всадник не пытался удержаться в седле. Он скатился на камни, слабо дернулся и замер, уставившись в серое небо своими остекленевшими глазами. Вокруг моментально собралась толпа. Люди обступали его молча, боясь подойти ближе, будто его отчаяние было заразной болезнью. Воздух наполнился шёпотом, похожим на шелест сухих листьев.
– Это же гонец из Ардендейла…
– Смотрите, на его плаще герб герцога…
– Что случилось? Война? Война с кем?
Элиан, привлечённый непривычным гулом, вышел из библиотеки и присоединился к толпе. И тут его слух, всегда чуткий, уловил нечто, от чего у него по спине побежали ледяные мурашки. Он не просто слышал шёпот людей. Он слышал самого всадника. Вернее, то, что от него осталось. От человека исходила не привычная, пусть даже искажённая страхом, звуковая аура. От него исходила… тишина. Та самая, пожирающая тишина, что он слышал от сломанного механизма в кузнице, только во сто крат сильнее. Это была не просто немота. Это была звуковая чёрная дыра, которая поглощала все звуки вокруг, создавая вокруг несчастного ореол абсолютного, безжизненного молчания. Песнь пепла пела его погребальную песнь, и он сам стал её частью.
В этот момент к гонцу пробился старый Хагар. Его массивная фигура, обычно такая уверенная, сейчас казалась ссутулившейся. Он опустился на одно колено рядом с умирающим, его грубые, покрытые мозолями руки осторожно приподняли голову гонца.
– Эй, парень, – прохрипел кузнец, и его голос, обычно громовой, сейчас дрожал. – Что случилось? Кто тебя до такого довёл?
Гонец медленно, будто с неимоверным усилием, перевёл взгляд с неба на лицо Хагара. Его губы, потрескавшиеся и покрытые кровяными корочками, шевельнулись. Из его горла вырвался не звук, а хриплый, свистящий выдох, больше похожий на предсмертный хрип. Он пытался что-то сказать, но слова, казалось, умирали, не родившись, поглощаемые той бездной, что он носил в себе.
– Вода! – крикнул Хагар, и кто-то подал ему деревянную кружку.
Кузнец попытался влить немного воды в рот гонцу. Большая часть пролилась, смывая грязь с его подбородка. Но несколько капель попали внутрь. Гонец сглотнул, и его глаза на секунду прояснились. В них мелькнула тень былого сознания, та самая искра, что делает человека человеком. Он сжал руку Хагара с силой, которой, казалось, в нём не могло остаться.
– Мол… Молчание… – просипел он, и это слово, тихое и обречённое, прозвучало на площади громче любого крика. – На западе… всё… кончилось…
Толпа замерла, затаив дыхание. Элиан почувствовал, как холодная рука сжимает его сердце.
– Что кончилось, парень? – настойчиво, но уже мягче спросил Хагар. – Война? Урожай? Говори!
– Всё… – выдохнул гонец, и в его глазах снова поплыла мутная пелена. – Реки… остановились… Магия… иссякла… Птицы… падают с неба мёртвые… не успев издать ни звука… Земля… не поёт… Воздух… мёртвый… Там… там нет ничего… Только тишина… Абсолютная тишина…
Он замолчал, его рука разжалась и безвольно упала на камни. Глаза снова уставились в небо, но теперь в них не было даже ужаса – лишь пустота. Полная, бездонная, всепоглощающая пустота. Он был ещё жив, но то, что делало его человеком, уже умерло, было стёрто тем Молчанием, весть о котором он принёс.
На площади воцарилась та самая тишина, о которой он говорил. Но это была не тишина покоя или ожидания. Это была тишина ужаса. Тишина, в которой слышалось, как замирают сердца, как перехватывает дыхание в горле, как по спине ползут ледяные мурашки. Кто-то из женщин тихо вскрикнул и упал в обморок. Кто-то начал читать молитву, но слова застревали у него в горле, бессвязные и бессильные.
Хагар медленно поднялся, его лицо было пепельно-серым. Он посмотрел на окружающих, и в его взгляде читалось то же отчаяние, что и у гонца, только ещё не осознанное до конца.
– Отнести его в мою дом, – тихо распорядился он. – И… позовите мэра. И старейшин.
Люди молча засуетились, но движения их были лишены обычной энергии, будто они были марионетками, у которых внезапно ослабли нити.
Элиан не двигался с места. Он стоял, вжавшись спиной в прохладную каменную стену ближайшего дома, и слушал. Он слушал не людей, а сам мир. И мир отвечал ему. Тот шёпот пустоты, что он слышал последние дни, теперь был не просто фоновым шумом. Он стал громче, настойчивее, увереннее. Он полз с запада, как ядовитый туман, неся с собой весть о конце всех мелодий, о конце самого звука. Реки остановились. Магия иссякла. Песнь сотворения не просто ослабевала – её вырезали по живому, выжигали калёным железом. И вестником этого апокалипсиса стал полумёртвый человек, в котором звучала лишь одна нота – нота абсолютного, безнадёжного Молчания.
Элиан закрыл глаза, пытаясь найти в себе тот чистый звон, что исходил от Лиры, пытаясь ухватиться за него, как за спасительную соломинку. Но сегодня тот звон был слаб и далёк. Его заглушал нарастающий, всепоглощающий рокот приближающегося конца. Впервые за всю свою жизнь он почувствовал не просто одиночество, а леденящий душу, абсолютный ужас. Ужас перед тем, что может наступить, когда песнь окончательно умолкнет. И он понял, что весть, принесённая умирающим гонцом, была не просто новостью. Это был приговор. Приговор всему живому. И отсрочка его исполнения подходила к концу.
Вернувшись в библиотеку после шока на площади, Элиан попытался укрыться в привычной рутине, как в крепости. Он механически расставлял книги по полкам, вытирал пыль с подоконников, разбирал свитки, но его пальцы не чувствовали привычной текстуры пергамента, а уши – музыки, что жила в старых фолиантах. Весть, принесённая умирающим гонцом, висела в воздухе тяжёлым, незримым покрывалом, заглушая все остальные звуки. Скрип половиц под его ногами, шелест страниц, даже собственное дыхание – всё это тонуло в оглушительном гуле той тишины, что надвигалась с запада. Он был подобен музыканту, который внезапно начал глохнуть и лишь по памяти, по вибрациям костей, пытался воспроизвести ускользающую от него мелодию мира.
С наступлением ночи тревога не утихла, а лишь сгустилась, превратившись в нечто осязаемое и враждебное. Воздух в его маленькой комнатке стал тяжёлым, им было трудно дышать, будто в нём не хватало не кислорода, а самой жизни, самой вибрационной энергии. Даже старый дуб за окном, обычно напевавший свою убаюкивающую песнь, стоял безмолвно, его листья не шелестели, а лишь чёрными силуэтами застыли на фоне беззвёздного, неестественно тёмного неба. Элиан долго ворочался на своей узкой кровати, прежде чем провалился в беспокойный, прерывистый сон.
И тогда пришли Они.
Его сны никогда не были просто наборами образов. Они всегда были симфониями, сложными звуковыми полотнами, где эмоции рождали мелодии, а события – ритмы. Но в эту ночь его слух, всегда бывший его величайшим даром, стал вратами для чистого кошмара.
Вначале он оказался в знакомом месте – в Долине Забытых Мелодий, о которой читал в древних свитках. Это было место, где сама скала, по преданию, впитала в себя отголоски изначальной Песни Сотворения. Обычно, даже в мыслях, эта долина звучала для него далёким, прекрасным хором, слышимым сквозь толщу веков. Но сейчас долина была мертва. Гигантские каменные скрижали, испещрённые рунами, которые должны были петь, стояли безмолвно, как надгробия на гигантском кладбище. Он подошёл к одной из них, прикоснулся ладонью к шершавой поверхности, умоляя услышать хоть что-то, хоть слабый отзвук былого величия. Но из-под его пальцев не донёсся даже шёпот. Лишь леденящая пустота, которая обжигала хуже любого пламени.
И тогда из-за гребня ближайшей скалы, из самой тёмной расщелины, послышался Звук.
Это не была музыка. Это была её карикатура, её злобный антипод. Если Песнь Сотворения была сложнейшей, божественной полифонией, то это – монотонное, утробное, бесконечно повторяющееся нисходящее глиссандо, которое не создавало, а разбирало на части. Оно не просто било по ушам – оно впивалось в мозг, в душу, в саму ткань сновидения, как червь, выедая изнутри всё живое. Эта мелодия – если её можно было так назвать – была соткана из шепота распада, скрежета ломающихся костей, шипения гасящейся жизни и тихого, безумного смеха самого Небытия. Это была песнь пепла, и она звучала так громко, что у Элиана заболели виски, и он упал на колени, вцепившись пальцами в землю, которая теперь была холодной и безжизненной, как пепел.
– Прекрати! – закричал он во сне, но его собственный голос был поглощён этой всесокрушающей какофонией, не оставив даже эха.
Пейзаж вокруг него начал меняться, подчиняясь разрушительному ритму. Небо, сначала просто тёмное, стало сгущаться, превращаясь в плотную, тягучую массу, похожую на жидкий дёготь. Оно медленно сползало вниз, давя на скалы, и те начинали рассыпаться не на камни, а на беззвучную, мелкую пыль. Цвета утекали из мира, как вода из продырявленного сосуда, оставляя после себя лишь оттенки серого – пепельно-серый, цвет гнилого зуба, цвет забытой могилы. Деревья, бывшие всего мгновение назад могучими исполинами, скривились, их ветви ссутулились и осыпались, превращаясь в тот же мелкий, беззвучный прах. Всё, к чему прикасалась эта мелодия, теряло не только форму, но и саму свою суть, свою историю, свою «песню». Оно просто переставало быть.
А потом он увидел Источник. Не Источник Голоса, о котором говорилось в легендах, а нечто обратное ему. На том месте, где, как он знал из свитков, должен был бить фонтан чистой, звучащей магии, зияла чёрная, бездонная воронка. И из неё, как из гнойной раны, изливалась та самая, ужасающая песнь пепла. Она была густой, как смола, и видимой, как туман. Она стелилась по земле, поглощая последние остатки света и звука. И в центре этой воронки, на троне, сложенном из костей забытых богов и спрессованной тишины, сидел Он.
Элиан не видел Его лица. Он видел лишь силуэт, огромный и искажённый, как тень на стне от пляшущего на костре пламени. Но он чувствовал Его. Чувствовал бесконечную, древнюю скорбь, смешанную с леденящей душу решимостью. Это не был злодей из сказок, жаждущий власти. Это было нечто гораздо более страшное – существо, пришедшее к выводу, что единственное спасение от боли бытия – это полное уничтожение самого бытия. И из Его груди, из самого сердца, исходила та самая разрушительная мелодия, дирижирующая распадом вселенной.
– Почему? – снова попытался крикнуть Элиан, но его голос снова затерялся.
И тогда Силуэт повернулся. Не глаза, а две пустоты, более тёмные, чем самая чёрная ночь, уставились на него. И в его разум, минуя уши, врезался не звук, а мысль, холодная и острая, как лезвие бритвы.
Потому что так должно быть. Потому что только в тишине – покой. Только в небытии – конец страданию. Присоединись к концу. Это единственная истинная гармония.
В этот момент из-за трона выползли тени. Те самые, о которых шёпотом говорили в городе. Беззвучные, размытые существа, не имеющие формы, лишь намёк на неё. Они скользили к нему, не издавая ни единого звука, и там, где они проходили, мир гас окончательно, превращаясь в плоское, безжизненное полотно. Они протягивали к нему свои бесформенные конечности, и Элиан почувствовал, как его собственная песнь, его собственная жизненная сила, начинает затухать под их прикосновением. Он пытался петь, кричать, звать на помощь, но его горло было сжато ледяной рукой, а из груди не выходило ничего, кроме беззвучного пара.
Он проснулся с тихим, захлёбывающимся стоном.
Он сидел на кровати, весь в холодном поту, дрожа крупной дрожью. Его сердце колотилось где-то в горле, выбивая сумасшедший, панический ритм. Он судорожно глотал воздух, пытаясь убедить себя, что это был всего лишь сон. Но это был не сон. Это было нечто большее. Отголоски той мелодии, того утробного, нисходящего глиссандо, всё ещё звучали у него в ушах, фантомная боль, въевшаяся в самый слух. Он чувствовал во рту привкус пепла, сухой и горький.
Он подбежал к окну и распахнул ставни. Начинался рассвет. Небо на востоке тронулось бледной, болезненной зелёной полоской. Но привычной утренней симфонии не было. Город просыпался в гнетущей, неестественной тишине. Птицы не пели. Скрип колодезного ворота был одиноким и надтреснутым. И сквозь эту звенящую, хрупкую тишину он по-прежнему слышал Её. Тихую, настойчивую, неумолимую. Песнь Пепла. Она шла с запада, но теперь он знал, что она живёт не только там. Она живёт в нём. В его снах. В его самых глубоких страхах.
Это не было предчувствием. Это было знанием. Знанием, пришедшим из самого сердца надвигающейся бури. Его кошмары были не игрой разума. Они были эхом реальности. Эхом конца, который уже наступал, и сновидение было лишь первым рубежом, где он столкнулся с врагом лицом к лицу. Врагом, который не нёс смерть, а несёт небытие. И этот враг знал его имя.
Следующие несколько дней в Эрлине прошли под знаком растущего, немого ужаса. Весть, принесённая гонцом, разнеслась по всему городу и его окрестностям, обрастая самыми невероятными и пугающими подробностями. Говорили, что на западе солнце больше не встаёт, и небо там – сплошная чёрная стена. Шёпотом передавали, что земля в тех краях стала холодной как лёд и ничего на ней не растёт, а те, кто не успел бежать, превратились в безмолвные, бледные статуи, застывшие в последнем мгновении отчаяния. Воздух в Эрлине стал густым от страха. Люди ходили по улицам быстро, озираясь, будто ожидая, что из-за угла в любой момент хлынет та самая, сжирающая звук темнота. Они перестали собираться на площади по вечерам, запирались в домах с наступлением сумерек, и даже днём их смех, если он и раздавался, звучал фальшиво и оборванно.
Элиан почти не спал. Каждая ночь приносила с собой новые кошмары, вариации на тему услышанной им песни пепла. Он видел, как библиотека, его убежище, медленно рассыпается в беззвучную пыль, как свитки с древними мелодиями превращаются в пепел у него в руках. Он просыпался с криком, который застревал в горле, и долго сидел на кровати, прислушиваясь к реальному миру, пытаясь отыскать в нём хоть крупицу живой, нетронутой музыки. Но мир звучал всё тише и тише. Шёпот пустоты становился настойчивее, превращаясь в ровный, давящий гул, который стоял в ушах постоянно, как звон в глубокой шахте.
Именно в один из таких дней, когда серое, низкое небо угрожало дождём, а ветер нёс с запада непривычную, ледяную стужу, в Эрлин тайком проник незнакомец.
Элиан как раз возвращался от городского колодца с двумя тяжёлыми ведрами воды. Он шёл, уткнувшись взглядом в землю, пытаясь не слышать навязчивый гул в собственной голове, и поэтому почти столкнулся с ним в узком переулке между харчевней «Танцующий единорог» и кожевенной мастерской. Незнакомец стоял, прислонившись к стене, его фигура сливалась с тенями, и лишь бледное лицо и руки выхватывались из полумрака. Он был высок и строен, одет в поношенную, когда-то дорогую одежду тёмных тонов – плащ с оторванным капюшоном, кожаную куртку, потертые штаны, заправленные в высокие, испачканные грязью сапоги. Но не одежда выдавала в нём чужого. Всё его существо звучало иначе.
Для слуха Элиана каждый человек имел свою уникальную, звуковую ауру. Одни звучали просто и ясно, как флейта, другие – густо и сложно, как виолончель. Звучание этого человека было похоже на сломанный инструмент. Из него исходила резкая, диссонирующая мелодия, в которой смешались гордость, боль, ярость и глубокая, всепроникающая усталость. Это была музыка, в которой не было покоя, лишь вечное, напряжённое ожидание удара. И сквозь неё, как сквозь треснувшее стекло, пробивался знакомый, ядовитый привкус – лёгкий, едва уловимый отзвук песни пепла. Не такой, как у гонца – не поглощающий всё, а скорее… прилипший, как запах дыма после пожара.
Незнакомец заметил Элиана и мгновенно преобразился. Из расслабленной, усталой позы он перешёл в состояние готовности, подобно дикому зверю, почуявшему опасность. Его правая рука, до этого висевшая вдоль тела, незаметно переместилась к эфесу длинного кинжала, заткнутого за пояс. Взгляд, острый и оценивающий, скользнул по Элиану, сканируя его с ног до головы, выискивая угрозу. В его глазах, цвета старого железа, не было ни страха, ни злобы – лишь холодная, отточенная в течении многих лет осторожность.
– Проходи, парень, – произнёс незнакомец, и его голос был низким, немного хриплым, будто в течении долгого времени не использовавшимся по назначению. – Не загораживай свет.
Элиан, опешив, отступил на шаг, расплескав воду из вёдер.
–Я… я просто…
– Я вижу, что «просто», – парировал незнакомец, не меняя позы. – Иди своей дорогой. И забудь, что видел меня.
В этот момент из-за угла харчевни донёсся громкий, пьяный смех и несколько голосов. Незнакомец мгновенно отреагировал. Он метнулся вперёд, не к Элиану, а мимо него, вглубь переулка, и скрылся в тени глубокой арочной ниши, ведущей в чей-то заброшенный погреб. Его движения были бесшумными, плавными и невероятно быстрыми, движениями человека, для которого скрытность и скорость – вопрос выживания.
Элиан стоял, как вкопанный, всё ещё чувствуя на себе колючий холод того взгляда. Он слышал, как в переулок вывалилась компания подвыпивших лесорубов. Они громко спорили о чём-то своём, их голоса, грубые и простые, резали слух после той напряжённой тишины, что окружала незнакомца.
– Говорю тебе, Молк, это конец! – бубнил один из них, толстый и краснолицый. – Мой шурин из Серебряного Дола пишет – у них там уже неделю колокола не звонят! Молчат, будто их языки повырывали!
– Чушь собачья! – отрезал другой, тощий и веснушчатый. – Колоколам язык кто вырвет? Просто ветра нет, вот и не звонят.
Они прошли мимо, не заметив ни Элиана, ни спрятавшегося незнакомца, и их гомон скоро затих в лабиринте улочек.
Когда переулок снова опустел, из ниши послышался тихий шепот:
– Ну? Чего уставился? Убирайся.
Элиан не ушёл. Любопытство, та самая сила, что всегда толкала его к разгадкам, оказалось сильнее страха.
– Вы… вы оттуда? С запада? – тихо спросил он.
Из тени на него снова уставился тот стальной взгляд.
– Я ниоткуда, парень. И я иду туда, куда мне надо. А тебе советую не совать нос не в свои дела. Это может быть опасно для здоровья.
– Я слышу это, – вдруг выпалил Элиан, сам не зная, что им движет. – Та тишина. Она на вас. Как запах.
Это заявление, похоже, застало незнакомца врасплох. Он на мгновение замер, и его жёсткая маска на лице дрогнула, обнажив что-то неуловимое – удивление? Интерес?
– Что ты несешь? – уже без прежней агрессии, скорее с настороженным любопытством, спросил он.
– Я… я просто слышу. Музыку. Или её отсутствие. Вы звучите… сломанно. И на вас пепел.
Незнакомец медленно вышел из ниши. Он снова окинул Элиана изучающим взглядом, но на этот раз в нём было меньше подозрительности и больше анализа.
– Ты не из стражников, – констатировал он. – И не шпик. Слишком… искренний. И глупый. – Он тяжело вздохнул. – Ладно. Забудь, что слышал. И что видел. У меня нет для тебя ни ответов, ни времени.
Он сделал шаг, чтобы обойти Элиана, но в этот момент с главной улицы донёсся громкий, властный окрик, заставивший сжаться сердце Элиана.
– Осмотр! Именем герцога! Все жители – на площадь для пересчёта и опроса! Все посторонние будут задержаны!
По городу пронёсся встревоженный гул. Незнакомец мгновенно отпрянул обратно в тень, его лицо исказила гримаса ярости и досады.
– Проклятие, – прошипел он. – Обложили меня, крысы.
Он посмотрел на Элиана, и в его глазах загорелся холодный, решительный огонь. Казалось, он за секунду взвесил все «за» и «против» и принял решение.
– Слушай, парень, «слышащий», – его голос снова стал тихим и быстрым. – Твоя библиотека тут близко?
Элиан, ошеломлённый, кивнул.
– Прямо за углом.
– Веди. Быстро. И тихо. Если выдашь – тебе конец. Понял?
Элиан снова кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он подхватил свои ведра и, почти не чувствуя их тяжести, рванул в сторону библиотеки, слыша за спиной бесшумные шаги незнакомца. Его сердце бешено колотилось. Он только что впустил в свой дом, в своё единственное убежище, человека, от которого исходила опасность и запах той самой погибели, что надвигалась на мир. Человека с тёмным прошлым, человека, за которым охотились стражники. Изгнанника.
Его звали Кай. И его появление в Эрлине не было случайностью. Это была первая нота в новой, опасной и непредсказуемой мелодии, которую им предстояло сыграть вместе.
Кай двигался за Элианом как тень, бесшумно и неотступно. Его присутствие ощущалось спиной – не физическое прикосновение, а сгусток напряжённой, готовой к взрыву энергии, диссонирующий аккорд, ворвавшийся в привычный звуковой ландшафт библиотеки. Элиан, дрожащими руками поставив ведра с водой в подсобке, запер массивную дубовую дверь на засов, почувствовав себя одновременно и спасителем, и пленником.
– Здесь есть другой выход? – голос Кая был тихим, но в нём не было и тени просьбы; это был требующий точного ответа приказ.
– Нет, – прошептал Элиан, оборачиваясь. – Только окна на втором этаже, но они выходят на главную улицу.
Изгнанник коротко кивнул, его стальные глаза скользнули по стеллажам, уходящим в полумрак под сводчатым потолком. Он оценивал укрытие как полевой командир – с точки зрения обороны, уязвимостей, путей отступления. Его взгляд, холодный и лишённый какого-либо благоговения перед знанием, на мгновение задержался на свитках и фолиантах, будто видя в них лишь потенциальное топливо для костра или баррикаду.
– Ты здесь один? – спросил он, подходя к одному из высоких окон и стоя так, чтобы видеть улицу, самому оставаясь невидимым.
– Да. Старый хранитель… умер прошлой зимой. С тех пор я один.