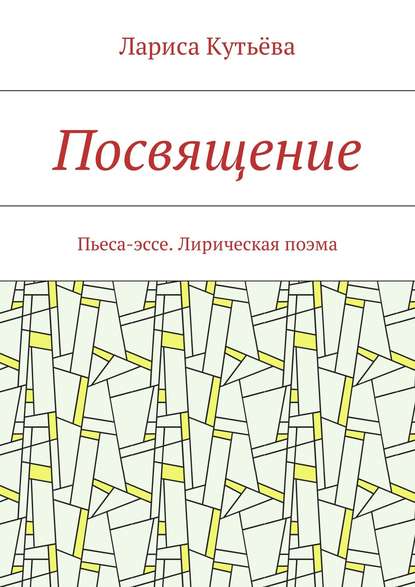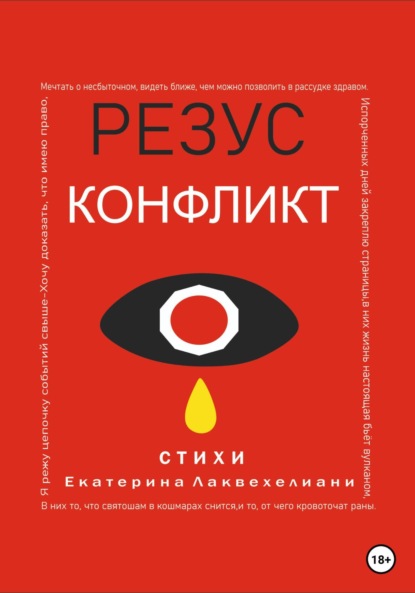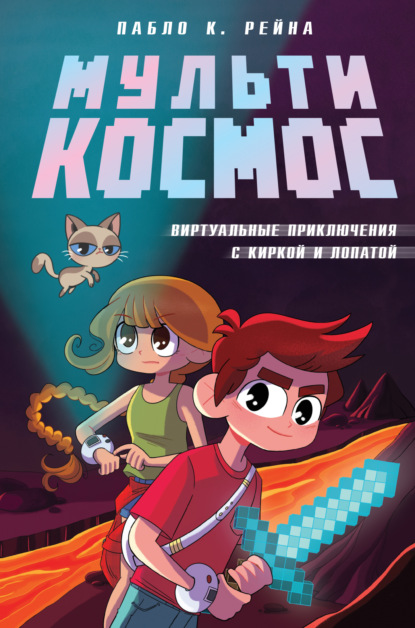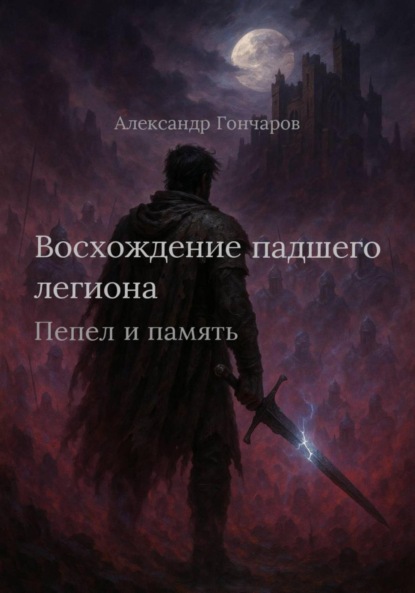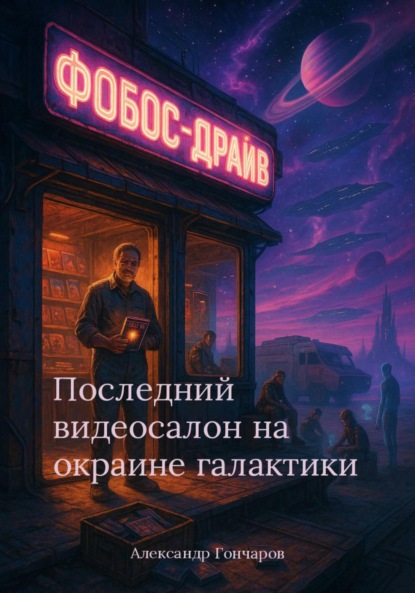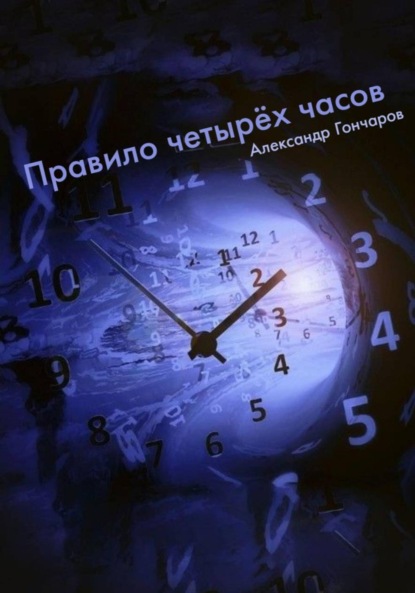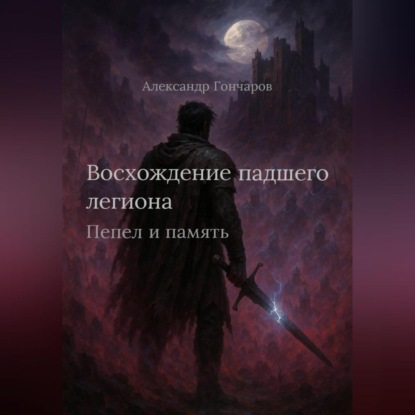Кассета «Наутилуса», вой модема, первая СМС, ржавая ракета во дворе и черно-белый экран чата...
У каждого времени есть свои коды. У поколения, застывшего на рубеже тысячелетий, их было особенно много. Это история о мальчике, который искал себя между миром, где правду искали в библиотеке, и миром, где ее обещали найти в «всемирной паутине». О любви, которая рождалась в реальности, а искушалась в виртуальности. О дружбе, проверенной не лайками, а поступками.
«Последнее лето перед интернетом» — это больше, чем книга. Это портал в то незабываемое время, когда будущее было уже близко, но прошлое еще не отпускало.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация