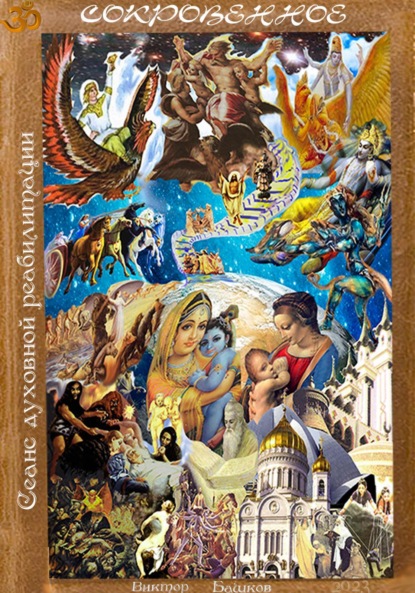Последний видеосалон на окраине галактики

- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ
Вселенная дышала. Это не было метафорой. В гигантских, непостижимых для биологического разума масштабах, она совершала свой вечный цикл расширения и охлаждения. Рождались звёзды в катаклизмах, превосходящих любое воображение, вспыхивая ослепительными точками в бархатной, угольной черноте, и так же бесследно угасали, рассеивая тяжёлые элементы, из которых когда-нибудь сложатся планеты и, возможно, новые формы жизни. В этих титанических процессах не было места сантиментам, ностальгии или тоске. Был лишь холодный, величественный и безразличный механизм, работающий по законам, которые лишь частично удавалось постичь хрупким умам, ютившимся в пылинках материи.
Но жизнь – и особенно разумная жизнь – упрямо стремилась внести в этот бесстрастный космос свой собственный, иррациональный порядок. Она строили города, создавала искусство, вела войны и любила, наполняя пространство вокруг себя хаотичным, непредсказуемым полем эмоций и памяти. И даже когда цивилизации приходили в упадок, их империи рассыпались в прах, а города поглощались песками времени или космической пылью, это поле – эхо их страстей, надежд и страхов – не исчезало бесследно. Оно цеплялось за материю. Впитывалось в металл обшивок заброшенных кораблей, в каменные стены руин, в элементарные частицы, становясь едва уловимым информационным шумом, фоновым гудением Галактики.
Чем дальше от насиженных, обжитых миров ядра Галактики, от сияющих куполов столичных планет и отлаженных, как швейцарские часы, маршрутов корпоративных флотилий, тем сильнее становился этот шум. На окраинах, в секторах, отмеченных на звездных картах блеклым штампом «Несанкционированное пространство» или «Нестабильные маршруты», реальность была тоньше, а прошлое – навязчивее. Здесь, в тишине, нарушаемой лишь гулом двигателей одиноких судов и скрежетом стареющего металла, призраки былого обретали почти осязаемую форму. Это не были призраки в классическом понимании; это были сгустки информации, эмоциональные отпечатки, законсервированные в странных артефактах.
И самым мощным, самым насыщенным этими отпечатками артефактом ушедшей эпохи – эпохи, которую её современники гордо называли «Космическим Веком», а их далёкие потомки с лёгкой насмешкой – «Докосмической Слепотой» – оказалась магнитная плёнка. Аналоговая запись. Примитивная, с точки зрения квантовых компьютеров и голографических имплантов, технология. Но в своей примитивности заключалась невероятная, магическая сила. Цифровая запись была совершенна, стерильна, она копировала реальность без потерь, но и без души. Аналоговая же – была живой. Каждая царапина на её поверхности, каждое случайное искажение, каждый щелчок и шум были частью повествования. Она не копировала реальность, она интерпретировала её, пропуская через призму несовершенства технологии и восприятия её создателей.
На этих плёнках, заключённых в блеклые пластиковые коробки, хранились не данные. Хранились сны. Сны целой планеты по имени Земля. Сны о будущем, которое оказалось куда сложнее и прозаичнее, чем рисовали фантасты; сны о любви, которая способна победить время; о страхе перед неизвестностью тёмного космоса; о ярости и отваге в борьбе с несправедливостью. Это были коллективные грёбы человечества, его мифология, записанная не чернилами на пергаменте, а магнитными доменами на оксиде хрома. И эти грёзы, как послания в бутылках, были выброшены в безбрежный океан звёзд.
Одним из мест, куда волны этого океана вынесли подобные бутылки, стала космическая станция «Окраина-7». Она висела в пустоте на перекрёстке трёх второстепенных грузовых маршрутов, словно паук, давно позабывший, как плести паутину, и доживающий свой век в ожидании добычи, которая уже никогда не придёт. Станция была продуктом хаотичного роста, а не продуманного проекта. Её центральный модуль, некогда гордо носивший имя «Пионер-7», теперь утопал в груде более поздних пристроек: жилых кварталов, похожих на пчелиные соты, ремонтных доков, насквозь пропитанных запахом смазки и озона, торговых рядов, где под трещащими голографическими вывесками шла бойкая торговля всем, от синтетического протеина до краденых навигационных карт. Всё это опутывала паутина внешних конструкций, грузовых стрел, посадочных мачт и коммуникационных решёток, покрытых многолетним наслоением космической пыли и выхлопов тысяч кораблей.
Воздух на станции был тяжёлым и обладал сложным, многослойным запахом. В нём смешивались ароматы переработанного человеческого пота, жжённой изоляции, металлической стружки, дешёвой пищи из автоматов и подноготной, невыразимой сладости грибковых ферм, обеспечивавших станцию кислородом. Давка в коммерческих секциях сменялась гнетущей пустотой в заброшенных технических отсеках, где только потрескивание в коммуникационных трубках напоминало, что станция ещё жива. Это был мир контрастов, мир, где блистательные авантюристы с крупными счетами в корпоративных банках уживались с бедняками, чьим единственным капиталом была их готовность на самую грязную работу. Сюда стекались те, кому было тесно в строгих, регламентированных мирах «ядра». Беглецы, неудачники, мечтатели, преступники и просто люди, искавшие тихого уголка, чтобы перевести дух. Их объединяло одно – неприкаянность. Они были гражданами Галактики, не имевшими собственной планеты.
И для всех этих потерянных душ существовало одно место, один якорь, в котором можно было укрыться от давящей безысходности настоящего. Оно находилось на нижнем уровне, в секторе G-12, где освещение было всегда тусклым, а из вентиляции доносился навязчивый, ни на секунду не прекращающийся гул. Дверь была обшита старым, потертым до дыр деревом – невероятная роскошь в мире синтетических материалов. Над дверью мигала, пытаясь разжечься, неоновая вывеска. Розовые трубки складывались в слова «Фобос-Драйв». Иногда, особенно когда системы станции переживали очередной скачок напряжения, одна из букв – обычно «о» в слове «Драйв» – гасла, и тогда название читалось как «Фобос-Др йв». Но все знали, что это имелось в виду.
Это был видеосалон. Последний в секторе, а может, и во всей Галактике. Внутри пахло старой бумагой, пылью, нагретым пластиком и чем-то неуловимо знакомым, тёплым – запахом дома, которого у большинства посетителей никогда не было. На стеллажах, поднимавшихся до самого потолка, рядами стояли тысячи кассет VHS. Их корпуса были разных цветов – чёрные, белые, синие, серые. На них были наклеены этикетки, напечатанные на давно устаревших принтерах, с названиями, которые звучали как заклинания из другого времени: «Бегущий по лезвию», «Чужие», «Терминатор», «Назад в будущее», «Бесконечная история». Это был не архив. Это был храм. Храм ушедшей эпохи, последним и единственным жрецом которого был человек по имени Лео Корбен.
Он был хранителем. Хранителем не просто коллекции фильмов, а целого пласта культуры, мироощущения, способа чувствовать. Для своих посетителей – старого механика, ностальгирующего по запаху настоящего бензина; молчаливого инопланетянина, находившего в земных ужасах странное утешение; шумной компании техников, делавших ставки на исход культовых боевиков – «Фобос-Драйв» был машиной времени. На несколько часов они могли сбежать от серости и рутины станции в мир, где герои всегда побеждали, любовь была вечной, а будущее – ярким и пугающим одновременно.
Но покой на «Окраине-7», как и во всей Галактике, был хрупким и обманчивым. Из сияющего, отполированного до стерильного блеска ядра цивилизации, из-за планет, где природа была давно покорена и превращена в идеальный ландшафтный дизайн, где эмоции считались пережитком, а индивидуальность – сбоем в программе, исходила новая угроза. Её имя было «Генезис». Межзвёздная корпорация, чья власть и влияние превосходили могущество древних империй. Их философия была проста и неумолима: Вселенная – это хаос. Хаос неэффективен, расточителен и причиняет страдания. Задача «Генезиса» – принести порядок. Унифицировать, стандартизировать, оптимизировать. Превратить Галактику в идеально отлаженный механизм, где нет места случайности, иррациональным поступкам и… памяти. Память, особенно такая живая, неряшливая и эмоциональная, как та, что хранилась на аналоговых носителях, была для них самым опасным вирусом. Она напоминала о том, чем люди были, мешая им стать тем, кем их хотели видеть корпорации – винтиками в гигантской машине.
Охотники «Генезиса» давно рыскали по окраинам, выискивая и уничтожая артефакты «аналоговой ереси». Они видели в кассетах лишь оружие, потенциальный источник неконтролируемой энергии, не понимая их истинной сути. Они не слышали в шелесте плёнки шёпота миллионов зрителей, не видели в помехах на экране отсветов их слёз и смеха. Для них это был просто мусор, подлежащий утилизации.
Судьбе было угодно, чтобы тропа охотников «Генезиса» легла именно к «Окраине-7». Чтобы их внимание привлекла легенда о кассете, считавшейся утерянной. О фильме, который был не просто фильмом, а ключом. Эмоциональным Ключом, способным не просто изменить реальность, но и переписать её сценарий. Фильм назывался «Пылающий рассвет».
Тихо, почти неслышно, шестерёнки космического механизма начали поворачиваться. Встреча неизбежного порядка с непокорным, живым хаосом была предрешена. И местом битвы за саму душу человечества, за его право чувствовать, помнить и мечтать, стал маленький, пыльный видеосалон на окраине Галактики, где старый проектор отбрасывал на белый экран призраков прошлого, ещё не зная, что этим призракам вскоре предстоит выйти в реальный мир и вступить в бой.
ГЛАВА 1: ПЫЛЬ И ПИКСЕЛИ
Цикл всегда начинался со щелчка. Глухого, металлического, рождавшегося в глубинах старого, покрытого окалиной рубильника, который Лео Корбен с усилием переводил из положения «Выкл.» в положение «Вкл.». Этот щелчок был первым аккордом в ежедневной симфонии запуска, звуком, разрывающим ночную тишину видеосалона, столь же густую и вязкую, как и слой пыли на забытых в углу катушках с магнитной лентой. Вслед за щелчком по сети скрытой в стенах проводки пробегала волна энергии низкого напряжения, с трудом выжатая из дряхлых генераторов станции. Она достигала пускорегулирующего аппарата, спрятанного за стойкой администратора, и тот, с гудением и легким дребезжанием, зажигал неон.
Сначала вывеска лишь тускло розовела в полумраке, как раскаленный докрасна, но еще не вспыхнувший уголек. Две трубки, сложенные в слова «ФОБОС-ДРАЙВ», мерцали, пытаясь найти стабильный режим горения. Их свет, болезненно-розовый, почти ядовитый, отбрасывал на потертый синтетический ковер у входа и на потрескавшуюся от времени краску стен призрачные, пульсирующие тени. Лео замирал на мгновение, наблюдая за этим древним ритуалом пробуждения. Он знал каждую слабость вывески, каждую неровность в ее свечении. Буква «О» в слове «ДРАЙВ» всегда зажигалась на секунду позже остальных, а нижний угол «Ф» имел неприятную привычку подмаргивать, словно подмигивая какому-то невидимому собеседнику в пустоте коридора. Иногда, в особенно плохие дни, когда станция «Окраина-7» переживала очередной энергетический кризис, вывеска вовсе отказывалась работать, и тогда Лео приходилось совершать небольшой ритуал: бить ладонью по стенке прямо над аппаратом. Обычно помогало. Сегодня, к его легкому удивлению, неон зажегся почти сразу, без капризов, разливая в полумраке свое тоскливое, но такое родное розовое сияние.
Он стоял в дверном проеме, спиной к уютному мраку салона, лицом – к холодному, бездушному миру станции. Коридор сектора G-12 был длинным, слабо освещенным и, как всегда, пустынным. Где-то вдали с шипением захлопывалась пневмодверь, эхо шагов по металлическому настилу доносилось из соседнего ответвления. Воздух был насыщен запахами, которые Лео давно перестал замечать, но которые составляли самую суть «Окраины-7»: едкая острота озона от неисправной электросети, сладковатая затхлость переработанного воздуха, в котором уже тысячи раз выдыхали легкие обитателей станции, и глубокая, фундаментальная нота ржавеющего металла. Это был запах старости, распада, медленного, но неотвратимого умирания.
«Окраина-7» не была просто точкой в космосе. Она была памятником собственной ненужности. Построенная как форпост во времена первой волны колонизации, она должна была стать воротами в новые миры. Но маршруты изменились, гиперполосы проложили в обход, и станция осталась не у дел, как заштатный железнодорожный разъезд после того, как главную магистраль перенесли в другое место. Теперь это был приют для тех, кому некуда больше идти. Ржавые стены, проржавевшие насквозь в некоторых местах, так что виден был многослойный «пирог» из изоляции, сплавов и углеродного волокна. Повсюду – следы бесконечных починок: заплаты из грубого, некрашеного металла, новые панели, контрастирующие с общим фоном, клубки временной проводки, тянувшиеся по потолку, как лианы в мертвом лесу. Освещение в коридорах было либо слишком ярким, режущим глаза мертвенным голубоватым светом экономичных плафонов, либо вообще отсутствовало, оставляя целые участки в полной тьме, где царили сырость и скрип расшатанных конструкций.
Лео сделал глоток горячего, крепкого, почти горького кофе из своей потертой термокружки. Пар от напитка смешивался с холодным воздухом, создавая мимолетные клубы тумана. Он смотрел, как в дальнем конце коридора появилась первая фигура. Это был старый механик по имени Яков. Лео был знаком с ним лет десять, если не больше. Яков передвигался неторопливой, шаркающей походкой человека, чьи суставы изношены годами работы в сырых доках и невесомости. Его комбинезон был покрыт слоем застарелой грязи, масляными пятнами и следами сварочных брызг. На его лице, испещренном глубокими морщинами, застыло выражение спокойной, философской усталости. Он не спешил. Куда, в самом деле, было спешить?
– Лео, – кивнул Яков, подходя. Его голос был хриплым, как скрип несмазанной шестеренки.
– Яков, – ответил Лео тем же кивком. Никаких лишних слов. Они уже давно обходились без приветствий.
– «Охотник» сегодня? – спросил механик, останавливаясь у входа и бросая взгляд на розовую вывеску.
– «Охотник», – подтвердил Лео. – Тридцатый год, режиссерская версия. Только что кассету почистил.
Яков что-то буркнул себе под нос, явственно довольный, и прошел внутрь, в знакомый полумрак, пахнущий пылью и старой бумагой. Его ритуал был неизменен: он занимал одно и то же кресло, третье от прохода в первом ряду, ставил свою кружку с тем же горьким напитком на подлокотник и замирал в ожидании, уставившись на еще пустой, матово-белый экран. Для Якова это был не просто просмотр. Это была медитация. Возможность на два часа забыть о лязгающих в доках машинах, о бесконечных поломках, о ноющей боли в спине и погрузиться в мир, где один человек с дробовиком мог вершить правосудие.
Вслед за Яковом пришла пара грузчиков с транспортного дока. Молодые, крепкие парни, с громкими голосами и размашистыми движениями. От них пахло потом, синтетическим пивом и металлической стружкой.
– Эй, старина Лео! – крикнул один из них, Карл. – Что у нас сегодня на вечер? Надо чего-то такого, чтобы аж искры из глаз! Взрывы, погони!
– «Непобедимый», – без колебаний ответил Лео, указывая большим пальцем на одну из полок. – Сцена с бронепоездом. Искр будет достаточно, чтобы осветить пол-станции.
Грузчики, довольно переглянувшись, прошли в зал, их ботинки гулко стучали по полу. Их присутствие всегда немного меняло атмосферу салона, наполняя его грубой, но искренней энергией. Лео наблюдал, как они устраиваются, как начинают спорить о том, кто из актеров круче, и чувствовал странное удовлетворение. Его салон работал. Маяк, как он его мысленно называл, зажег свой огонь, и первые корабли – усталые, потрепанные жизнью на окраине – уже нашли его.
Он вышел на пару минут в коридор, оставив дверь открытой. Отсюда, из его убежища, был виден кусок главного тракта сектора G. Он наблюдал за жизнью станции, за ее обитателями. Мимо прошел торговец с тележкой, нагруженной какими-то сомнительными электронными компонентами; группа техников в заляпанных маслом комбинезонах брела в сторону доков, о чем-то оживленно споря; из вентиляционной решетки донесся чей-то приглушенный кашель. Это был мир, живущий по своим законам, мир, который «ядерные» цивилизации с их стерильной чистотой и порядком предпочли бы забыть. Мир, который медленно, но верно умирал, теряя энергию, воздух и надежду.
Но здесь, в «Фобос-Драйве», надежда еще теплилась. Она была записана на магнитной ленте, в кадрах старых фильмов. Она была в глазах Якова, замершего перед экраном. В смехе грузчиков, предвкушающих зрелище. В розовом свете неоновой вывески, которая, несмотря на все помехи, продолжала мигать, упрямо утверждая свое существование в бесконечной, холодной тьме космоса. Лео повернулся и вошел обратно в салон, в свой мир. Дверь с мягким шипением закрылась за ним, отсекая его от унылой реальности «Окраины-7». Сейчас начнется сеанс. Сейчас оживут призраки.
После того как дверь зашипела, отсекая внешний мир, наступал его час. Час, который Лео ценил порой больше, чем сами сеансы. Суета с посетителями, пусть и привычная, заканчивалась, и салон погружался в гулкую, насыщенную тишину, нарушаемую лишь ровным гудением проектора, ожидавшего своей очереди в углу, и едва слышным потрескиванием в старых динамиках – фоновым шумом самой Вселенной, запечатленным на пленке. Воздух, неподвижный и плотный, пахл теперь не только пылью, но и тайной. Он пахл временем, законсервированным в черном пластике и магнитной ленте.
Лео медленно прошел за стойку администратора – свой командный пункт, свой алтарь. Это был не просто кусок мебели, а сложное архитектурное сооружение, сращенное с самой станцией. Столешница из поцарапанного темного дерева (подлинного, земного, он нашел ее на разборке старого грузового модуля) была завалена не просто вещами, а реликвиями. Тут стоял древний монитор с выпуклым зеленоватым экраном, показывающий расписание сеансов, набранное пиксельным шрифтом. Рядом – блокнот с пожелтевшими от времени листами, испещренный его собственными пометками о состоянии той или иной кассеты. Зажигалка Zippo с гравировкой в виде взлетающего «Сокола Тысячелетия», которая давно уже не работала, но была талисманом. И главное – самодельный, собранный из деталей двух десятков разных устройств, кассетный рекордер-плеер. Его корпус был прозрачным, и сквозь него виднелась сложная паутина проводов, шестеренок и светодиодов, мигавших мягким желтым светом. Это был не инструмент, а продолжение его собственных рук, его слуха, его памяти.
Он протянул руку к первой полке, которая находилась прямо за стойкой, в зоне его немедленного доступа. Это была его сокровищница, его «золотой фонд». Пальцы, покрытые тонкой сетью шрамов и пятнами от химикатов для чистки пленок, с привычной нежностью обхватили первую кассету. Ее черный корпус был матовым, отполированным тысячами прикосновений. Этикетка, когда-то яркая, теперь выцвела, но название все еще читалось: «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». Он не просто брал ее, он совершал ритуал. Поворачивал в руках, ощущая ее вес – не физический, а тот вес, что придавали ей десятилетия истории, миллионы просмотров, слезы и восторги зрителей. Он провел подушечкой большого пальца по защитному окошку, за которым виднелась коричневая лента, намотанная на катушки. Пыль. Всегда пыль. Она была везде, мельчайшая, абразивная, враг номер один для магнитного слоя.
Он взял свой арсенал. Антистатическую щетку с мягчайшим ворсом из меха космической ласки. Баночку со специальной жидкостью для чистки головок, пахнущую спиртом и чем-то еще, неуловимо горьким. Набор ватных палочек, каждая из которых была заточена им лично до идеального состояния. Он открыл крышку кассеты. Легкий щелчок, знакомый до боли. Перед ним открывался механизм невероятной, почти ювелирной сложности: два шпинделя для катушек, ролики, направляющие, фольгированный экран от помех и, главное, сама лента. Коричневая, блестящая, шириной ровно в полдюйма. Он включил рекордер. Моторчик загудел, заставив катушки провернуться. Лента поползла. Его глаза, старые, уставшие, но все еще зоркие, прищурились. Он искал врагов.
Вот царапина. Длинная, белесая полоса, оставленная каким-то давно сгинувшим кассетником с перекошенной головкой. Он следил за ее движением, мысленно отмечая, на какой минуте она проявится на экране вспышкой белого снега. Вот участок, где магнитный слой начал осыпаться от старости, создавая на изображении мертвую зону, черную дыру в повествовании. Он аккуратно, с хирургической точностью, касался ватной палочкой, смоченной в жидкости, к головкам видеоголовки, счищая с них намагниченные частицы окиси хрома, выстраивавшиеся в призрачные узоры давно стертых кадров. Каждое движение было выверено, каждое прикосновение – осмысленно. Это была не чистка, это была беседа с призраком. Он спрашивал: «Как ты себя чувствуешь?», а лента отвечала ему шелестом, щелчками и качеством изображения.
И пока его руки совершали эту медитативную работу, его сознание уносилось назад. Не в сюжет фильма, а в его собственное прошлое. Оно приходило к нему не линейно, а обрывками, точно такие же поврежденные кадры, которые он сейчас пытался исцелить.
Воспоминание. Кадр первый. Земля. Ночной мегаполис. Неон, но не тусклый, как здесь, а яростный, агрессивный, режущий глаза. Рекламные голограммы, плывущие между небоскребами. Гул тысяч летающих автомобилей. Давящая толпа на улицах. И он, молодой, с пустыми глазами, в костюме, который жал в плечах. Он сидел в стерильном офисе корпорации «Омнивар», одного из предшественников «Генезиса», и смотрел на бесконечные потоки данных на экране. Его работа заключалась в том, чтобы оптимизировать логистические маршруты, выжимая из них дополнительные доли процента эффективности. Стирать неэффективные, «человеческие» факторы. Он был винтиком в машине, которая перемалывала саму душу планеты, превращая ее в безликий, высокоэффективный улей. Он чувствовал, что сходит с ума. Как его собственная личность растворяется в этом цифровом хаосе.
Воспоминание. Кадр второй. Блошиный рынок. Провал в изображении, полоса помех. А потом – четкий кадр. Он, уже постаревший, стоит среди развалов старого электронного хлама. И видит его. Свой первый видеомагнитофон. Древний, тяжеленный, Panasonic. Рядом – коробка с кассетами. Он взял одну в руки. «Касабланка». Он не видел этот фильм. Он вставил кассету. Шипение, треск, и потом – черно-белое изображение. Лицо Хамфри Богарта. И впервые за долгие годы он почувствовал что-то. Настоящее. Не выверенную маркетологами эмоцию, а простое, необработанное чувство, доносящееся сквозь время. Это был побег. Не в виртуальную реальность, не в синтетический наркотик, а в другой, настоящий мир.
Воспоминание. Кадр третий. Побег. Он покупает билет на первый попавшийся грузовой чартер, уходящий с Земли. У него с собой только рюкзак. И в рюкзаке – двадцать кассет, которые он успел купить. Его не преследовали. Его никто не искал. Он был никем. Просто еще одним винтиком, который выпал из машины и затерялся в космосе. Он смотрел в иллюминатор, как Земля превращается в бледно-голубую точку, и не чувствовал ничего, кроме огромного, всепоглощающего облегчения.
Он добрался до «Окраины-7». Тогда станция была чуть менее умирающей, но ненамного. Он нашел это помещение, бывший склад запчастей. И решил остаться. Он потратил все свои сбережения, чтобы купить проектор, чтобы собрать свою первую коллекцию. «Фобос-Драйв» родился не из бизнес-плана, а из отчаяния. Из потребности создать хоть какой-то островок смысла в бессмысленной Вселенной.
Его пальцы наткнулись на кассету с «Пылающим рассветом». Ту самую, с черного рынка. Она отличалась от других. Корпус был не стандартный, черный, а темно-серый, матовый, почти не отражающий свет. Этикетка была не печатной, а рукописной, выведенной тонким, почти каллиграфическим почерком тушью: «ПЫЛАЮЩИЙ РАССВЕТ». И вес. Она была тяжелее. Он взял ее в руки, и странное ощущение пробежало по его пальцам – легкая вибрация, едва уловимое покалывание, как от статического электричества, но идущее изнутри, от самой ленты. Он отложил ее в сторону. Не сейчас. Сначала нужно привести в порядок основную коллекцию.
Он продолжал работу, кассета за кассетой. «Бегущий по лезвию» был очищен и занял свое почетное место. Дальше – «Чужой». Здесь была проблема с залипающей лентой, он аккуратно подтянул направляющие. Потом – «Терминатор 2». На этой кассете он когда-то впервые увидел, как жидкий металл принимает любую форму, и это зрелище поразило его больше, чем любые голографические спецэффекты современных блокбастеров.
Каждая коробка была для него не просто предметом. Это была жизнь. История. Он помнил, у кого купил эту кассету – у старого коллекционера с Титана, который умирал и раздавал свое наследие. Он помнил, как тот грузчик, что приходил на прошлой неделе, плакал в сцене смерти собаки в «Хатико». Он помнил, как молчаливый инопланетянин впервые за все время издал гортанный звук, похожий на смех, когда увидел клоуна из «Оно».