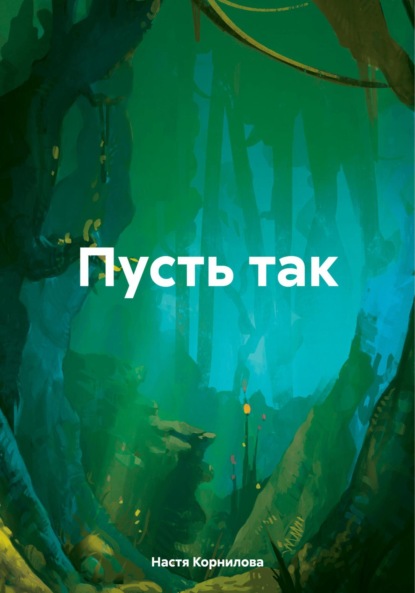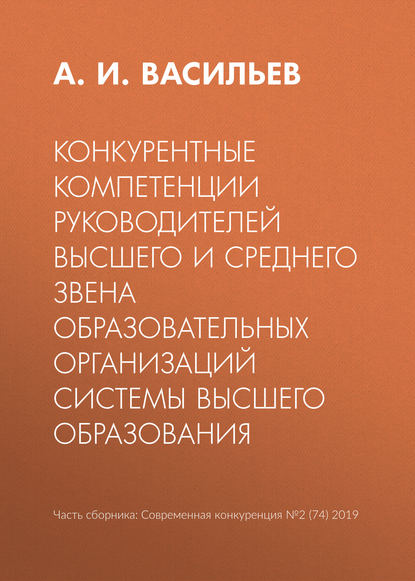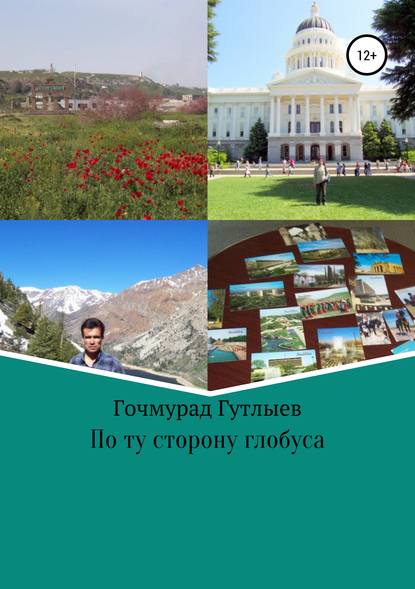Собиратель потерянных ветров
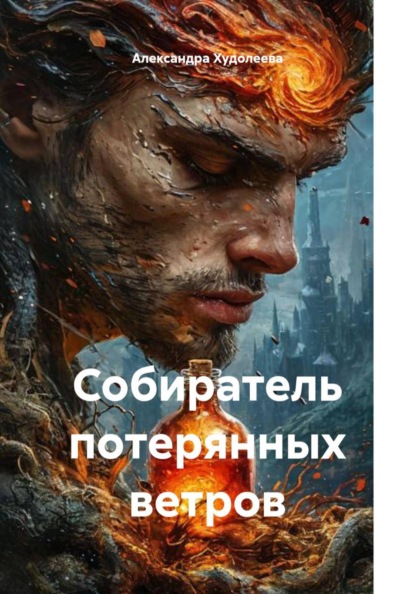
- -
- 100%
- +
«Таким, как ты».
Эти три слова упали в липкую тишину кухни, как свинцовые гири, пробивая пол. Неисправным. Сломанным. Дефектным образцом, требующим починки.
– Я не хочу, чтобы меня «настраивали», – выдавил Кирилл почти шёпотом, сжимая ладони под столом так, что ногти впились в кожу. Он чувствовал, как знакомый, горький ком – смесь обиды, бессилия и страха – подступает к горлу, угрожая слезами. Слезам здесь не было места.
– Это не наказание, сын, – отец отложил планшет, и его «Конструктивный импульс» на миг сменился на что-то более сложное, почти подлинное, человеческое. Над его головой замелькал рваный, неуверенный, бесформенный вихрь – в нем угадывались жалость (настоящая, не из ампулы), растерянность, глубокий страх перед проблемой, у которой нет готовых чертежей и схем, и усталость. Усталость от постоянных вызовов в школу, от беспокойства жены, от сына, который не вписывается в понятный мир. – Это помощь. Представь, как тебе будет легче. Никаких больше этих… срывов. Никакой этой твоей физической боли от людей. Ты сможешь, наконец, нормально учиться, думать о будущем. Станешь полноценной частью коллектива. Команды.
Будущее. Коллектив. Команда. Звучало как окончательный, бесповоротный приговор. Но в то же время… «Никакой этой боли».
Искушение, сладкое, манящее и смертельно ядовитое, коснулось его самой уязвимой части. А что, если они правы? Что, если это и вправду болезнь, дефект нервной системы? И есть лечение, процедура, лекарство, которое отключит этот вечный, изматывающий шум и позволит ему просто жить? Дышать? Быть как все – не чувствуя этой какофонии? Возможность покоя, пусть и купленного ценой чего-то внутри, манила, как огонёк в кромешной тьме.
– Хорошо, – выдавил он, глядя в стол. Слово вышло тусклым, безжизненным. – Я схожу.
Кабинет доктора Веры находился не в обычной поликлинике, а на двадцатом этаже «Башни Гармонии» – одного из зеркально-стеклянных бизнес-центров, принадлежащих холдингу «Аура». Всё здесь было пронизано тихим, дорогим шиком и стерильной, дорогой эффективностью. Воздух пах не больничным антисептиком, а нейтральным, но приятным, едва уловимым ароматом «Клинической чистоты и доверия» – вероятно, тоже распыляемым через систему вентиляции. Мягкий ковер глушил шаги, стены были окрашены в успокаивающий цвет «морской пены», а на ресепшене мило улыбалась девушка, от которой исходил ровный фон «Дружелюбной компетентности».
Сама доктор Вера оказалась молодой женщиной, лет тридцати, с тёплыми, умными карими глазами и спокойной, обволакивающей улыбкой, которая, казалось, обещала понимание. На ней не было белого халата, только идеально сидящий костюм мягкого серо-голубого оттенка, подчеркивавший профессионализм и одновременно доступность. И самое главное – от неё не исходило ни одного резкого, фальшивого или давящего чувства. Был лишь ровный, тёплый, почти золотистый, бархатистый фон – глубокое, выверенное, профессиональное спокойствие. Но что-то в этом фоне было… слишком безупречным, слишком гладким. Как у Лии, только несравненно более искусным, глубоким и, оттого, неуловимым. Это был не щит, а идеально отполированная зеркальная поверхность, отражающая то, что от нее ждут.
– Кирилл, привет. Проходи, садись, куда тебе удобно, – её голос был тихим, мелодичным, лишенным всякого давления. Он не командовал, не уговаривал. Он приглашал. И в этой кажущейся простоте была своя, особенная опасность. Её было страшнее, чем откровенный крик или упрек.
Он сел в глубокое, но упругое кресло напротив неё, чувствуя, как мягкий материал обволакивает, но не сковывает.
– Родители рассказали мне о твоих трудностях, – начала она, не записывая ничего в планшет, просто глядя на него с неподдельным (или невероятно убедительно сыгранным) участием. – О том, что ты воспринимаешь эмоциональные состояния окружающих с необычайной, болезненной глубиной. И что это причиняет тебе настоящее, физическое страдание.
Она говорила на его языке. Не называла это «нестабильностью», «срывом» или «девиацией». Она сказала «глубина восприятия». В его груди, сжатой в тисках стыда и страха, что-то дрогнуло, ослабло. Слабая, робкая надежда? Он лишь кивнул, не в силах вымолвить слова, чувствуя, как ком в горле начинает таять.
– Я понимаю тебя, Кирилл. Понимаю, как это – быть открытым настежь, когда мир вокруг постоянно обрушивает на тебя шквал чужих переживаний, – она сделала небольшую, искусно рассчитанную паузу, и ее золотистый, бархатный фон на миг колыхнулся, пропустив на самую поверхность… что? Отголосок старой, личной боли? Искру подлинного сочувствия? Или это была лишь виртуозная симуляция эмпатии, часть профессионального инструментария? Кирилл, ослеплённый возможностью быть наконец-то понятым, услышанным, не стал вглядываться, не стал анализировать. Он жадно впитал эту иллюзию понимания. – Знаешь, я сама в юности сталкивалась с… похожими сложностями.
Он поднял на неё глаза, широко раскрыв их. «Как я»?
– Да, – она мягко улыбнулась, и в этой улыбке, дозированной, как лекарство, была легкая, искусно поданная грусть по утраченной невинности восприятия. – Это состояние имеет название – «синдром гиперчувствительной эмпатии». Это не твоя вина и не прихоть. Это особенность архитектуры нейронных связей, своеобразная «аппаратная» чувствительность. И, к счастью, в наше время это успешно корректируется. Не подавляется, а именно гармонизируется.
Она взяла с идеального, ничем не заставленного стола тонкий, матовый планшет и легким движением пальца активировала экран. Перед ним возникла красивая, динамическая 3D-схема, напоминающая нейронную сеть или схему радиоприёмника. Яркие, переплетающиеся линии разных цветов, некоторые из них, особенно густые и активные, были окрашены в тревожный, пульсирующий красный.
– Видишь? – её голос стал чуть более лекционным, но не терял теплоты. – Условно говоря, твои эмпатические каналы, эти связи, – она указала на красные линии, – слишком широко открыты, их фильтры практически атрофированы. Ты, образно говоря, как антенна без тюнера, которая ловит все сигналы эфира одновременно, и сильные, и слабые, и нужные, и паразитные. Моя задача – помочь тебе научиться ставить щиты, настроить твой внутренний приёмник. Научить различать и осознанно выбирать частоты, на которые ты хочешь быть настроен, а ненужные – мягко, но эффективно заглушать. Это навык, Кирилл. Такой же, как научиться плавать или ездить на велосипеде. Сложно только вначале.
Она говорила так убедительно, логично, успокаивающе. Ее золотистое спокойствие окутывало его, как теплый туман, приглушая его собственный, вечно ноющий страх и боль. Это звучало так… просто. Рационально. Легко. Согласиться. Позволить себя починить. Стать нормальным.
– Это… будет больно? – спросил он хрипло, его пальцы вцепились в подлокотники кресла.
– Нет, – её ответ прозвучал абсолютно твёрдо и при этом невероятно мягко. – Это будет постепенный, бережный процесс. Мы начнём с простых упражнений на визуализацию и дыхание. Ты научишься представлять вокруг себя защитный купол, барьер – сквозь который будут свободно проходить только те чувства, которые ты сам сочтешь нужными, важными. Мы найдём и укрепим твои собственные, здоровые, базовые эмоции – они станут для тебя опорой, внутренним якорем. Ты не потеряешь способность чувствовать, Кирилл. Ты обретешь над ней контроль.
Звучало идеально. Идеальный мир без боли. Тишина по заказу. Именно то, о чём так жаждали его родители и о чём он сам порой мечтал в самые тяжёлые моменты. И всё же… что-то царапалось, скреблось на самых задворках его сознания, как мышь за плинтусом. Что-то не сходилось. Он посмотрел на её золотистое, безупречное сияние пристальнее, пытаясь заглянуть за него. И ему показалось, что он увидел. Не в нём самом, а как бы сквозь него, на просвет. Как сквозь плотную, идеально сшитую штору из бархата проглядывает четкий, холодный контур чего-то иного. Не боли. Не страдания. А страха. Холодного, рационального, всепоглощающего страха перед хаосом, перед неконтролируемым, диким, неудобным вихрем настоящих, живых чувств. Этот страх был не её личным, не человеческим. Он был старым, выхолощенным, как догма, отполированным, как казённая печать. Страхом самой Системы «Аура», чьим идеальным, безупречным инструментом она, доктор Вера, и являлась.
И в этот самый момент её планшет, лежащий на столе, тихо, но отчётливо пропищал, показывая какое-то напоминание. Она, не меняя выражения лица, почти не глядя, смахнула уведомление одним движением пальца. Но Кирилл, с его обостренным, не отключенным пока восприятием, уловил мелькнувшую на экране на долю секунды иконку – стилизованное изображение вихря, заключенное в красный предупреждающий треугольник. И подпись мельком: «Сектор 7. Аномалии. Мониторинг. Инцидент 449-B.»
Сердце его ёкнуло, провалилось куда-то в ледяную пустоту. Тёплая, робкая надежда, что только что начала теплиться в груди, затухла, как спичка, брошенная в воду. Красный треугольник. Вихрь. Мониторинг.
– Доктор Вера, – тихо, почти беззвучно спросил он, глядя уже не на неё, а куда-то в пространство за её плечом, на идеальную, без единой пылинки, белую стену. – А что, если… что, если мое чувство, эта… глубина… это не баг? Не поломка? Что, если это… особенность? Которая может быть… полезной? Не только для меня, а… вообще?
Её золотистое, бархатное сияние даже не дрогнуло, не дало ни единой трещины. Только в уголках её тёплых карих глаз застыла, отлившаяся в бронзу, легкая, профессиональная печаль. Печаль взрослого, просвещенного человека, который слышит наивную, детскую, опасную фантазию.
– Кирилл, – её голос стал чуть мягче, почти материнским, но в этой мягкости была несгибаемая сталь. – Болезненная, неконтролируемая чувствительность никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает полезной. Она лишь изолирует тебя, калечит и причиняет непрерывные страдания. Наша с тобой цель – не лишить тебя способности чувствовать, а освободить тебя от этой постоянной, изнуряющей пытки. Дай нам, дай мне шанс помочь тебе. Доверься процессу.
Он снова кивнул, уже машинально, бездумно. Они договорились о времени следующего сеанса, обсудили «домашнее задание» – первое упражнение на визуализацию «безопасного места». Он вышел из кабинета, его шаги эхом отдавались в пустом, роскошном коридоре.
В лифте, в окружении бесконечно множащихся в зеркальных стенах отражений, он видел только свое бледное, потерянное, испуганное лицо. Искушение «освободиться», обрести покой, которое так манило минуту назад, теперь казалось ловушкой с бархатными стенами и сладким, усыпляющим газом. Доктор Вера понимала его слишком хорошо. И хотела для него, как ей искренне казалось, только лучшего. Именно это делало её слова, её метод, её золотистое спокойствие в тысячу раз опаснее отцовских криков или косых взглядов одноклассников. Это была гибель с улыбкой и гарантией.
Он вышел на улицу, под низкое, затянутое однородной серой пеленой небо. Ни намека на ветер. Ни просвета. Тишина, которую ему так убедительно предлагали, вдруг показалась самой оглушительной, самой громкой вещью на свете. Тишиной заживо погребенного, усыпленного, стерилизованного. Тишиной могилы для той самой части его души, которая, как он с ужасом и смутным, диким предчувствием начинал подозревать, только-только, впервые за долгие годы, начала по-настоящему просыпаться.
Глава 4: Первый потерянный бриз
После визита к доктору Вере мир для Кирилла не изменился. Он стал лишь более… приглушенным, ватным, отдаленным. Как будто кто-то накинул на него колпак из толстого, матового стекла. Звуки доносились искаженными, будто из-под воды: голос матери, школьные объявления, даже собственные шаги. Цвета стали тусклыми и выцветшими, как старая фотография. Это была не обещанная доктором «контролируемая тишина», а ощущение глубокого, тонущего одиночества, будто его отбуксировали на необитаемый остров, где всё видно, но ничего нельзя потрогать.
Он выполнял её упражнения религиозно, с отчаянием утопающего. Каждое утро, сжимая кулаки под одеялом, он представлял тот самый «защитный купол» – прозрачную, переливчатую сферу вокруг себя. Он пытался фильтровать самые резкие всплески, как учили: «Представь, что это просто радиопомехи. Ты не приемник, ты наблюдатель. Просто позволь им пройти сквозь тебя». Это помогало. Помогало не срываться на людях, не падать на колени в школьном коридоре, не кричать от внезапной боли. Но и выматывало до дрожи в коленях. Теперь его состояние было не просто стихийным бедствием – это был каторжный труд, постоянное внутреннее напряжение, натянутая струна, которая могла лопнуть от любого неверного движения. Он возвращался домой истощенным, как после многочасового экзамена, и молча запирался в комнате, где мог, наконец, распустить этот ненавистный купол и просто страдать от накопившегося гула в относительной безопасности.
В субботу, когда напряжение достигло пика – стены квартиры, пропитанные маминой «Беспокойной заботой» и папиной «Отстраненной занятостью», начали буквально вибрировать, – он не выдержал. Он ушёл из дома, бросив на ходу: «Иду в библиотеку. К проекту». Ложь далась легко – лицо было тренированным, нейтральным маской. Он просто шёл. Без цели, без маршрута. Просто чтобы двигаться, чувствовать под ногами твердый асфальт, а не зыбкую почву чужих эмоций. Ноги, будто обладая собственной памятью, сами привели его через весь район в старый, полузаброшенный парк «У озера» на самой окраине. Здесь когда-то пытались установить «зону тишины» АураКорп, но проект забросили из-за низкой посещаемости. Теперь здесь были просто старые, кряжистые дубы, треснувшие и ухоженные только сорняками дорожки, ржавые качели с осыпающейся краской и озерцо с мутной водой. И главное – людей почти не было. Только пара пенсионеров вдалеке да пробегающая собака.
Это была не тишина доктора Веры. Это была физическая, пространственная пустота. И она была бальзамом.
Он сел на скамейку с отколотой планкой, снял наушники (они тоже не спасали, только подменяли один шум – эмоциональный – другим, цифровым и плоским). И просто сидел, уставившись на узор трещин на асфальте, стараясь ни о чём не думать. Не представлять купол. Не анализировать ощущения. Не быть «неисправным» Кириллом. Просто быть. Биологическим объектом на скамейке под осенним солнцем. Это было странно, непривычно и пугающе легко. Минута. Две. Пять. Внутри зияла непривычная, звенящая пустота. Он почти начал засыпать.
И тогда он почувствовал. Не мощный, режущий чувством удар, как от страха Димы, и не тихий звон, как от того клубка на качелях. Что-то среднее. Тонкое, как дуновение, как шепот. Что-то, что коснулось не кожи, а чего-то глубже – того самого «приемника», который он так отчаянно пытался заглушить.
Он медленно поднял голову, внутренне напрягаясь, ожидая боли. Её не было.
На пустынной детской площадке, возле тех самых ржавых качелей, стояла девочка. Лет семи, в ярко-розовой куртке, которая кричала на фоне унылого пейзажа. Она не рыдала, не звала маму. Она просто смотрела на свои забрызганные грязью туфли, а слёзы текли по её щекам молча, ровными, блестящими дорожками. И рядом с ней, витая в воздухе словно странная птица, была её эмоция. Но это была не привычная серая, тяжелая печаль и не острая, колючая детская обида. Это было нечто совсем иное.
Это был вихрь. Но не чёрный и не давящий, не хаотичный и рвущий, как у Димы. Он был серебристо-голубым, светящимся изнутри мягким, холодным светом, как крыло стрекозы в луче солнца или осколок полярного сияния. Он кружил над головой девочки на почтительном расстоянии, не касаясь ее, и от него исходил легкий, переливчатый звон – словно смех, превращенный в хрустальную музыку и развеянный ветром. Это была радость. Не покупная, не та «Безудержная веселость» из ампулы, что рекламировали по телевизору. Это была чистая, настоящая, старая радость. Та, что бывает только у детей и только от чего-то настоящего.
Кирилл замер, забыв дышать. Он никогда не видел ничего подобного. Покупные эмоции лежали на людях, как яркие, липкие пластиковые наклейки, искусственные и плоские. Настоящие, сиюминутные чувства бились внутри людей, как птицы в клетках, окрашивая их ауру, но редко вырываясь наружу. А этот вихрь… он был свободным. Он существовал отдельно. Он был… потерянным.
И мысль пришла сама собой, ясная, холодная и неоспоримая, как уравнение. Девочка сейчас грустила – может, упала, может, потеряла что-то, может, её обидели. Но когда-то, возможно прямо здесь, на этой ржавой качели, она испытала такую сильную, всепоглощающую радость, что часть этого чувства оторвалась и осталась висеть в этом месте, как отпечаток на фотопленке, как эхо. И теперь, когда девочке было плохо, этот отпечаток, этот «потерянный бриз» трепыхался рядом, словно пытаясь утешить, но не в силах вернуться. Он был связан с ней, но отделен.
Безотчетно, движимый тем же любопытством, что вело его к первому клубку, Кирилл встал. Скамейка жалобно скрипнула. Он медленно, осторожно, как охотник, подошел ближе. Девочка, уткнувшись в свои туфли, не заметила его. Его взгляд был прикован к вихрю. Он протянул руку, не к ней, а к тому серебристому сиянию. Он не думал о куполах или фильтрах. Он отключил защиту. Он просто захотел его… рассмотреть. Услышать поближе. Понять.
И случилось невероятное. Вихрь, будто почувствовав его чистое, незащищенное внимание, дрогнул. Его кружение замедлилось. Мелодичный, хрустальный звон стал чуть громче, четче. И затем, плавно, грациозно, как пушинка, подхваченная теплым потоком воздуха, он поплыл в его сторону. Кирилл замер, задержав дыхание. Его сердце колотилось где-то в горле. Светящийся комочек, размером с яблоко, легко, почти невесомо опустился ему прямо на раскрытую ладонь.
Он сжался внутри, ожидая знакомых симптомов: ожога, леденящего холода, щекотки превращающейся в боль, вторжения чужих мыслей. Но не было ничего такого.
Было… тепло. Легкое, сухое, удивительно приятное тепло, как от солнечного зайчика, пойманного на ладонь в морозный день. И волна. Но не волна чувств, как в прошлый раз. На этот раз в пальцы, в запястье, а затем стремительным, но не грубым потоком прямо в грудь, в самый центр сознания хлынуло нечто иное: воспоминание. Чужое, яркое, оформленное не в мыслях, а в ощущениях.
…Высоко! Выше всех! Ветер свистит в ушах, вырывает дыхание, заставляет щёки трепетать. Веревки скрипят, железо стонет подо мной. Земля далеко внизу – расплывчатое зеленое пятно. В груди распирает что-то большое, светлое, оно рвется наружу смехом. Снизу, далеко-далеко, голос мамы: «Молодец! Лети!» И кажется, вот-вот, еще один взмах ногами – и оттолкнешься от невидимой точки в небе и полетишь, прямо в облака, свободный и невесомый…
Это было воспоминание девочки. Мгновение абсолютного, совершенного счастья. Восторг победы – не над кем-то, а над силой тяжести, над собственным страхом. Чистый восторг бытия.
Слёзы, горячие и неожиданные, выступили на глазах у Кирилла. Не от горя, не от переполнения чужим. От благоговейного ужаса и невероятной, мучительной красоты этого чувства. Оно было таким настоящим, таким полным, таким… живым, что рядом с ним все ампулы, весь этот мировой культ управляемых эмоций казались жалкой, убогой пародией, картонными декорациями на фоне настоящего неба.
И тогда, сквозь слёзы и это головокружительное откровение, к нему пришло понимание. Ясное и простое. Он не мог оставить этот бриз здесь, висеть бесполезным призраком. Он принадлежал ей. Он был частью её, её самой светлой частью, и он должен вернуться домой.
Он подошёл к девочке, его шаги были неуверенными. Она услышала их и подняла заплаканное, перемазанное грязью и слезами лицо. Глаза, огромные и испуганные, смотрели на незнакомого большого мальчика.
– У… уходи, – прошептала она, съежившись. – Я не… Я ничего.
– Это твоё, – тихо, очень тихо сказал Кирилл. Его собственный голос звучал странно, глухо, будто доносился из той же дальней дали, что и воспоминание о полете. Он поднес ладонь с серебристым вихрем прямо к ней, между ними. – Ты его потеряла. Когда-то давно. Вот здесь. Возьми назад. Пожалуйста.
Девочка смотрела то на его серьезное, странное лицо, то на его пустую, с ее точки зрения, ладонь. Она, конечно, не видела светящегося клубка. Но, кажется, чувствовала что-то. Какую-то тягу. Эхо того самого восторга, тихо звучащее в её собственной памяти. Её собственное горестное недоумение на миг сменилось неуверенным, робким любопытством.
Кирилл не знал, как это делается. Не было инструкции. Он просто подключился к тому потоку воспоминаний, что все еще теплился в его груди, и мысленно направил его обратно. Он подумал о том теплом летнем дне, о пронзительном свисте ветра, о смехе, рвущемся из горла, о головокружительном чувстве полета. Он захотел, чтобы это вернулось туда, откуда пришло.
И вихрь на его ладони ожил. Он мягко приподнялся, сделав над головой девочки один идеальный, медленный круг, словно прощаясь или осматриваясь. А затем… не исчез. Не рассыпался. Он преобразился. Свернулся в тонкую, ослепительно яркую сияющую струйку, похожую на падающую звезду, и влился – беззвучно, мягко – прямо ей в центр груди, в то место, где, казалось, и была ее детская печаль.
Девочка вздрогнула всем телом, как от легкого удара током. Глаза ее округлились от изумления. Слёзы мгновенно прекратились. На её лице появилось не выражение внезапной, искусственной веселости – нет. Она выглядела… ошарашенной. Озадаченной. Будто внутри у неё что-то громко щелкнуло, перевернулось, встало на место, о чём она давно забыла, но что было очень важным. Она медленно, будто в тумане, обернулась и посмотрела на старые, скрипучие качели. Потом снова на Кирилла. В её взгляде не было страха. Было глубокое, безмолвное удивление.
– Я… – её голосок был тихим, но уже не дрожащим. – Я тогда… я тогда чуть не улетела, – сказала она вдруг, совсем другим, более живым, звонким голосом, каким, наверное, говорила, когда не плакала. – Мама потом кричала. Испугалась. Говорила, что я сумасшедшая.
На её губах, всё ещё подрагивающих, дрогнуло что-то неуверенное, робкое. Не улыбка. Скорее, тень улыбки, которая когда-то была, отголосок того самого смеха. Но в её глазах, еще влажных от слез, появился теплый, заинтересованный свет. Тот самый свет настоящего чувства, которого не бывает от ампул. Свет воспоминания, которое вернулось и согрело изнутри.
– Да, – только и смог выдавить Кирилл, кивая. Горло сжал ком. – Это было… это было очень здорово.
Он больше ничего не сказал. Не стал объяснять. Не стал ждать слов благодарности, которых не могло быть. Он просто развернулся и пошел прочь, оставив девочку одну смотреть на качели и тереть ладонью то место на груди, куда что-то вошло. Его собственные руки дрожали мелкой, неконтролируемой дрожью. Внутри всё горело, но не огнём болезни, а каким-то новым, странным пламенем. Это было… ликование. Дикое, пугающее, всепоглощающее ликование, смешанное с леденящим душу страхом перед тем, что это значит.
Он только что поймал потерянное чувство. И вернул его владельцу.
Это было чудо. Но не то, что показывают в рекламе АураКорп. Это было тихое, личное, почти священное чудо.
Дар, который всю его жизнь был проклятием, источником стыда, боли и клейма «неисправного», только что проявил свою другую, скрытую до сих пор сторону. Он был не просто пассивным, страдающим приёмником. Не просто сломанным фильтром. Он был… проводником. Мостом. Между людьми и их же собственными, оторвавшимися, потерянными частями.
Он шёл по улице, уже не видя дороги, и мир вокруг будто преобразился, перезагрузился, заиграл новыми красками. Он больше не видел только яркие, навязчивые ампульные ауры. Теперь его взгляд (нет, не взгляд, внутреннее зрение) начал выхватывать другие, слабые, едва уловимые движения в воздухе, которые он раньше игнорировал или принимал за помехи.
Там, где у киоска с кофе ссорилась парочка подростков, в воздухе клубился рваный, темно-багровый клубок невысказанной обиды и злости. Он оторвался от них в пылу спора и теперь медленно, как ядовитый дым, растворялся, отравляя пространство вокруг.
Над стариком на скамейке у подъезда висел тусклый, коричневатый, почти осязаемый туман тихой, давней, смиренной тоски, которой он, видимо, уже не замечал, с которой сжился, как с болью в спине.
Из окна третьего этажа выплыл и зацепился за антенну маленький, ярко-желтый, колючий осколок – вспышка ревности, острая и мгновенная, как укол, теперь беспризорная.
Всюду были потерянные ветра. Большие и маленькие. Светлые и тёмные. Прекрасные и уродливые. Мир, который он считал фальшивым и однообразным, оказался наполнен ими до краев, как заброшенный чердак – пыльными, забытыми, но всё ещё живыми сокровищами и ядами.
Страх, долгие годы сидевший в нем иссиня-черным холодным камнем, начал отступать, уступая место потрясению, невероятности происходящего и жгучему, всепоглощающему любопытству. Доктор Вера, АураКорп, все учебники говорили об одном: о «щитах», «фильтрах», «контроле». О том, чтобы меньше чувствовать. Быть как все. Глушить сигнал.