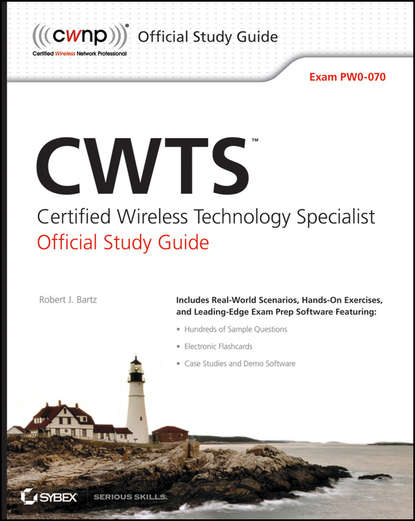Собиратель потерянных ветров
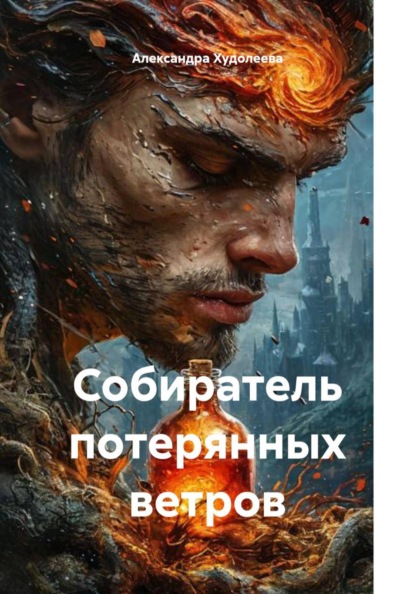
- -
- 100%
- +
А что, если они все ошибаются? Что, если нужно не меньше?
Что, если нужно… чувствовать иначе?
Не как жертва, на которую обрушивается хаос. А как… собиратель? Картограф? Реставратор? Как тот, кто находит потерянные ноты и возвращает их в разбитую симфонию?
Он зашёл в подъезд своего дома, и запах старого линолеума и чистящего средства показался ему вдруг знакомым и почти родным. Перед дверью квартиры он замер, прислушиваясь. Из-за двери доносились привычные, плотные волны: мамина «Усталая, тревожная забота» (смесь запаха глаженого белья и горького чая), папина «Отстраненная, цифровая занятость» (запах озон от гаджетов и холодного кофе). Но теперь он смотрел на них (чувствовал их) не с прежним ужасом и желанием сбежать. Он смотрел и думал, и эта мысль была новой и странной: «А что они потеряли? Какие свои настоящие, сильные ветра – любви, увлеченности, простой радости – оставили где-то в прошлом, на поворотах жизни, чтобы теперь годами обходиться этими бледными, удобными суррогатами?»
Он не знал ответов. Возможно, никогда и не узнает. Но впервые за много-много лет, с тех самых пор как понял, что он «другой», он не хотел избавиться от своего дара. Не хотел, чтобы его «починили». Он хотел его понять. Изучить. Приручить.
И первое, что он решил сделать завтра, отложив в сторону и упражнения доктора Веры, и попытки вписаться, – найти ту странную старую городскую библиотеку, мимо которой он иногда пробегал, но никогда не заходил. Ту, что была не сетевой, а настоящей, с бумажными книгами. Там, среди пыльных фолиантов о психологии, философии, да и просто в тишине, что пахнет не озоном, а бумагой и временем, возможно, были ответы. Или, по крайней мере, тишина другого рода. Не та, что давит и изолирует. А та, в которой можно наконец услышать собственные мысли и, возможно, уловить далекий, едва слышный шёпот забытых ветров.
Трепет в груди, похожий на трепет того серебристого вихря, не утихал. Это был не страх. Он понял это теперь.
Это было предчувствие. Толчок. Первый шаг на краю неведомого пути, тропа которого только-только начала проступать из тумана.
Глава 5: Архив тишины
На следующее утро Кирилл проснулся не от знакомой липкой волны материнской «Безмятежности», а от внутреннего импульса. Впервые за долгие годы его будто подбросило на постели – не от страха, а от странного, непривычного чувства, которое он с трудом опознал как нетерпение. Серебристый вихрь из парка, чистый хрустальный звон и ощущение чудесного возвращения светились в его памяти не как сон, а как яркий, неизгладимый маяк, отбрасывающий новый, непривычный свет на всё окружающее. Он не мог от них избавиться, и – что было страннее, тревожнее и волнующе – не хотел.
Встреча с доктором Верой была назначена только через три дня. Целых три дня отсрочки, три дня свободы. Он проглотил кашу, постаравшись не смотреть на ампулу «Фокуса и ясности», лежащую рядом, как обвинение, и сказал матери, уже стоя в прихожей, что идет готовиться к групповому проекту по истории – благо, такой проект действительно был в задании на семестр, и это звучало правдоподобно.
– Уже лучше, – с явным, почти физически ощутимым облегчением выдохнула она, и её плотная аура «Заботливой настойчивости» окрасилась в теплый, розоватый оттенок надежды. Он видел, как этот цвет окутывает её, меняя выражение лица. – Видишь, ты уже берешь ответственность. Может, даже мысль о докторе Вере уже начала помогать, успокаивать?
Он промолчал, просто кивнув, натягивая куртку. «Помощь» доктора Веры теперь казалась ему равнозначной добровольной, оплаченной слепоте, ампутации единственного настоящего органа чувств. Он выскользнул из квартиры, чувствуя, как дверь закрывается за его спиной не как ловушка, а как шлюз, отделяющий его от одного мира и выпускающий в другой.
Библиотека, вернее, то, что он считал библиотекой, находилась в самом сердце старого, дремлющего района «Каменистый Берег», среди одноэтажных, почерневших от времени домов с облупившейся штукатуркой и покосившимися заборами. Это было приземистое, солидное кирпичное здание конца прошлой эпохи, с высокими, узкими окнами и массивной дубовой дверью. Вывеска, некогда позолоченная, теперь была почти полностью скрыта буйным, вековым плющом: «Городской Архив №3. Фонды XIX-XXI вв.» Не библиотека даже, а архив. Хранилище того, что уже не нужно. Окна, затянутые изнутри паутиной и слоем вековой пыли, казалось, не пропускали свет, а накапливали темноту. Место, куда десятилетиями, а может, и столетиями не ступала нога человека, кроме редкого служителя.
Дверь с тяжелой, почерневшей от времени медной ручкой неожиданно легко поддалась его толчку, издав не скрип, а низкий, утробный стон, будто само здание вздохнуло. Внутри его встретил не поток кондиционированного воздуха, а густой, неподвижный, почти осязаемый воздух, пахнущий не стерильной чистотой, а чем-то древним, сложным и добрым: пылью тысячелетий, древесной смолой старых полок, сладковатым запахом желтеющей, разлагающейся бумаги, воском от давно потухших свечей и едва уловимым ароматом сухих трав. И что было самым главным, самым потрясающим – тишина. Не в смысле отсутствия звука (где-то капала вода, тикали часы). А в смысле полного, абсолютного отсутствия эмоционального шума. Фальшивые ауры ампул, вечный гул городской эмпатической сферы, стресс, тревога, искусственная радость – ничего этого здесь не было. Они не долетали сюда, разбиваясь о кирпичные стены и слой времени, как волны о скалу. Здесь царила другая тишина – глубокая, насыщенная, медитативная, будто само пространство впитало, переварило и успокоило мысли, страсти, чувства миллионов прочитанных и забытых страниц.
Кирилл осторожно сделал шаг внутрь, и его нога утонула в толстом, потертом до дыр ковре причудливого бордового узора. Глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку. Бесконечные, уходящие в темноту стеллажи, нагруженные не книгами, а темными, бесформенными корешками томов, стояли как молчаливые стражи. Где-то в глубине зала, за очередным поворотом, мерцал один-единственный островок света – тусклая лампа под массивным зеленым стеклянным абажуром в стиле ретро.
И тогда он почувствовал его. Не эмоцию. Не чувство. Скорее… присутствие. Ощущение сознания. Спокойного, ненавязчивого, но абсолютно настоящего, плотного, как сам этот воздух. Оно исходило из-под того самого зелёного абажура. Это не было чем-то, что можно было уловить кожей. Это было чем-то, что резонировало с его собственным внутренним «приемником» на новой, незнакомой, глубокой частоте.
Он пошёл на свет, его шаги глухо проглатывались тишиной и ковром. По мере приближения он начал различать детали: огромный, поцарапанный деревянный стол, заваленный не стопками книг, а хаотичным, но явно осмысленным нагромождением предметов: развернутые старинные карты с пометками, странные латунные приборы с циферблатами и стрелками, похожие на барометры, анемометры и секстанты, несколько потрепанных, толстенных фолиантов с металлическими застежками, пузырьки с темным содержимым, перья для письма. И за всем этим, склонившись над толстой, кожаной тетрадью, сидел старичок. Он не был похож ни на библиотекаря, ни на ученого, ни на кого-либо из тех, кого Кирилл видел в своей жизни. На нем был поношенный, удобного кроя кардиган из грубой шерсти, мягкие, стоптанные домашние тапочки, а на носу держались очки в массивной роговой оправе, съехавшие на самый кончик. Он что-то мелким, убористым, невероятно аккуратным почерком выводил в тетради, полностью погруженный в процесс, и даже не поднял головы при приближении шагов.
Кирилл замер в двух шагах от стола, не зная, как начать, как нарушить это зачарованное пространство. Может, спросить что-то нейтральное, про исторические источники для проекта?
Старик, не глядя на него, не меняя темпа, положил перо на специальную подставку. Его голос прозвучал в тишине негромко, слегка хрипловато от возраста, но с удивительной, камертонной четкостью, которая заставила воздух вибрировать.
– Ветер сегодня с востока дует, потерянный. Чувствуешь?
Кирилл обомлел. Он непроизвольно взглянул на ближайшее запыленное окно. Оно было глухо закрыто. Ни малейшего движения занавески. Ни звука с улицы. Воздух в архиве был неподвижен, как в гробнице.
– Я… Что? – выдавил он, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Он понял, о каком ветре идет речь.
Старик наконец поднял на него глаза через линзы очков. Они увеличивали его глаза, делая их огромными, влажными и невероятно проницательными, будто видящими не поверхность вещей, а их суть. В этих глазах не было ни следов «Профессионального интереса», ни «Вежливого безразличия» служащего. Там была усталая, глубокая, живая мудрость, знакомая с вещами, о которых не пишут в учебниках.
– Восточный ветер, – повторил он медленно, растягивая слова, как будто объясняя очевидное ребенку. – Он всегда приносит с собой что-то забытое, вымытое временем. Осколки чувств, оброненные там, на той стороне города, где стоит старый металлургический. Там много… ржавой тоски и остывшего, спрессованного в уголь гнева. Ты пришёл сюда как раз на таком дуновении. Оно вилось за тобой от самых дверей.
Кирилл почувствовал, как по спине побежали ледяные мурашки, а волосы на затылке встали дыбом. Старик говорил не о погоде. Он говорил на том самом языке, которым думал Кирилл, но не находил слов.
– Вы… вы о чём? – спросил он, но в его собственном голосе уже не было простого недоумения. В нем был трепет, смешанный с надеждой и ужасом.
– Садись, мальчик. Не топчись там, как на раскаленных углях, – старик махнул рукой, обросшей седыми волосками, в сторону свободного стула, заваленного свитками бумаг. – Подвинь это. Бумага терпеливая, подождёт. Меня зовут Всеволод Михайлович. А тебя, если мои старые кости и эта штуковина, – он кивнул на один из латунных приборов, стрелка которого слегка дернулась в сторону Кирилла, – не врут, твой собственный дар доводит до белого каления. Особенно в школе. Особенно когда все вокруг… потребляют суррогат, принимая его за пищу.
Это было уже слишком. Кирилл отступил на шаг, наткнувшись на стеллаж, который глухо заскрипел.
– Как вы… Вы знаете меня? Вы следили?
Всеволод Михайлович усмехнулся, и его усмешка была похожа на тихий шелест переворачиваемых пергаментных страниц, сухая и мудрая.
– Знаю? Нет. Узнаю. Я знаю твой тип. Ты не первый. Хотя и очень редкий в наше… выглаженное, отутюженное время. Сенсоры, восприемники, чуткие – были всегда. В разные эпохи их называли по-разному: поэтами, провидцами, юродивыми, мистиками, гиперчувствительными неврастениками. Сейчас называют куда технологичнее и обезличеннее – «неисправными». Очень прогрессивно. Очень удобно для системы.
Кирилл медленно, будто в трансе, расчистил стул и опустился на него. Его сердце колотилось где-то в основании горла, мешая дышать.
– Вы… вы тоже? Вы чувствуете? Как я?
– Чувствую? – старик покачал головой, и его седые волосы, торчащие вихрами, колыхнулись. – Нет, сынок. Я уже стар для такой… встряски, для такой постоянной бури. Мои рецепторы, что были, давно притупились, заросли, как старые дороги. Я… помню. И слушаю. И записываю. – Он постучал костяшками пальцев, испачканных чернилами, по толстой кожаной обложке тетради. – Я архивариус. Но не этих бумажных трупов, которые здесь медленно сгнивают. Памяти. Памяти о том, какими люди были, какими их чувства были – дикими, неудобными, прекрасными, ужасными – до того, как решили, что их можно расфасовать, разбавить, разлить по бутылочкам и продавать по графику. До Великого Упрощения.
Он отодвинул тетрадь в сторону и, покопавшись в стопке книг у себя под локтем, вытащил одну – толстенный, в потертом кожаном переплете том с потускневшим, но всё ещё читаемым золотым тиснением на корешке. Без слов протянул её Кириллу через стол.
– Вот. Начни с этого. Пока не с текста. Забудь слова. С ощущения. Возьми в руки. Закрой глаза. И просто… слушай книгу.
Кирилл, все еще ошеломленный, взял книгу. Она была неожиданно тяжелой, холодной, как камень. Кожа переплета была шершавой, живой под пальцами. Он положил ладони на обложку, как ему велели, и закрыл глаза, отбросив все мысли.
И тогда… он почувствовал.
Не эмоцию, не чужое чувство. А нечто иное. Легкое, едва уловимое движение. Дрожание, вибрацию в пространстве между страницами. Будто внутри этого тома, запертый навеки, дремлет крошечный, древний, давно забытый всеми бриз. Он был слабым, как дыхание младенца, но абсолютно реальным. И он пах. Не запахом в обычном понимании. Это было впечатление, переданное прямо в сознание: озоном после далекой-далекой грозы, сухой, выгоревшей на солнце травой степей, и чем-то неуловимо грустным, но светлым – как воспоминание о лете, которое уже никогда не вернется.
– Что это? – прошептал он, открыв глаза. Ладони на обложке покалывало легким статическим электричеством.
– «Трактат о дыхании мира и природе воздушных течений сущих и мысленных», приватное издание 1898 года, – сказал Всеволод Михайлович, и в его голосе прозвучала нота почтительного любопытства. – Автор – некий Сергей Альметьев, метеоролог-самоучка и, по слухам, мистик. Для непосвящённых, для академической науки – бредни сумасшедшего, красивая метафорическая чепуха. Для таких, как ты, для немногих… первый учебник. Правда, написанный на языке аллегорий и символов. Там нет слов «эмпатия», «нейросеть» или «эмоциональный резонанс». Там есть «ветра душ», «эфирные реки», «межвоздушье» и… – он сделал драматическую паузу, глядя прямо на Кирилла, – «собиратели».
Собиратели. Слово ударило в самое сердце, как ключ, повернувшийся в замке. Вчерашнее открытие в парке, интуитивное действие, вдруг обрело имя, категорию, место в неком тайном порядке вещей.
– Я… я поймал один, – выпалил Кирилл, не в силах сдержаться, чувствуя, как слова рвутся наружу, как плотину прорвало. – Вчера. В парке. Девочка плакала, а рядом… вился её же старый восторг, как серебристая птица. И я… я просто взял его и… вернул. Ей. В грудь. – Он рассказывал сбивчиво, горячо, путаясь, но стараясь передать каждую деталь, каждое ощущение – тепло, хрустальный звон, поток чужого воспоминания.
Всеволод Михайлович слушал, не перебивая, не морщась, не выражая недоверия. Он сидел, подперев щеку рукой, и лишь изредка кивал, его огромные глаза за толстыми стеклами были полны не удивления, а глубокого, сосредоточенного внимания, будто он сверял рассказ с какой-то внутренней картой. Когда Кирилл закончил, задохнувшись, старик долго молча смотрел на него, и в этой тишине архива было больше смысла, чем в часах разговоров.
– Первый раз – и сразу полный, осознанный возврат. Без подготовки. Без понимания механизмов и… рисков… – наконец произнес Всеволод Михайлович, и в его голосе прозвучала смесь одобрения и беспокойства. – Повезло тебе, мальчик. Дикий ветерок детской радости – он чистый, светлый, безобидный. С ним и ребенок справился бы. А бывают ветра… и не такие.
– Какие риски? – спросил Кирилл, чувствуя, как его пыл, его восторг первооткрывателя немного остывает, сталкиваясь с реальностью предупреждения.
– Ветер, особенно потерянный, особенно темный, тяжелый, пропитанный болью или злобой – штука сильная, коварная, почти живая. Можно увлечься его силой, его историей, и пойти за ним мысленно, заблудиться в чужих лабиринтах. Можно попытаться вдохнуть его в себя, чтобы понять до конца – а понять чужое отчаяние, настоящую, выдержанную ненависть или боль до дна – значит, разделить его, принять в себя. Можно сгореть. Можно сломаться. Можно, наконец, приманить к себе что-то… что само ищет проводника. – Он посмотрел на Кирилла поверх очков, и взгляд его был острым, как скальпель. – Ты вчера действовал верно, инстинктивно. Ты не собирал. Ты был проводником. Мостом. Ты дал заблудшему чувству дорогу домой. Это – единственно верный путь для нашего брата. Но, сынок, чтобы уверенно проводить через себя бурю, ураган, ледяной шторм чужих страстей, нужен крепкий, несокрушимый якорь. Нужна своя, непоколебимая тишина в центре себя. Где твой якорь, Кирилл? Во что ты упираешься, когда всё вокруг начинает кружить и рвать?
Кирилл опустил взгляд, роясь в себе. Его якорь? Его собственная, вечно клубящаяся серая тревога? Пустота отчуждения? Страх? Это были не якоря, а балласт, который тянул на дно.
– Не знаю, – честно, с горькой прямотой признался он. – Вообще ничего крепкого нет.
– Найдёшь. Или построишь. Иначе далеко не уйдешь, – старик кивнул, как будто это был ожидаемый и правильный ответ. – А пока – читай. Учи язык, на котором говорит то, что ты чувствуешь. Учи грамматику ветров. И приходи сюда, когда будут вопросы. Только смотри… – его голос понизился до конспиративного шепота, и он наклонился вперед, – не светись. Не распространяйся. Никому. Твои «поправители» из «Ауры», твоя доктор Вера – они не дремлют. Для них, для всей их безупречной машины, всё, что не вписывается в их каталог разрешенных, дозированных эмоций, – аномалия. А аномалии, как ты, наверное, уже догадываешься, подлежат изоляции, коррекции или… утилизации. Ты для них – живой глюк в системе. И глюки исправляют.
Кирилл почувствовал, как холодная, знакомая волна страха снова накатывает на него, но теперь она была не бесформенной, а имела четкие очертания и имя. Он кивнул, прижимая драгоценную, тяжелую книгу к груди, как щит. Страх был, но теперь у него было направление. Было слово – «Собиратель». Было имя учителя – Всеволод Михайлович. Было место, где его не считают сломанным, а считают… учеником.
– Спасибо, – выдохнул он, вставая. Слова казались слишком маленькими, слишком простыми для того, что он чувствовал.
– Не благодари. Работа ещё впереди. – Старик уже снова склонился над своей тетрадью, беря перо. – Восточный ветер стихает, чувствуешь? Тише становится. Скоро, к вечеру, подует с севера. Всегда приносит что-нибудь… интересное, резкое. Следи за собой. Иди.
Кирилл вышел из архива на тусклую осеннюю улицу. Солнце, пробивающееся сквозь облака, светило по-прежнему неярко, без тепла, но мир вокруг уже не казался плоским, картонным и безнадежно враждебным. Он был глубоким, полным тайн, слоистым, как эта старая книга в его руках. У него в руках был ключ. Тяжёлый, кожаный, пахнущий озоном и временем, полный загадочных символов и обещаний.
Он шёл домой, и ему уже не было так одиноко и страшно. Было тревожно, да. Сердце по-прежнему билось часто. Но тревога эта была иного рода, нового качества. Как перед началом долгого, опасного, неизведанного, но невероятно важного путешествия в заветные уголки собственной души и скрытого мира вокруг.
Он теперь знал, что он не один. И что его дар – не поломка, не болезнь, не дефект.
Это было древнее, почти забытое ремесло. Ремесло, требующее умения, знаний и крепкого якоря.
Ремесло Собирателя Потерянных Ветров.
И ему, Кириллу, «неисправному», предстояло ему научиться. С первой страницы.
Глава 6: Цена Марка
Прошла неделя – семь дней, наполненных двойной жизнью. Днем – школа, давящая обыденность упражнений доктора Веры (визуализация «безопасного места», которое упорно получалось у него в виде пустой, белой комнаты без окон), притворство перед родителями, которые с осторожной надеждой наблюдали за его «спокойствием». Ночью же, под одеялом с фонариком, – тайная вселенная. Книга Всеволода Михайловича лежала под матрасом, завернутая в старый шерстяной свитер, как священная реликвия или улика.
Она была написана архаичным, витиеватым языком, полным сложных аллегорий и устаревших оборотов. Кирилл читал медленно, с трудом, иногда по нескольку раз перечитывая абзац. Но каждая фраза находила в нем глубокий, почти физиологический отклик, будто он не учил что-то новое, а вспоминал давно забытый, родной язык. «Межвоздушье – есть пространство меж душ, незримая гладь, где ветра, оторвавшись от устья, плутают в тоске, ища обратной дороги…» «Собиратель должен быть пустым сосудом для приёма, дабы не исказить чистейший поток, но крепким дубом для удержания, дабы не быть сметанным бурей…» Слова складывались в внутренние образы, карты неизвестной территории, на которой он уже интуитивно начал ориентироваться.
Но теория теорией, а практика звала, манила, чесалась под кожей. После чуда с девочкой его восприятие, уже не пытавшееся так отчаянно защищаться, начало улавливать потерянные ветра повсюду, как внезапно появившуюся на старом фото серебре невидимую до этого пыль. Над старушкой, часами торгующей у булочной, висел блёклый, сладковато-горьковатый туман ностальгии – не просто по свежему хлебу, а по запаху пекарни её детства, по рукам матери, по чувству довоенного покоя. Над вечно спешащим, нервным мужчиной в дорогом, но помятом костюме, крутился острый, колючий, как проволока, вихрь невысказанной, проглоченной злости на начальника, смешанной со страхом за ипотеку. Они висели в воздухе, как мираж, как эмоциональные призраки, невидимые для всех, кроме него. И его рука, его внимание, его внутренний «инструмент» сам тянулся к ним… Но он сдерживался, сжимая мысленные кулаки. Он помнил суровые слова Архивариуса о рисках. И о том, что главное – не собрать, а вернуть. А для возврата нужно согласие души, даже неосознанное. Или, как минимум, открытая рана, из которой этот ветер истекает, а не старая, заросшая рубцом гематома.
И тогда, наблюдая за этой новой, пестрой картой мира, его взгляд (внутренний и внешний) неизменно возвращался к Марку. К его самому яркому, самому громкому и самому… фальшивому пятну в школьной эмпатической палитре.
Марк был его полным антиподом, живым отрицанием всего, чем пытался быть Кирилл. Если Кирилл стремился раствориться в фоне, стать невидимкой, то Марк делал всё, чтобы его замечали, запоминали, боялись. Он носил кислотно-зелёный рюкзак, на котором самодельными черными чернилами было выведено что-то нечитаемое, слушал оглушительную, деструктивную музыку в наушниках-лопухах, заглушавших даже мысли, и смотрел на всех тяжелым, оценивающим взглядом с оттенком вселенской скуки и превосходства. Его эмоции, которые Кирилл улавливал, были всегда громкими, крикливыми, как неоновая вывеска, но до ужаса плоскими, одномерными. Как будто Марк не переживал их, а надевал, как театральный костюм, каждый день новый, но сшитый из одной и той же дешевой ткани. Чаще всего это была «Презрительная независимость» – подпольный, дешёвый аналог фирменных коктейлей, пахнущий жженой пластмассой, дешевым спиртом и пылью подвалов. Но под этой грохочущей, ядовитой мишурой, глубоко-глубоко внутри, как в запечатанной шахте, Кирилл чувствовал нечто другое. Что-то настоящее, большое, темное и очень старое. Что-то, что Марк замуровал за километрами сарказма, агрессии и напускного безразличия.
Они столкнулись – точнее, Кирилл намеренно вышел на перехват – в самом конце длинного, пустынного коридора у технических классов, у того самого запыленного окна, куда Марк приходил подумать. Кирилл подошел, чувствуя, как сердце колотится, пытаясь вырваться из клетки рёбер, а в горле пересохло.
– Чего, сенсор? Наметан, что ли? – Марк не снял наушники, только приспустил их на шею, откуда доносилось приглушенное бульканье искаженных басов. От него исходила привычная, едкая волна «Презрения», но сегодня она была тоньше, прозрачней, ненадёжней, как плохая краска. А под ней, пробиваясь сквозь трещины… да, оно было. Огромное, спящее, цвета запекшейся крови и старого, желто-зеленого синяка. Чувство глубокой, детской, несправедливой и никогда невысказанной обиды. Оно не вилось в воздухе – оно сидело в Марке, в самом его ядре, как кремень, обросший годами молчания, горечи и самооправдания.
– Марк, я… можно поговорить? – начал Кирилл, с трудом сглотнув ком в горле. – По-настоящему.
– Мы уже говорим. Я вижу тебя, ты видишь меня. Визуальный контакт установлен. Диалог состоялся, – отрезал Марк, пуская густой клуб искусственного яблочного пара, который на миг заслонил его лицо. Но его глаза, узкие, насмешливые, были не просто настороженными – они были на взводе, как курок.
– Нет, серьёзно. Я… я в последнее время кое-что понял. Про себя. И… кажется, я вижу. Что у людей внутри. По-настоящему. Не то, что они показывают.
Марк фыркнул, и этот звук был полон такого искреннего, неподдельного презрения, что даже его фальшивая аура не могла с этим сравниться.
– О, господи. Новое веяние в клубе «особенных»? «Эмпат-шизоид отменяет фальшь»? Отвали, Кирилл. У меня и своих тараканов, поверь, целый зоопарк на разводе. Места для твоих нет.
– Именно! – Кирилл, опьяненный своей миссией, сделал шаг вперёд, не замечая, как Марк инстинктивно, почти незаметно отстранился, прижимаясь плечом к холодному оконному стеклу. – Именно про твоих… про то, что внутри, в самом центре. Ты всё время злишься. Кричишь этой… этой дешёвой злостью. Но это не твоё. Это чужая, липкая маска. А настоящее… оно другое. Оно сидит глубоко, как заноза, и оно тебя ест изнутри. Я это чувствую.
Конец ознакомительного фрагмента.