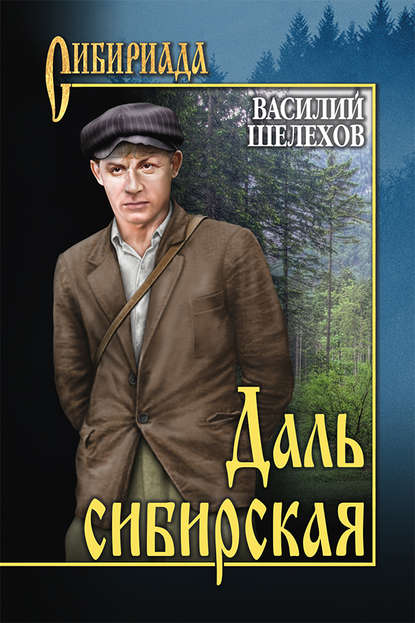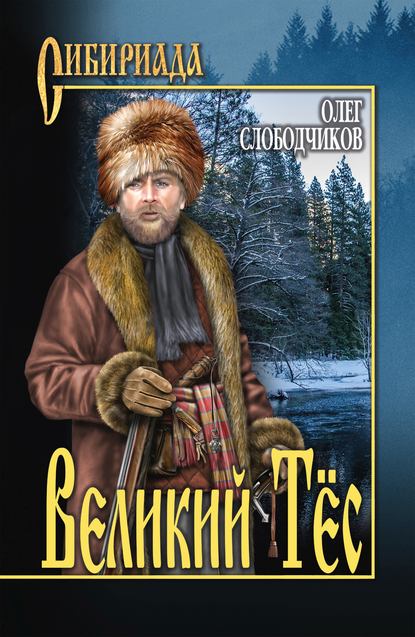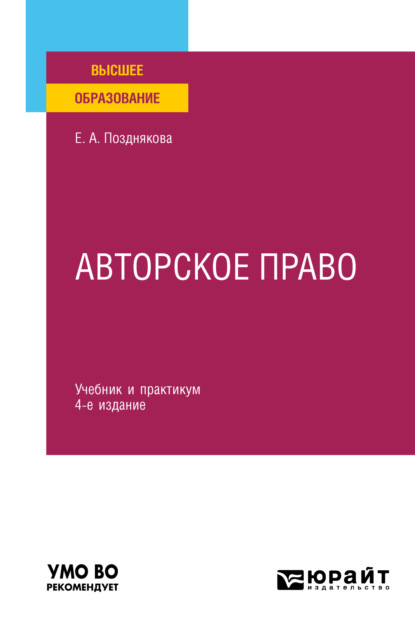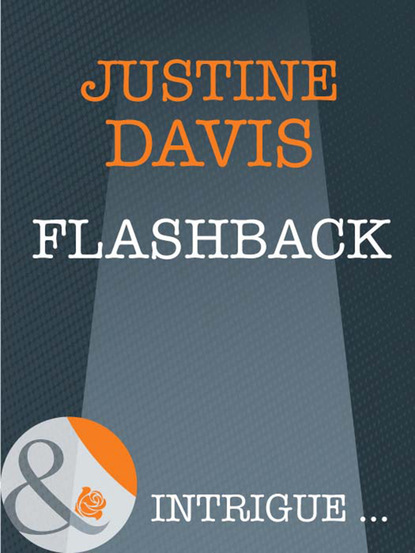Житейная история. Колымеевы

- -
- 100%
- +

© Антипин А. А., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Житейная история
Вступление
Тракт нарождался вдалеке, за стеклянным, ветрами резанным горизонтом, и живой аортой тянулся через сердце Округа.
Похожий на след громадного, бог весть кем запущенного и за какие пределы устремлённого колеса, Он долго бежал по жёлтой степи, захлёстывающей за белки и теряющей очертания.
Он верил в себя и в обкусанные саранчой будылинки, накренённые к земле дующим на запад ветром.
Он был горд своим предназначением – покорить степь! – когда держался строгой линии, ни одним неосторожным коленцем не позволяя себе вильнуть, уйти от намеченного полынью пути.
Он знал себе цену, не признавая ценности других.
Он смеялся над тем, что другие тракты обречены на безысходность, ибо сам Он никогда не должен был иссякнуть.
По дороге встречались вросшие в землю окошками деревеньки с собаками на поленницах, реже – маленькие города. Сквозь иные Он проходил как старик-шарманщик, наполняя старинные улочки печальной музыкой мчащихся в ночь автомобилей. В другие врывался, как завоеватель, как бунтарь и убийца. В третьих селениях задерживался, обрастал закусочными и ночлежками. Но всё равно бежал и бежал – без оглядки, без мысли об обречённости предпринятого Им рывка, оставаясь самим собой.
Однажды за горой, развороченной тротилом, встретился Посёлок, один из тех, что примелькались за сотни сотен километров. Он ворвался в него, одержимый чувством собственной силы, красоты и удали, как врывался во многие другие. Он не держал сердца на него, пересёкшего Ему путь средь степного раздолья. Но вот и время, отведённое таким посёлкам, чтобы быть на Его пути, отстучало своё, и Тракт внезапно для себя упёрся в похожую на рыбий кукан Дорогу. К Дороге примыкала мелкота домишек. Белела известью больница в несколько корпусов, убранных общим заплотом. За больницей лепились почта и библиотека; лязгало железо на машинном дворе; запахи ржаного, жжённого на квас хлеба отпахивала вместе с дверью булочная; особился домик метеостанции с голубыми ставнями… А в центре возвышалась трёхэтажная, красным кирпичом выложенная школа, к которой со всех концов тянулся Посёлок.
В этом месте Тракт умирал.
Нет, срывая ошейники заборов, Он ещё бежал дальше в степь, встречал на своём пути мелюзгу городишек и деревень, но все понимали – и Он лучше других, – что это уже не Он, а иной Тракт.
Но Он всё помнил.
Отсрочка.
Повесть первая
1Старик Колымеев возвращался домой с того света. С недавней поры установилось недушное майское тепло и в считанные дни оборвало с затенённых крыш последнее шипучее серебро, нежным суховеем сваляло в кучи у заборов подсохшую прошлогоднюю листву и длинные, в колючий шар скатавшиеся травяные стебли. Но вот с ночи наползли морока. Часам к восьми утра, когда Палыч стоял у двери в процедурную, в коридорное окно ударились первые дождинки. Однако большого дождя не вышло. Шёл обычный майский дождик. Неуверенный и робкий, он чуть налил дорожные яминки, как уже отплясал в большой эмалированной кастрюле, поставленной под жёлоб больничного крыльца. В золотистой от глянувшего солнца мокроте воспрянули запахи земли и наворачивающейся зелени, перебиваемые тяжёлым духом контейнеров с мусором в глубине двора. И жизнью ещё прошибало – острее нашатыря. И запах этот истреблял всё: и бензинный выхлоп с дороги, и аромат наивного дурнотравья, и зловонье мусорных баков, не выгребавшихся с того дня, как рассёкся в дорожной аварии главврач больницы Виктор Бажеевич Мадасов. Место главного до сего пустовало, но Колымеева нынче это мало беспокоило. И когда он с нехитрыми манатками выперся на крыльцо, то скорее облапил стену, чтобы не скоситься от разящей свежести…
Больница осталась позади, и Палыч переложил котомку из усталой руки в другую.
– Ёкко санай! – обронил незлобное ругательство, давным-давно привезённое в Сибирь с матерью-чухонкой. Мать умерла после войны, а присказка жила. Что она таила, старик не знал, понимая под нерусскими словами душевную недомогу…
Без обычной в таких случаях радости брёл Колымеев – как с прогулки шёл. Откуда было взяться веселью? Два раза белые халаты уносили в ночь, оба раза вертали к жизни, но так, словно отпускали под подписку о невыезде. Третьего числа копнулось под сердцем, и наученная старуха кликнула «неотложку». Весь апрель Палыч провалялся в стационаре под капельницей, всеми думками настроился к скорой пропасти. Дела его были неважнецкие, хоть утешали халаты да врала старуха, что хорошие, но Палыч и сам кумекал: худо. «Надорвались мои паруса…» – однажды заплакал среди ночи, когда чухнул, что умирает и отсрочке не бывать. Жизнь старик понимал как переменный ветер: сегодня дует, а завтра нет. Проснувшись как-то под утро, он скорей почувствовал, чем разглядел, как надувается синей опухолью. День ото дня выше и выше, врачебным загородкам вопреки, разливалась от ног смертельная волна. На пятый ноги отекли до колен, старуха принесла с базара обувку на три размера больше; кожа на ногах напряглась, задубела, и Палыч не спал ночей. В довесок, чтоб уж совсем раздавить его, взыграла мужская болезнь, и навесили катетер. «Как… не знаю… со шланчиком-то?!» – взмолился старик. Совсем невмоготу стало, белый туман, как белый халат, застил взгляд, а в груди, то замирая, то пускаясь в галоп, достукивал незримым копытом красный конь его жизни…
Одним из первых на пути старика к дому стоял синий двухэтажный флигелёк почты. Он ещё издали призывно замаячил ярким жёлтым транспарантом, растянутым от окошка до тополя через дорогу. Транспарант принадлежал фотосалону «Улыбка», что разместился в верхнем этаже, окнами на улицу. Тяжёлую ткань колебал ветер, встретив на своём весёлом воздушном ходу заграждение. Стальной трос захлестнул ствол тополя, принуждённого к посильному развитию капитала, и уже успел, въелся в пухлую по-весеннему кору. Старик сощурил глаза на громкую надпись: «Улыбайтесь чаще!» Мысля ещё по-больничному, Палыч хотел плюнуть, прочитав это воззвание, но пошуршал выпиской в кармане и, действительно, улыбнулся… Приветно раскинулся в шляпках деревянных грибков песочниц детский сад. Но пусто и безлюдно было в дворике. Одинокая ворона снялась с качели с появлением человека, также нахохленного и до недавнего времени изгоняемого жизнью, и захрипела простуженным карком.
– Видишь, родню нашла, пакость! – не испугавшись тишины во дворе, возмутился Колымеев, но вспомнил, как ещё недавно сама смерть летала над ним чёрной вороной, и успокоился. – Я да смерть – две вороны, – обеим жизнь даёт нагоняя! Но всё ж таки я поменьше всех буду: меня и смерть задирает, а жизнь бежит.
На зелёных воротцах висело объявление о капитальном ремонте, оно окончательно ободрило Палыча: стало быть, везде ремонт, и материал из строя выходит, а не он один.
На всякое встречное учреждение старик глядел как внове, будто никогда не наблюдал их в своей жизни. Но когда за рощицей тополей и берёз замелькала старая двухэтажная школа, сердце вспухло затаённым нарывом – щепотка детворы по сбитой прошлогодней траве гоняла наполовину сдутый футбольный мяч. Колымеев для большей надёжи ухватился руками за штакетник. Ребячьи крики тревожили ему сердце, как прощальная песня лебедей, и долго слушать её он не мог. Брёл, приваливаясь на правый бок, дальше – по тракту…
– А дети-то? – вслух бормотал и корил кого-то: – Почему ж детями-то попрекнул?! – Тот, другой, видимо, возражал, и старик яростно спорил: – А Гутя?! Нет, Гутю взять? Хорошая женщина! Любящая. То-другое…
За пекарней дважды окликнули. Палыч услышал и первый окрик, но суеверно не обернулся. Суеверие, считал, нажил в больнице – раньше он таким не был.
– Володька! Колымеев!
Чебун – бузотёристый, ухватистый старик с крупным красным носом – торопко катил впереди себя тележку с флягой, уверенно и крепко ставил на землю ноги. «Здоровый ещё сосед!» – они жили с Чебуновыми через дорогу.
– А я смотрю: Володька Колымеев идёт! Кричу-кричу, а он и ухом не пошевелит…
Он поставил тележку, красные от ледяной воды большие руки положил на поручни с надетыми вместо ручек кусками резинового шланга.
– Здорово! Выписали, значит?
Палыч разжал занемевшие сухие пальцы – но Чебун руки, по своему обыкновению, не подал.
– Та-а… – неопределённо повёл в сторону занесённой рукой Колымеев, а Чебун прихоронил в себе твёрдую мысль.
Пытливо, сквозь тяжёлые веки рассматривал Колымеева, словно в тощей, болезнью обсосанной фигуре вынюхивал единственно крепкую помочь, которая не давала рухнуть шаткой городьбе.
– Так, говоришь, спровадили домой? – Чебун знал определённо, что – спровадили. Допытывался: – А что сказали-то? Может, умирать спихнули! Чё ты… как этот! Надо было разузнать всё по порядку…
– За отсрочкой иду, – кротко ответил Палыч и прикинул: сам он такую флягу с колонки не допёр бы уже. – Отсрочку же дали в честь Первомая!
Вместе посмеялись: беззвучно – как рыба – Палыч и громко, напрягая до самого горла выскобленное бритвой лицо, – Чебун.
– Давай кошёлку-то! Повешу на поручень – всё легше будет! А то… светишься весь, как бритвочка. Не кормят в больнице-то?!
– На три блюда дают!
– На три… блюда! На три, говоришь?! – Чебун утёр рукавом влажные от смеха глаза. – Вешай да пойдём… Ты домой ведь?
– Мне тут зайти надо в одно место. Просили после выписки показаться… в аптеке… – неожиданно соврал Колымеев и заиленными болезнью глазами посмотрел на Чебуна, мучительно соображая, зачем бы ему нужно в аптеку.
– Лекарства, что ли, какие выпишут?
– Однако так.
– Ну, давай тогда кошёлку – довезу! – Чебун не поверил про аптеку, но великодушно смолчал о своей догадке. – Старуху напугаю! Скажу, вещи Володькины забрал – мол, врачица велела, – ехай теперь за самим Володькой, он уже у подъезда лежит, приготовленный…
Палыч аж задохнулся от возмущения, ворохнул красную шерстяную кепку, обнажив перерастающий в лысину высокий лоб и клок сухих реденьких волос, свалявшихся от долгого лежания в больнице.
– Иди свою напугай! Чё ты привязался с этой кошёлкой?! Сам донесу, не надорвусь! Думаешь, совсем немощным стал Колымеев?!
– Никто не думает! Чё ты, взбеленился-то? Давай, мол, помогу – всего и делов… Аж зашёлся весь, чудак!
Чебун с силой толкнул тележку.
– Баню завтра буду топить, приходите с Паловной…
2С утра Августина Павловна чувствовала себя как раздавленная улитка. Одеревенелая в мускулах спина не ощущала грубых плах, настеленных поверх панцирной сетки (старуха так и не привыкла к сетке: «Ляжешь, как в пропасть ухнешь!»). Едва шевельнулась, как по всем жилам, точно ртуть в термометре, разошлась невыветренная усталость, кажется, таившаяся всю короткую ночь в специальном отстойнике. Ответно завыли руки. Старуха с отчуждением, словно не признавая, смотрела на них, не по чину взгромоздившихся на белый пододеяльник, – разбитые, с обломанными ногтями, по заусенцам и морщинам забитые чёрной угольной сажей…
Одно радовало: давление, разыгравшееся с вечера, больше не скакало и голова не валилась с плеч. Сказалась польза капустных листов, которые извлекла из подвала, где они хранились, обвалянные в крупной соли и придавленные в бачке тяжёлым камнем, и приложила к больной голове, да так и уснула с ними. Проснулась до света, но не поднималась. Лежала, с первых минут настигнутая неумолчными заботами; уже утомлённая ими, в наивной простоте старалась не дать тревожным думам ходу. Но как это возможно, чтобы живой человек был свободен от мысли?
О старике боялась даже помянуть в своих одиноких бдениях, но по всему выходило, что воротись – не воротись от беды, а к одному идёт дело.
– Однако помрёшь, Колымеев! – Хрипловатый со сна голос глухо отозвался в пустой квартире, и старуха обмерла: а что если и правда – умер?
Старуха соскочила с кровати, босиком добежала до двери и пинком распахнула её в зал, чтобы услышать, если постучат или затрещит в прихожей телефон. В комнату шмыгнула бусая кошка с невысосанными сосками. Не обнаружив котят, просительно потёрлась о старухины ноги, заглядывая хозяйке в лицо. Старуха не выдержала зелёных укорительных глаз (вчера за стайкой в ведре с водой утопила она котят – Маруська через весь огород шла следом), пихнула кошку ногой:
– Змея! Повадься ишо таскать, дак я тебе задам шухеру!
Выпроводив кошку, старуха дозналась у самой себя, что ночью, кажется, звонил телефон. Можно было брякнуть в кардиологическое отделение и справиться о старике, но старуха боялась. Пока Колымеев на больничной койке, каждый стук в дверь, каждый телефонный звонок нагоняет на неё ужас. Чудится: открой дверь, подними трубку, как впустишь в дом глашатая печальной вести. Она даже на улице не показывалась без особой надобности, второй день лежали газеты в почтовом ящике – за почтой идти через дорогу…
Сквозь плотные занавески щерился рассвет. Сияние его было ещё жидким, не набравшим силу. Под окном будто горел костёр из сырой талины, и сизый дым накатывал к стёклам. Как головы призрачных существ, глядевших с улицы в дом, стояли на подоконнике горшки с длинными усами рассады. Небо с вечера заволокло тучами. Но дождь не шёл. Только рассветный дым становился белее. И настойчивее: вот он уже высветил часть комнаты, ту, что ближе к окну. Как из небытия, выплыла старая, жёлтого дерева горка, а за ней лакированный колпак швейной машинки… Старуха стала гадать, сколько машинке лет: «Хозеиха когда переехала в Улан-Удэ? В тот год и брала…» Установив возраст машинки, Августина Павловна осеклась: в шестьдесят девятом умер Карнаков, в семьдесят втором – средний братишка Ванечка, в семьдесят третьем… Первые искры солнца упали на пол, осветив даже дальние углы комнаты, и старуха вздохнула. В окне домика-будильника, стоявшего на столе, часовая стрелка целила в цифру пять.
Дремалось или нет старухе, только явственно обозначилось, как уже мёртвый лежит старик посреди избы в зловеще-красном гробу, поставленном на табуретки. Старуха, вся в чёрном, сидит у изголовья и молчит: все слёзы давно сказаны. Скрестил ноги в кресле татарин Тамир. Иногда он встаёт и на цыпочках идёт на улицу курить. Скорбны старухи, кивают в согласие смерти. По лавкам да табуреткам вдоль стен – соседи с ближнего околотка… Особнячком, положив руки на колени, косая Саня. Деловито поглядывает на часы директор гипсового рудника, молодой бурят, краем уха наслышанный, что умерший старик когда-то работал на карьере. Маруська ловит когтистой лапой чёрные ленточки приставленных к стене траурных венков… Ближе вынос, изба полна народу. Старик Чебун громко шепчется с мужиками, и вот они – Мадеев Колька, Тамир, сам Чебун да его сын Борька – уходят. Пошли набросать в кузов бортовухи пихтовый лапник. Тут открывается дверь: незнакомая старуха в чёрном платке. Ни слова. Садится против Августины, через гроб, в головах. «Люба – ты? – спрашивает Августина. – Из Бохана которая, Вены Карнакова сестра родная?» Пришедшая – молчок, а сердце Августины вспухает обидой. «Либо из Джаваршанов кто? Троюродна сестра Колымеева?» И на это ни слова незнакомка, а пуще того – упала головой на гроб и плакать не плачет, и причитать не причитает. «Да кто ты хоть – скажи! – восклицает Августина. – А то пришла и сиди-ит, а чё сидит?! Коль знакома, дак так и говори, а то… как-то…» – «Очень он меня любил – Владимир Павлович! – отлипла от гроба незнакомая старуха. – И я его… всю жизнь…» Августина, не веря своим ушам, смотрит на старуху полоумно, потом переводит взор на мёртвого старика, задрав белый нос лежащего в гробу. «А ну-ка. – Августина вздымается грозовой тучей. – Проваливай! Вот Бог, а вот порог. А то щас как швырну с крыльца – белого света не взвидишь!» Слёзы в горле, но и злость тоже. «Нашкандырка чёртова! У людей горе, а она пришла! Да как тебе не стыдно?!» Старуху обступают кружком другие старухи. «А-а, забирай его к чёртовой матери! Прямо с гробом бери! Не жа-алко! – И глухо рыдает: – Всю жизнь прожили, а она, вишь, пришла, се-ела! Думаешь, не знаю, кто ты?! Всю душу ты Колымееву изъела…» Заходит Чебун и громко сообщает, что всё готово. «Подняли, подняли!» – говорит Чебун, и вот уже гроб со стариком медленно покачивается в руках мужиков, словно в клешнях огромного ската. Кто-то подхватывает Августину под локти и ведёт из избы, и половицы плывут, качаются у неё перед глазами, а старуха в чёрном платке выскакивает в сенцы наперёд и уже там, на ветру, рассеивается дымом и пеплом…
«О Господи! Спаси и сохрани! – Старуха очнулась. – Надо нонче на родительский день съездить в Нукуты, который год оградки не крашены… Да и то – вскарабкайся в гору-то!»
Опустив на пол ноги, долго искала тапочки; это её разозлило:
– Да что ты, ети вашу мать! Сука старая! Как рюмочки на столе, дак она видит, а как топалки, дак…
Умываясь над раковиной, отряхнулась от страшного видения, и все мысли её, принадлежавшие старику, обратились к угольной куче.
Дом, в котором жили Колымеевы, из четырёх квартир. На две клетушки – одна ограда и общий угольник. С Мадеевыми и Акиньшиными – соседями через забор – жили в ладу, а от молодых Упоровых не знали спасу. Упоровы въехали на один двор с Колымеевыми и сразу же навесили на угольник замок, которого на нём сроду не было. Уж старуха раз-другой пристыдила нахальную семейку, оставляя надежду на лучший исход, но у крепкозадой Тамарки от этих ссор только краснело в нервическом припадке лицо, а старуха, всякий раз уничтоженная, валялась на диване. Старик в перепалки не лез, мирно вёл себя в общей ограде, дружески беседуя с опальным Алдаром. Только благодаря куриному нраву старика между старухой и Упоровыми на короткое время наступал мир. К таковому, впрочем, Августина Павловна не стремилась, как не признавала миротворческой роли Колымеева. После того как старик попал в больницу и по посёлку гремучей змеёй зашуршала молва о его скорой отставке с этого света, бурят купил грузовую машину и определил мёртвым капиталом, занявшим добрую половину ограды. Осенью вышла незадача с углём, до снега держали посёлок впрохолодь. Нынче ещё ранней весной старуха сползала в контору коммунального хозяйства. И вот три дня назад привезли уголь. Экскаваторщик потыкался рядом с грузовухой да, обогнув ограду, свалил ковш за стайкой, под горой. Оставив старика на попечение врачам и Богу, старуха наутро не пошла в стационар. Вёдрами, как прокажённая, стала носить уголь в ограду, поминая старика недобрым словом. Колымеев, по её мысли, был виноват перед ней вдвойне: тем, что надумал умирать, когда уголь валяется беспризорно, и тем, что каждую минуту отнимает у неё время и силы думами о себе…
Поскору вытерев полотенцем посвежевшее лицо, старуха зубы чистить не стала. Хотела выпить кружку чаю, но в отместку за долгое лежание на кровати отказала себе и в этом. Сдёрнув с надпечной верёвки штормовку в белых пятнах пота и обув резиновые сапоги на суконном чулке, пошла в кладовку за лопатой и верхонками.
Моргая слезящимися глазами, точно ей сыпанули в них пригоршню соли, застыла на крыльце, поражённая светом низкого майского неба. Справившись с ослепью, увидела у ворот, рядом с собачьей будкой, кирпич белого хлеба. Цепной упоровский кобель огромной лапой мячкал булку в своих зловонных кучах.
– У-у, змеи! – Старуха затряслась, тело её вытянулось в нервную струну. – Креста у вас на груди нету! Бросить хлеб в говно-о?!
Подвернувшимся камнем Августина Павловна швырнула в дворового. Бренча цепью, пёс уполз в будку, оскалил потёкшие обильной слюной клыки.
3После разговора с Чебуном жалел Палыч, что ни с того ни с сего накричал на соседа, когда тот только предложил помощь: «Надо быть добрее, а то правда, как мегера… Был ли, был ли ты раньше таким, Владимир Павлович?!»
С женой Чебуна вышло погано. Та померла много лет назад, ещё годной женщиной. Осенью, в сушь бабьего лета, у соседей загорелись стайки, пошло клохтать драньё. Огонь кинулся на чебуновский забор, а там к постройкам. Заблеяли овцы, в белый сугроб сбились гогочущие гуси, свиньи заскреблись рылами в пол. Только Буян – здоровенный бычара – не растерялся, саданул башкой дверь и убежал в степь – после пожара манил его Чебун хлебной коркой. А тогда, увидев за окошком зарево, Чебуниха схватила детей, увела к дальним соседям. Сама прытью обратно, где Чебун ломал забор, освобождая подъезд для пожарной машины. Народ, крики, мельтешня передаваемых вёдер, синяя сирена. Чебуниха зевнула, встала под струю ледяной воды, а уже к утру захрипела. Как береста на огне пыхнула и в неделю сгорела… «Тоже жизнь прожил Серьга! – сокрушался Колымеев, переживая склоку. – Понимать надо: хоть и разные дорожки, а не одни сапоги износишь, пока ковыляешь… Однако он в кирзе по жизни, а я босиком наяриваю! Вот и исшаркалась моя душенька…»
У магазина присел отдохнуть на крыльце, обогретом солнышком. До открытия годить полчаса, и старик без дела щурился по сторонам. Больше половины пути одолел, а дыхание едва зашлось…
Старухи, с рассвета занявшие перильца банками с творогом, молоком и желтоватым свиным жиром, клевали из сухих ладошек подсоленные семечки. Шептались:
– Это Гути Карнаковой старик!
– Здрасьте, Карнаковой! «Колымеевой» надо говорить.
– Так оне расписанные разве?
– Нет, по-моему, так живут…
– Бедный, сдал как! Ну да ишо ничё, говорили – помрёт…
– Умирать спихнули, по всему…
– Видно, что так…
– Гутю жалко, мы с ней в ФЗО учились. Всю жизнь хоронит и хоронит бабонька. Недавно увидала её на улице: она не она? Так кое-как узнала! «Гутя – ты?!» – говорю. Заплакала…
– Через вот таких вот наше здоровье в гроб и уходит! – злым громким голосом сказала одна старуха, обмотав голову шерстяным платком. – Куда вот прётся, поганец?! Уж умирал бы, если жить не может! Так нет же, надо же несчастной старушонке все нервы измотать напоследок! У-у, алкаши ненапивные!
Со всех сторон на неё зашипели, и старуха заткнула маленький грубый рот.
Старик не обиделся панихиде по себе. Однако жалость окружающих стала привычной, а вот ненависть нахлестала по глазам. Он пошарил в карманах курево, чтоб хорошей затяжкой унять волнение, но ещё утром сунул последнюю листовуху мужикам…
* * *С первыми тёплыми деньками, когда Палычу можно было уже ходить, он выполз из постылого больничного корпуса на улицу. Деревянный посошок соседа, тихо умершего минувшей ночью, прислонил к стене и робко, словно собственную жизнь, оглядел большой двор. Широко, как крылья аэроплана, расставив руки, чтоб ставшее чужим тело не кренилось, он таки одолел первый после долгого прозябания под капельницей путь по бетонной дорожке, плюхнулся на чурбан у забора. На лбу выдавился мелкий бисер. Старик смахнул с взопревшей головёнки кепку и приспособил на коленке. По дорожке полз большой коричневый муравей, тащил посильную клажу – длинную тоненькую соломинку, проступился и кувыркнулся назад, когда пришлось скрестись в горку. «На жёлоб, видно, удумал, соломинку-то, – рассудил старик. – Правильно, дожди скоро, волоки давай, а то загрызёт старуха…» Муравей долго скрёбся в громадную для себя круть, но старик не пособлял ему – пусть нюхнёт горькой жизни. «Поди с муравьиного склада умыкнул, когда главный муравей за медалью в область поехал? Смотри, наваляют тебе по первое число, а попрут по тридцать третье!» Муравей поупирался-поупирался, да выволок драгоценный трофей в гору, дальше поволок – в сухую крапиву, пока не растаял на фоне ноздреватой, лишь сверху оттаявшей земли…
«Что человек, что букашка! – определил старик и завернул газетную нарезку, соображая козью ножку. – Все жить хочат кого-то…»
Пряча махорочный огрызок в рукаве, он курил тайком от медсестёр и скупо сеял слезу на ввалившиеся в рот щёки. Кругом галилась, приплясывая, новая жизнь, гнала со своих улиц всё отжившее, как зелёная трава прокалывает и выживает летошнюю. С дороги несло запахи бензина и пыли, а пуще – кваса: третьего дня угромоздили напротив квасную бочку.
Хлопнула железная дверь – врач Алганаев, с недавнего заправитель всего отделения, цивильно закурил сигаретку. Из каменного чёрного зева, едва Алганаев открыл дверь, дохнуло знобящим, мёртвым холодом и тем тошным настоем, что надурил от запаха лекарств, белизны и пота.
– Курите, Владимир Павлович? – пожурил Алганаев. – Ай-я-яй! А ведь сколько я вам говорю? И всё без пользы…
– Та-а… – Старик отмахнулся, безучастный к своей пропащей судьбе. – Тут всё, попятной не будет! Был, да вышел…
Желтокрыло билось меж землёй и небом солнышко, как малая птаха меж оконных стёкол, и Палыч считал, что уж теперь-то даст болячкам прикура, вертелся на чурбачке, подставляя пеклу то пузо, то бок, а то костлявую спину. С отвычки морило на свежем воздухе; старик очухивался и водил соловыми глазами, когда на крыльцо с громким коротким матерком вываливался, как из парной, кто-нибудь из выписанных. Иные уходили без слова, а то, мельком оглядев Колымеева, небрежно кивали и исчезали за тяжёлыми воротами; третьи словно винились перед немощным стариком за своё здоровье.