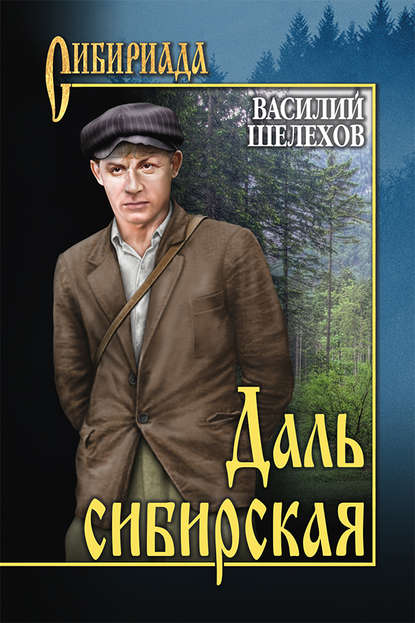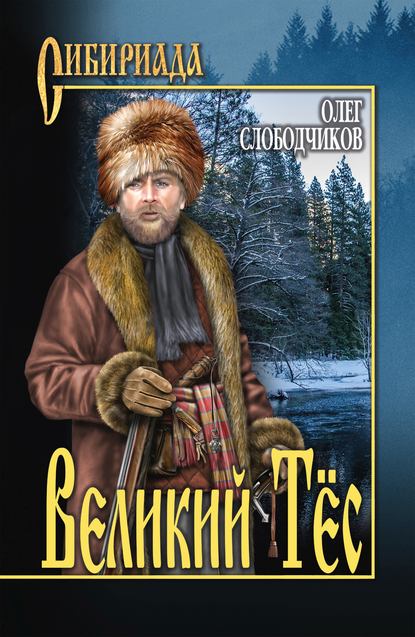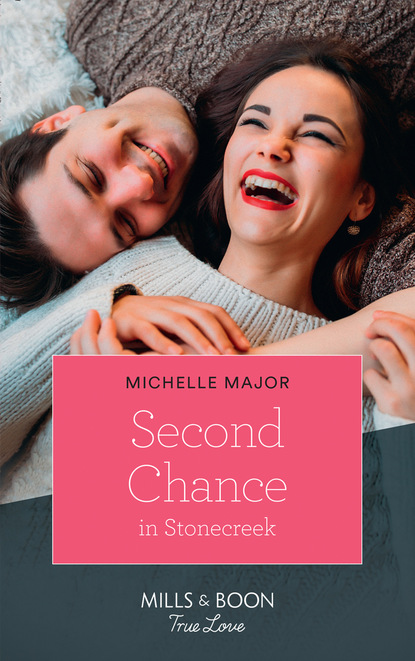Житейная история. Колымеевы

- -
- 100%
- +
– Э нет! Угомонись, Галочка, Христа ра-а-ди! До того ли Колымееву? Из больницы человек…
– Нет, Гутя, дядя Володя должен знать! Эти кролики – это же… это же… – подбирала нужное слово. – Это же… Ну, ветерана войны-ы и тр-руда-а, больную, стар-рую женщину-у… заставить носить уголь в такую даль! Разве мо-ожно?!
– А ты что же не помогла?! – Чебун не морщась опрокинул стопарик в большой рот. – Говорить вы мастаки! Вам бы в телевизоре выступать…
Загомозился Борька, высвобождаясь из тайных объятий жены.
– Ты мне не тычь, я не Иван Кузьмич! Эта Гутя… Она в натуре Гутя! Что бы, я не знаю, поорать через забор! Мы бы с кроликом тут же пришли… Вот ты что не был?!
– А давайте, я вам татарскую песню спою про любовь?
– Советовали мне добрые люди обратиться куда надо. Да-а! Связываться…
– Правильно, тётя Гутя, говоришь, – осмелел и высказался Колька. Его никто не услышал, и Колька повернулся к Палычу, ища поддержки. – Она правильно говорит, дядя Володя! Тётя Гутя жизнь видела, она не станет…
– Понюхала жизнь и сзаду и спереду – ёкко санай!
– Нет, баб Гутя, почему вы так рассуждаете?! – нахмурился Борька. – Это их обязанность…
– Дак разберутся в милиции, чё? – разговорилась бабка Саня, робко цепляя на вилку огуречные кружки. – На то они и власти…
– Они разберутся! Бурят, бурятки – взятки гладки! Ты ли, соседка, не помнишь, как они моих сыновьёв убивали?!
Ларка сверкнула на свёкра чёрными глазами, и Чебун послушно замолчал под этим властным змеиным взглядом.
– Не сунешься с деревянным рублём! – за всех и обо всём разом вздохнула учительница.
– «Нам русские глаза открыли, а мы им закроем!» – так они теперь говорят, не стесняются… Слышь, Паловна?!
– Бросят собаке булку хлеба – лежи-ит хлеб, собака не жрёт даже! – Старуха в упор не замечала Чебуна. – А у нас дядя в войну работал на мельнице, мы пыль сметали с полу да со стенок… Так с грязью и пекли…
– Э! Э! – заорал внезапно Тамир, сворачивая с бутылки жестяную пробку. Всё это время он молчал, сосредоточенный своей работой, и никого не слушал. – Тёть Гуть? Щас захожу к вам в ограду – да? А Упоров – э, слышь?! – говорит: «Ты к кому?» Я говорю: «Ну не к тебе же!» Э! Тёть Сань?! Так ведь было? Так?! Тамир врёт, нет?!
Саня от сумасшедшего рёва татарина вылила наполненную рюмку себе на кофту.
– Било, било! – с белорусским акцентом зашептала, втянув голову в плечи, словно прячась от штормовой волны.
– Мне бы угольник свой построить – вот печаль! – думала о своём старуха, по обыкновению не закусывая. – Да где доски возьмёшь?
– Я тебе дам! Вместе и построим. Мне должны несколько кубов привезти… Как ветерану войны!
– Кто тебе должен?
– Кузин сказал!
Прошелестел над столом смех.
– Это когда рак свистнет с горы! Рамы он тебе привёз заместо сгнивших?! Ну дак и сиди! Он своим детям домищи отгрохал, а нашему брату и гнилой доски не даст!
– Правда, правда! – согласно заговорили. – Нашим старикам только за деньги, и то – побегай!
– На гроб дадут три осколяпка – я так папке и говорю… Е!
– Ага, за свои тити-мити не хошь?! – Ларка щёлкнула над Мадеихой пальцами, намечая для всех смертных грядущие траты.
…Застолье раскололось. Колька Мадеев в одиночестве уснул за столом. Саня мелко-мелко, как белка, грызла хлеб. У стенки Рената Александровна изучала фотографии. Пьяный, с покрасневшей лысиной Чебун пальцем выводил по скатёрке:
– В огороде, Паловна… На хрен она вам сдалась, эта черёмуха?! Добро бы картошкой засадили, а так стоит без пользы… Я тебе помогу, построим!
Старуха, подперев голову кулачком, следила за пальцем Чебуна.
– Доски мне Кузин… Я завтра в администрацию пойду, скажу, что ты тоже ветеран войны! Хотя завтра суббота, баню буду топить… Приходите с Володькой в баню, а уж я в понедельник схожу…
– Да пошёл ты к чёрту, трепач! – изредка отзывалась старуха.
Но главное действо происходило в кухне. Туда незаметно для старухи перетащили из зала добрую треть стола. Сидели, выпивали, курили около печки.
– А Зою Космодемьянскую пытали?
– Э! Я сейчас книжку читаю – у Ренаты Александровны взял, – дак там по-другому описывается. Короче, так…
– Мать говорила, что в старом фильме показывали: на груди звезду вырезали… У живо-о-ой, не у мёртвой!
– Выжгли, по-моему…
– Я не знаю, но, в общем, угробили девку…
– У неё же брат был родной! Тоже Герой Советского Союза…
– А может, и не было никакой Зои Космодемьянской. Сейчас… не особенно…
– Была! – опрокинула табуретку Мадеиха. – Должна была быть, а то я у всех по глазу на анализ оторву, как Мадееву!
Потом взялись бороться на руках: кто кого. Выставили в центре кухни табуретку. По одну сторону табуретки, посмеиваясь, сели мужики. Цыганка закатала рукав и первой вышла отстаивать честь женской сборной.
– Плечом не наваливаться, только рукой! – загадочно предупредила Ларка, схватившись с Борькой. – А то я ночью на кого-то навалюсь!
Мадеиха с грустью смотрела, как сначала Борька, а потом и Тамир победили цыганку. Галька хотела наплевать Ларке в глаза, но передумала и наплевала себе в руку.
– Подходить в порядке живой очереди! – И перетянула своим рычагом сначала младшего Чебуна, а потом и Тамира. Мужики ушли к печке, чтобы прижечь табаком кровную обиду.
Тяжело отпыхиваясь, Мадеиха положила на колени вспухшие в жилах руки.
– Я – Поддубный! – объяснила свою силу.
Старуха, заглянув на громкие крики, согнала всех обратно в зал.
– Я всех кроликов сделала, дядя Володя, – похвасталась Мадеиха. – Восстановила историческую справедливость…
– Дак на справедливость одна надежда, Галка. Я тоже… со смертью в борьбе состою, тягаюсь с ней, покуда силы имеются…
– А ты её вот так, дядя Володя. – Мадеиха показала рукой, как она переборола недавних соперников. – Но! Я так всегда делаю…
Ближе к полуночи ушли татары Хорунжии. Только за ними стукнулась дверь, как сидевший в уединённой задумчивости Чебун отставил налитую рюмку, стал рассказывать всем давно знакомую историю.
– Приходит этот ментяра Тамир! Так, мол, и так: помогите гараж построить. Ну, какой разговор?
Старик говорил спокойно, без нервов. Давняя обида за сыновей с годами улеглась, но совсем не ушла – слежалась, как в апреле снег за стайкой.
– Колька с Ванькой пошли. Неделю строили от зари дотемна! Такой гараж отгрохали! А он, гадина, водкой отделался. А водка-то оказалась палё-на-я!
Чебун назидательно поднял указательный палец.
– Её во время рейдов отбирали у торгашей, а не уничтожали – на свои нужды брали. Тайком, всё шито-крыто. Татарин им сам сказал. А эти дурачки поддали хорошенько да распустили языки: так, мол, и так, водка ментовская, нам её Тамир дал… Кор-р-рупция! – прокаркал старик страшное и непонятное слово.
– Бать, хватит! – попросил Борька, нервно копаясь в карманах в поисках сигарет. – Ты ни о чём другом поговорить не можешь?
– Молчи, щенок! – взревел Чебун и рванулся с места, опрокинув рюмку, стал ловить сына за горло.
– Эй! Дома вам мало? Пластаетесь так…
Лысина у старика побагровела, клочками пакли разметались недожатки волос.
– Я его задушу! Вот этими самыми руками задушу, гадюку!
– Выпей, дед, – посоветовала Мадеиха. – Где рюмка? Щас выпьешь, а потом я тебе расскажу за жили-были. Е?
Чебун выпил залпом.
– Ночью фары окошко обожгли… – снова поднялся его глухой голос. – Собака залаяла. Стук. Я открываю. Три легавых. Меня к стенке: уйди, старик, прибьём! Ванька с Колькой пьяные на диване спали… За шкирку – и в уазик. Я за ворота. А куда побежишь? К кому?
– Да, это так. Не к кому…
– Одинь заступникь нашь – отець святой, – задрожала головой бабка Саня. – На него вся надежда, на самодержца небеснаго…
Не к месту заворочался Мадеев, зашептал пьяными губами.
– Уж рассвело, сижу на кухне, места не нахожу. Вдруг слышу, как кто-то скребётся в дверь. Открываю: Колька. Весь в крови. Я к телефону, хотя понял уже – не жилец… Ну, скорее в сарай – за мотоциклом. Под мосток свели следы, а там – Ва-а-нька…
Чебун сдавил рукой большой лоб. Широко расставив локти, так и сидел, глядя в пустые тарелки.
– Из-за водки! – Мадеиха положила руку на сердце. – Нет, ну из-за водки?!
– Да не из-за водки! Языком не надо было трепать…
– Вот так и живи, озираясь…
– Без войны война! – осевшим голосом сказала старуха. – Умереть только достойно… А что сделаешь? Ничё ты, Ларочка, не сделаешь. А раз родилась – терпи. От мамки до ямки…
…Происходящее окольными путями доходило до Палыча. С отвычки он захмелел, одолев рюмку-вторую. И вот уже, как из другого мира, выплывали и настигали его разум дребезжащие голоса, среди которых он узнавал хриплый старухин и мягкий Санин:
На Муромской дорожкеСтояли три сосны,Прощался со мной милыйДо будущей весны…Вплетаясь в общий строй, на втором куплете зазвучал острый голос цыганки. И вскоре далеко укатилась песня, унесла старика в синие дали…
13Ограда забрызгана тонким заревым светом, забыто горит над крыльцом лампочка. Ещё минута-другая – и умрёт стеклянный мотылёк ночи, замелькав электрическими крыльями, сгорит на костре светлого майского дня.
«Лучше умереть, чем на подсосе состоять у жизни!» – догадался старик о своём предназначении, расчувствовавшись: он первый нынче увидел утро.
Дремлют под горой деревянные птицы-дома, засмотревшись дюралевыми клювами желобов в ржавые бочки. В бочках в ладонь высотой холодная, от угольной сажи чёрная, как дёготь, вода: ночью снова перепал дождь. Палыч весело крикнул в бочку. Замер, ожидая, что вот-вот сорвутся деревянные птицы. Но птицы не зашумели крыльями, и старик успокоился. В воде ему померещилось лицо какой-то старухи, он качнул бочонок – и лицо исчезло.
– Прибластилось на вчерашнее.
Маруська греется на перильце, отражается в зелёном оке пятиконечная звезда солнечного луча.
– Маруська, Маруська! Исти хочешь, Маруська?
Кошка, мурлыча, выгнула хвост крючком и попросилась к хозяину на плечо, и он погладил её по искристой спине, а затем отворил дверь в дом.
– Иди, старуха что-то даст.
Несколько раз стукнул ногами в землю, утверждая себя на ней.
– Ничего, подходяще укрепился, – объявил результаты утреннего медосмотра.
Из рассеивающейся ненастной хмари выплыло степное небо. Загорался второй после больницы день. Только где-то на западе ещё торчал ватный клок, будто зацепившись за отворённую дверцу чердака.
– Либо знак для меня?! – забеспокоился старик, сходил в огород и принёс старое удилище, которое висело на вбитых в стену дома гвоздях. – Дак мы выправим ситуацию, дадим должное направление полёту…
Снизу потыкал чердачную дверцу кончиком удилища, и облако понеслось дальше.
– Освободил небо – и то причина! Теперь ему что же остаётся? Только светить да радоваться…
С шумом расправляя сизые крылья, на крышу опустилась голубиная стая, пошла бродить по коньку, воркуя и переваливаясь с ноги на ногу, цепляясь острыми когтями за ветхое от времени и дождей дерево.
– Должно, какую-нибудь разнарядку сверху принесли?
Розовогрудые вестовые не ответили. Потревоженные отрывистым стуком с гипсовой горы, они снялись с крыши и улетели на чердаки гудэповских гаражей.
– Нет, однако что, весточки для тебя, Колымеев. Живи так – на дармовщинку…
В огороде Упоровых взмыл к небу дымок; поджарый сосед-бурят встащил на печь закопчённое полубочье, с пустым ведром, которым носил в полубочье дождевую воду, пошёл в дом, зябко кутаясь в лёгенький для весеннего утра пиджачок.
– О, дядя Володя!
– Здорово, Алдар! – жал руку Палыч. – Всё в заботах?
– А как больше, дядя Володя? Поросям жрать надо, коровам, курям надо, собака тоже исти просит… Даже мне надо, дядя Володя! – засмеялся круглым лицом. – Вот и завёл бардумагу…
– Надо, надо. Тоже пойду щас… займусь чем-нибудь… Калитку подправлю либо другое чё…
Он поймал себя на мысли, что минуту назад так не думал. Действительно, взять и починить забор, залатать ведро, выбросить из парника землю и заложить перегной; устав, сесть на чурбак под черёмухой и подумать о чём-нибудь давнем, от чего тепло на душе и немного кружится голова, как от выкуренной натощак махорки…
– Сесть, пока моя не видит… Давай сядем, дядя Володя.
Катая пальцем по колену катышек приставшей грязи, Алдар пожаловался:
– Устал, дядя Володя! Как ишак… Нет, здоровье есть, а… Руки опускаются. Веришь – чай заварить для себя лень!
Старик понял, тайком от старухи – в рукаве – вынес недопитую вчерашнюю чекушку.
– На-ка, Алдар, прими! Первое – ёкко санай! – средство!
Выпили из горлышка. Последним, жадно глотая прозрачные брызги, приложился старик.
– Дай-ка, дядя Володя. Пару раз… Как ты это говоришь? Ёкко санай?! Это бурятское выражение? Не слышал никогда…
Старик протянул струящийся дымом мундштук с вставленной сигаретой.
– Дерьмо табак этот покупной! Свой буду садить нынче…
– Но. Язык щиплет… Выписался, дядя Володя? – И, возвращая мундштук, Алдар подытожил: – Молодец!
Из дому, разматывая резиновый шланг, вышла Тамара – костистая, белая, как снег, остриженная коротко, в больших, с толстыми стёклами очках.
– Здравствуйте, Владимир Павлович! – Тамара не удивилась Колымееву. – Я думала, ты включил воду… Напоминать надо?! – Это Тамара добавила уже для мужа.
Ко всем людям на свете чувствовал разное старик, но к Тамаре Упоровой не лежала душа. Уж на что характерной была его старуха, а она не обнесла бы его чекушкой в святые праздники, как делала жена Алдара. Оттого и высох бурят, что на воробьиных правах обитал в доме, разве урвёт украдкой, как сегодня вот, а больше-то и не было удачи в его судьбе.
«Какая это жизнь? Волком завоешь…» – сопереживал старик; из огорода донёсся недовольный голос:
– И печь прогорела! – Тамара, подобрав у коленок халат, раскорячилась перед печкой и вздувала прогоревшие угли, пихала щепу. – Сиди-ит…
Алдар – тише воды.
– Пойду, дядя Володя…
На крыльцо, с силой распахнув двери, вывалилась старуха – в галошах на тёплый зимний чулок, в штормовке и в шерстяном платке. Оценила обстановку, о которой ей просигнализировала чекушка, но смолчала: чекушка была истреблённой и на вред неспособной. Долго возилась у двери, открывая ржавый замок; вышла с граблями и вилами в руках.
– Пойду на большой огород. Лыч-то с осени не сожгли! Пахать не сёдня завтра… А ты пока замок смажь, чё-то плохо открываться стал… Да, всё рушится к чёрту!
– Смажу сейчас, – руководствуясь старухиной установкой, соскочил Палыч. – Не сырой он, лыч-то? Дождь ведь, Гутя, пробрызгивал?
– Небось не намочило… не знаю… – засомневалась Августина Павловна, опустила закинутые на плечо вилы. – А когда потом? Завтра воскресенье. Опять же, Ларка вчера говорила, что Колька Засецкий пахать им будет…
С ведром свинячьей болтушки качнула бёдрами Тамара. Храня гробовое молчание, Августина Павловна проводила молодую соседку презрением.
– Гляньте на неё, нашкандырку! Норку задирает вышке вровень, а сама гвоздя не толще!
Больше всего на свете, больше старика Чебуна и фашистов не переваривала старуха Колымеева гонористую Тамару, которая кидала костяшки счётов в местном казначействе. За пару лет упорного сидения в конторке Тамара накидала этих костяшек кубометра три-четыре, само собой, в свою пользу. На старую ещё квартиру под покровом ночи свезла на машине хитро списанную добротную мебель, определила на вечное стояние. За мебелью ушли два рулона линолеума, которым «все полы в доме закрыли, теперь не дует с щелей!» – да несколько байковых одеялец. Канул бы, наверное, и финский шкаф – стоял такой жёлтенький в кассовом отделе, – если бы в жизни Тамары не установился антициклон, не подул в сторону каталажки попутный ветер. Её попросили; она вышла замуж, охомутав и подмяв под себя Алдара, сменила фамилию и несколько мест работы, попутно прогорела в двух местах, но наконец ткнулась в заветную бухту и вот уже лет десять прохлаждалась в коммунальном хозяйстве, в отделе расходов. По подсчётам баб, плохо разбиравшихся в дебетах и кредитах, Упорова наэкономила за десятилетие, без отпусков, присутствия в комхозе на сытую старость себе и детям. Насколько верны были слухи, старуха не знала, от разговоров на эту щепетильную тему воздерживалась, но мысль при себе имела.
Раз, по весне, кандыбая с банкой солёных огурцов из подвала, старуха мимоходом зыркнула на упоровскую кладовку, отворённую настежь, и сквозь дверной проём узрела на гвозде связку туалетной бумаги, рулонов тридцать-сорок. Право называть соседей кулаками возымела позже, когда Тамара втридорога загнала приезжим ведро пожелтевших сливок и нутряное свиное сало, с которого непосредственно перед продажей соскоблила ножом зелёную накипь плесени.
– Сливки копила, копила… Ну, скопила – даже свиньи жрать не стали! – наблюдала старуха в окно, как с первыми тёплыми деньками Упоровы вскрывают закрома и выволакивают кастрюли с задубевшими сливками и в катышки свалявшимся творогом. – Куда коробчить было?! И всё на замках, даже баня! Думают, украдут у них!
За несвежие сливки и сало Тамара выторговала две пары добротных унтов, чем повергла в уныние старуху Колымееву, которая социалистически переживала:
– Ходить, щеголять будет по посёлку! Как же, воздержится! Один день в лисьих, на другой собачьи оденет! Хоть бы уж кто сдёрнул с неё!
Вослед молочной продукции на торг стали уходить другие продукты животноводства. Тогда-то Августина Павловна и определила международную политику:
– Кулачьё нещасно!
Барыш был очевиден всем, в первую голову старухе и самой Тамаре. На вырученные тити-мити Упоровы справили грузовуху, и комхозовским работником была разработана экономическая хитрость, благодаря которой затраты должны были окупиться малой кровью. В качестве предупредительной меры Тамара запретила мужу курить, пиво после бани, а водку в праздник… Старуха возрадовалась:
– Так тебе и надо, бздуну проклятому! На двух работах ишачишь, а копейки в праздник не видишь!
Впрочем, Алдар скоро освоился в подневольной жизни. Не раз, пока бдительное око супруги рылось в приходно-расходных документах, тыкался Алдар то к старику Колымееву за куревом, то к старухе налить рюмку-другую. Колымеевы до поры выручали, но как скоро Тамара повела против них империалистическую войну, последние раскрытые для бурята двери захлопнулись. В довесок ко всему Тамара (не без подачи Августины Павловны) узнала о позорных мыканьях мужа, и за стайками меж ними состоялся деловой разговор. Об итогах проведённого бухгалтером выездного собрания старуха Колымеева догадалась, обнаружив посреди ограды четырёхколёсную гробину, загородившую подъезд для ссыпки угля…
Сейчас, увидев Тамару, рассердилась старуха, словно майский свет потух для неё. Сколько крови испортили ей Упорова и эта машина, знали только Создатель да привозивший уголь бульдозерист.
– Лучше бы гадюка проползла, чем ты, сука, мимо прошла! Ишь как скоробило! Ну ничё, это ишо соцветие, а ягодки будут потом!
Завязав платок потуже, Августина Павловна поплелась под гору, а старик пошёл в сарай за бутылочкой машинного масла, стоявшей там лет двадцать. Рядом с бутылочкой он обнаружил дюралевые пластинки, вырезанные полукругом: ранней весной мастерил рамку под фотографию на своё будущее надгробие.
– Нынче Колымеев совсем другой стал! – удовлетворился Палыч, вертя пластинки в корявых руках: уж почти готова рамка, только подпилить углы да сточить напильником…
Ему пришла в голову мысль, он взял лопату-ведро и торопко, спеша обогнать волнение от мелькнувшей догадки, посеменил в огород.
14Отворив калитку, Палыч стоял без движения, соизмеряя пришедшую на ум идею с будущей жизнью. Опробовал рукой лезвие лопаты и потащился под гору, куда ушла старуха.
– А старуха… она поймёт! – полез через захлестнувшую переулок сухую полынь, оглядываясь на огород, где раскинулся под зальными окошками густой куст черёмухи. – Не без разуменья баба у тебя, Колымеев!
…И полуметра в рост не был черёмуховый саженец, когда он приметил его, возвращаясь из соседних Хорёт, куда его таскало по старой памяти к знакомой разведёнке… Ушёл на рассвете, погладив на прощанье сонную ночнушку с тяжёлым бременем крепких грудей. Пылил прибитой росою утренней пылью, зарился на зарившееся в степи солнце, смолил без устали да лучил влажные глаза, настраивая их на чистый лад скорой встречи с Августиной. На своротке в посёлок заметил: стоит середь степи, покачивается не от ветра, а от слабости жизни. Круг-другой сделал, а потом срезал вместе с дёрном, примостил в ковш и так, выпятив железную горсть, катил до рудника, пел невесёлые песни, прощаясь с вольной жизнью. Подрагивала в ковше смуглянка, как будто спрашивая: «Куда ты меня везёшь?» – а он гнал да гнал, чтобы раньше петухов и Чебуна поспеть в посёлок. С заднего двора подкрался, как вор, в старой шайке приволок саженец и высадил рядом с домом. Орудовал скоро, не дожидаясь, когда Августина проснётся, плеснул на смуглянку ведро воды из бочки и бегом на работу…
Утром Августина, вынося через огород помои, заметила сиротливо притулившуюся черёмушку и сразу догадалась, чьих рук это дело. Она ждала Колымеева и к обеду, и к ужину, выбегала на каждый машинный гудок за ворота. Намекала Саня, посмотрел при встрече Чебун, да не верила Августина, чтобы повадился на старое Колымеев. Но мысль не стреножишь, и мелко подрагивали щёки у Августины, когда, не зажигая света, сидела до полночи у незанавешенного окна.
Однажды осенью Августина понесла в огород одеяла, чтобы выветрить и просушить на прощальном солнце, и случайно наступила на черёмуховый стебелёк. Смуглянка хрустнула и накренилась, лопнула в переломленном месте нежная кожица…
– Оклемается – её удача, а нет, дак не велика барышня!
Однако хрупкий заморыш не только выжил, но и вымахал в стройный куст, зелёными ветвями подпёр крышу, перерос её до самой трубы. К сроку завязывались белым кружевом упругие ветки, в конце мая распускали в коричнево-красных прожилках зелёные листья, а к середине августа выметывали чёрные горсти и, как тушью облитые, в осеннем горестном дожде без ветра жались к окошку…
Нынче зимой Колымеев лежал в спаленке ни живой ни мёртвый с похмелья. Душа его отрывалась от тела и, заглянув в сенцах за дверной наличник, стремилась за чекушкой.
– Слышь-ка, Колымеев? – позвала старуха, сидя у окна. – Либо пробка ухо забила?!
В кишках у старика завозился дрожащий червь.
– Не слышу! – слабо отозвался Колымеев, когда старуха повысила голос так, что не слышать её стало неприлично.
Зацепилась Августина Павловна, подвела крючок под губу и радовалась улову.
– Иди-ка сюда, дорогой товарищ!
Палыч завздыхал, захватался за сердце, безуспешно ища под кроватью стоявшие у порожка тапочки, чтобы продлить своё существование.
– Звала, Гутя? – в байковой рубахе до колен выволокся из спаленки. – Либо, верно, пробка в ухе застряла и я не ту волну словил?
На шарканье топалок обратились толстые линзы старухиных очков.
– Сотку ты грабанул из сумочки, Володя? – вкрадчиво спросила Августина Павловна, и так же мягко Палыч соврал:
– Не, Гутя, не я!
– Мадеиха утащила! – Только из жалости к его немощи старуха приняла слова Колымеева на веру. – А приходила звонить…
Всё-таки его настигло отмщение:
– Черёмуху надо спилить!
– Зачем, Гутя?
– Все рамы сгнили у окошек! Глянь, ветви чуть не в дом лезут. Как дождь, так все рамы в воде… Так и стена порушится! У Сани, вспомни, было в одном годе…
– До лета ещё, как до Москвы раком!
– Не развалишься, щас спилишь если… Пить, дак он первый!
Он утопал валенками в январском снегу, ширкая пилой по мёрзлому дереву, которое вспухало под металлическими зубцами затаённой весенней пряностью.
– Взбредёт же в голову! – От волнения пот выступил на лбу, но старик не прекращал работу, проникаясь ею с разрушающим жизнь остервенением. – И всё, главно, мне назло делается! Соберусь да уеду в Хотхор, в дом престарелых…
Дрогнув на прощанье вершинкой, первый из трёх черёмуховых отростков рухнул в сугроб. Палыч, не отдыхая, чтоб не разнежить души, подступился ко второму – и вторая ветвь, хватая воздух ветками, полетела в окно, едва не выставив стёкла.
– Осторожней, чёрт криворукий! – забрызгивая стёкла слюной, зашлась в крике старуха, а когда старик сунулся к последней ветви, зыкнула в стекло: – Эту не пили, Колымеев! Обтеши топором, высохнет к весне – тогда уж…
Старик с боков подтесал черёмуху, ломкие чёрные щепки упали из-под лезвия… Неужто на его век не хватило бы рам?
– Вот и хорошо, – без уверенности в своих словах рассуждала Августина Павловна, когда старик стаскивал с опухающих ног валенки. – Сразу светлее стало. Правда?
Не отвечая, Палыч направился к трюмо, где в ящичке, среди отвёрток, шурупов и молотков, хранились в непочатом пузырьке сердечные капли.