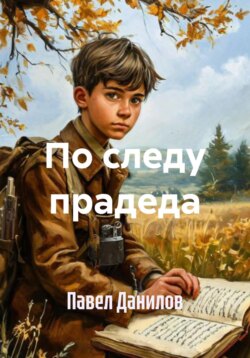По следу прадеда
Глава первая. Тайна на ровном месте
«Интересное домашнее задание!» – я едва не засмеялся от этой мысли. Да не какое-нибудь на часок-другой, а на целых полгода!
Всё началось с того, что учительница истории задала составить генеалогическое древо с краткой биографией каждого члена семьи. Вначале всё шло легко и просто: сестра, родители, тётя с дядей, бабушка с дедушкой по маме, бабушка с дедушкой по папе… но всё изменилось, когда я подобрался к прадеду по отцовской линии.
Прадед погиб при странных, даже таинственных обстоятельствах. Хотя, по словам его дочки, моей бабушки, он стал солдатом ещё в тридцать восьмом, прошёл Вторую мировую войну и вернулся живым и очень даже здоровым.
Никто не хотел говорить, чем мой прадед – Тереньтев Василий Сергеевич – занимался до и после войны, ещё меньше было информации о том, как он воевал. Говорили только, что воевал он везде. Это меня и заинтересовало больше всего. Когда я спрашивал о прадеде, все будто видели призрака у меня за плечом и сразу становились какими-то молчаливыми, грустными и… испуганными.
Мне не удалось даже узнать точную дату смерти Василия Сергеевича. Бабушка говорила о семьдесят седьмом году, дед – о восьмидесятом. Отец посоветовал мне отправиться в гараж, припомнив, что там была деревянная коробка с какими-то старыми бумажками: документами, купюрами, письмами. Что ж, это могло пролить хоть какой-то свет на прошлое прадеда.
Я взял связку ключей и потащился в гаражный кооператив. Сентябрь радовал теплом, но я знал, что осень не будет долго терпеть этого наглеца, пытавшегося продлить лето, и скоро заявит о себе проливными дождями, слякотью и холодным ветром.
Обстоятельные деревья не верили задержавшемуся теплу и следовали заведённому порядку. Листья краснели, желтели, а некоторые и вовсе познакомились с землёй, добавляя дворникам работы.
Возле ворот в гаражный кооператив сидели и валялись собаки, привычно ожидая угощения от людей и делая вид, будто что-то охраняют. Один пёс навострил уши и проводил меня взглядом, другие, утомлённые жарой, поленились даже поворачивать в мою сторону голову.
Справившись с тремя хитрыми гаражными замками, я отодвинул тяжёлую металлическую калитку и вошёл. Я ткнул в кнопку старого выключателя, и на стенах загорелись жёлтые лампы накаливания. Взгляд сразу упёрся в то, что я искал. Пыльный деревянный ящик стоял на верхней полке стеллажа. Забравшись на облезлую табуретку, я с трудом до него достал. В носу защекотало от пыли, и я едва не свалился, оглушительно чихнув.
Коробка была довольно тяжёлой, и я решил перебрать старые бумаги прямо в гараже, чтобы не тащить всё домой. Я осторожно вытаскивал по одному листочку, внимательно рассматривал и клал на край стола. Пока единственный вывод, который я смог сделать – почерк у людей раньше был лучше.
Я начинал уставать, но следующая находка меня подбодрила. Мне повезло – я держал в руках свидетельство о смерти Тереньтева Василия Сергеевича. Теперь я знал, что появился он на свет в тяжелый семнадцатый год, когда прогремела революция. А погиб он восемнадцатого августа семьдесят третьего года близ Баку в авиакатастрофе на самолете Ан-24Б.
Я покачал головой. Человек родился всего около сотни лет назад, умер недавно, а такое ощущение, будто я ищу затерянную пирамиду древнего фараона.
Вскоре я выудил старый конверт, где отправителем значился мой прадед. Чернила слегка потускнели, но всё же хорошо читались. И штамп с датой стоял – февраль сорок шестого. Так что адрес, где жил прадед после войны у меня был. Интересно, стоит ли ещё деревушка? Или сгинула, как десятки других под напором урбанизации?
Следующие две бумаги заставили меня замереть. Я даже почувствовал холодок, пробежавший по спине, а на руках, словно шерсть у ощетинившегося кота, поднялись волоски. Теперь у меня было целых три свидетельства о смерти! И везде значилось одно имя – Тереньтев Василий Сергеевич, год рождения – тысяча девятьсот семнадцатый. А вот дата и причина смерти – везде были разные. И ни семьдесят седьмого, о котором говорила бабушка, ни восьмидесятого, о котором сказал дед, я там не увидел.
Что ж, если у человека пять дат смерти, то расследование его жизни заслуживает внимания. Особенно, когда речь идёт о родном прадеде. И тут уже дело не в школьном домашнем задании.
Ещё мне удалось выяснить, что семья у прадеда появилась поздно, уже после войны. Это подтверждал и год рождения бабушки – тысяча девятьсот пятидесятый. Но в голове крутилась только одна мысль: «Как у человека может быть три свидетельства о смерти?»
Я отправил ящик обратно на полку и, закрыв гараж, понёс домой все бумаги хоть как-то связанные с Тереньтевым Василием Сергеевичем.
Я привык находить ответ на любой вопрос в интернете. Надеялся и сейчас узнать хоть что-нибудь. Часто, когда я спрашивал у отца что-то сложное, он хмурился и отвечал: «Иди в интернете глянь».
Я зашёл домой и включил компьютер. Ровно зашуршали вентиляторы, недовольно прокряхтел старый жёсткий диск. Начал я с самого простого – ввёл в поисковую строку ФИО прадеда и год рождения. Совпадений по имени было немало, но по году – ни одного.
Я достал пожелтевший конверт и ещё раз прочитал адрес. Что ж, попробуем узнать расположение деревни. Надеюсь, она не на другой стороне области. Иначе съездить туда будет проблематично. А поездку я планировал. Возможно, даже с ночёвкой. Где можно узнать о человеке больше, чем в родных местах? Хотя я и не знал, как на эту затею отреагирует мама, и ловит ли в тех краях мобильный телефон.
Судя по всему, деревня Луговая существовала. По крайней мере, карта на Яндексе это подтвердила. Я проложил маршрут и улыбнулся – ехать было всего-то сто двадцать километров. И ещё пару километров пешком. С вокзала каждый день отправлялись два-три маршрутных такси, которые проезжали мимо поселения. В следующие выходные и съезжу.
Я облазил два десятка сайтов, посвящённых сражавшимся в Великой Отечественной войне. В одном из списков я действительно нашёл солдата Тереньтева Василия Сергеевича тысяча девятьсот семнадцатого года рождения. Но ни фотографий, ни мест, в которых прадед сражался, на сайте не оказалось. Я с завистью посмотрел на других солдат, у которых были и фотографии, и регалии, и подробные жизнеописания до войны, во время неё, и после, если им посчастливилось вернуться домой. Что ж, ещё один повод подробно всё разузнать. Тогда и я смогу написать биографию прадеда и разослать по всем сайтам.
Скорее всего что-то есть в архивах, но у историков ещё не дошли руки до всех документов, а из родственников никто не интересовался жизнью прадеда. Вот и канул в небытие безвестности один из миллионов солдат. Я прочитал, что можно отправить запрос в Центральный архив Министерства обороны по почте, но ответ придёт лишь спустя год. Так долго ждать я не мог и не хотел. Хотя, в виде запасного варианта, попытаться стоило.
Зазвенели ключи, и послышались щелчки открываемого замка. Я подумал, что папа или мама пришли с работы пораньше, но, когда выглянул в коридор, там разувались бабушка и дедушка.
– Привет, Андрюшка, – сказала бабушка.
– Привет, баб Зин, – автоматически ответил я.
– Ставь чай, – сказал дед вместо приветствия. – Жара в сентябре, как в июле.
– Ещё и солнце злое, – поддакнула бабушка, – пока от магазина дойдешь – уморишься.
Дед у меня не воевал, но говорил всегда так, словно приказы отдавал. Я пошёл на кухню и поставил кипятиться воду. За чаем я предпринял последнюю попытку узнать что-то у бабушки с дедушкой о Василии Сергеевиче.
– Андрей, мы тебе рассказали всё, что знали. Твой прадед был скрытным человеком. Его к этому обязывала работа, – терпеливо объяснила бабушка. – Больше не приставай, не заставляй нас выдумывать того, чего мы не знаем.
– А фотографии есть?
– Да в зеркало посмотрись, ты вылитый он.
– Так учительнице и скажу, – усмехнулся я. – А о свидетельствах о смерти вы тоже ничего не знаете? У него их три.
– В семьдесят седьмом отец мой почил, царствие ему небесное.
– В восьмидесятом, – снова не согласился дед.
«И ещё в семьдесят третьем в авиакатастрофе», – подумал я. Допив чай, я ещё раз внимательно рассмотрел свидетельства. На втором было указано, что Василий Сергеевич погиб второго сентября тысяча девятьсот семьдесят пятого года при выполнении госзадания. То есть через два года после авиакатастрофы.
Дату на третьем свидетельстве отделяло почти семнадцать лет. Тереньтев пропал без вести двадцать седьмого июля девяносто второго года. Видимо, это была дата пропажи прадеда. Может, он до сих пор жив? Подумаешь, девяносто восемь лет. Нет ничего невозможного. У нас в подъезде живет бабушка – всего на два года младше Василия Сергеевича. И ничего, бодрая, каждый день в магазин бегает.
Голова пухла от цифр, загадок и нестыковок. Но с другой стороны я был рад – я чувствовал, что прикасаюсь к чему-то по-настоящему важному. С этими мыслями, я стал готовиться к поездке.
Глава вторая. Поездка
– Смотрю ты решил взяться за дело по-серьёзному, – провожая меня, сказал отец.
Мы стояли в прихожей, и я получал последние наставления от родителей.
– Не забывай, Андрей, тебе всего шестнадцать лет, – сказала мама строгим тоном, словно после этой фразы я испугаюсь и останусь дома.
– Всё нормально, мам, не переживай, – ответил я, – как сяду в маршрутку – позвоню, и как доеду – тоже, если связь будет.
– Надеюсь будет, – вздохнула мама.
Я закинул на плечи рюкзак, где из вещей лежали ветровка, если вдруг похолодает, мощный фонарь, толстый блокнот и две ручки. Остальное – еда и вода. Я открыл дверь и сказал:
– Пока. А то опоздаю.
– Счастливо, – сказал отец и пошёл в комнату.
– Позвони, – ещё раз сказала мама и закрыла за мной дверь.
До автовокзала я доехал на троллейбусе. Возле нужного мне микроавтобуса уже собирались люди. Я купил билет и тоже встал в небольшую очередь. Люди поглядывали на водителя, которому предстояло в ближайшие пару минут уничтожить четыре жирных пирожка и бежевую жидкость в пластиковом стаканчике, по ошибке называемую кофе.
Заняв место, я, как и обещал, позвонил маме. Ещё минут десять мы ждали последнего пассажира, затем машина мягко стронулась и покатила прочь из города.
Вскоре старые дома сменились новостройками, блеснул и пропал из виду стеклянный торговый центр, дорога сузилась, машин стало меньше. Последним зданием был старый заброшенный завод, мрачно встречающий и провожающий всех гостей и жителей города. Потянулась однообразная степь, разрезанная дорогой и полосами лесопосадок.
Не прошло и полтора часа, как водитель спросил:
– Деревня Луговая выходят же?
– Да, – откликнулся я.
Вскоре я увидел поворот направо – сразу за ним микроавтобус и остановился. Я вышел и около километра шёл по дороге, выложенной бетонными плитами. По краям бетонка растрескалась и осыпалась, местами виднелась ржавая арматура. Дальше дорога и вовсе превратилась в утрамбованную щебёнку.
Я достал телефон и посмотрел на индикатор связи – он был на единичке, сигнал едва-едва пробивался сквозь многие километры, отделяющие меня от ближайшей базовой станции. Не надеясь на связный разговор, я отправил маме сообщение: «Доехал хорошо. Связь плохая. Всё нормально».
Деревня была небольшой, в полсотни домов. На полянке паслось двое телят, привязанных длинными верёвками к кольям, щипал траву стреноженный конь, в тени дерева спал лохматый, видавший виды пёс.
Сверившись с адресом, я быстро нашёл дом прадеда. Он стоял ухоженный, недавно покрашенный, с двумя новыми листами шифера на крыше. «Продали, похоже, домик», – подумал я. Правда двор весь сорняком зарос.
Я толкнул калитку – та оказалась открытой, и подошёл к двери. Не найдя звонка, я трижды постучал. Тишина. Я постучал сильнее, но никто так и не открыл. Похоже, никого не было дома. У одного окна отвалился ставень, и я бессовестно заглянул в просвет. По слою пыли, отсутствию лампочек и каких-либо видимых следов выходило, что в доме никто не живёт!
Может, кто-то только собирается в него переехать и решил обновить жилье вначале снаружи, а уж потом заняться порядком внутри? Я усмехнулся. Даже дом прадедушки, в котором он жил семьдесят лет назад, оказался со странностями.
Я вздрогнул, услышав голос:
– Внучок, ты ищешь кого?
Я оглянулся. За забором стояла бабушка не старше моей.
– Здравствуйте, вы не знаете, чей это дом?
– Да ничей.
– А кто ж его покрасил? – удивился я.
– Да кто ж его разберёт? – разведя руками, ответила бабушка. – Вон и крышу подлатали. Сами удивляемся. А ты кто будешь? Приехал к кому?
– Мне бы с кем постарше поговорить, кто пятидесятые годы помнит, – сказал я, выходя со двора. – У меня здесь прадед жил.
– Баба Валя у нас тридцать пятого года, – задумчиво произнесла бабушка, – а баба Маша и вовсе двадцать шестого. Может, чего и вспомнит… есть ещё старики, но они уже позже в Луговую приехали.
Я думал, что мне придётся идти по деревне, стуча в каждую дверь, но бабушка показала мне на два дома, куда стоило зайти.
– Спасибо, бабуль, большое, – сказал я.
– Да не за что, внучок, – ответила она, – дай Бог чего узнаешь.
Я оглянулся на дом прадеда – мне очень хотелось попасть внутрь. Но я решил вначале поговорить с его односельчанами, может они мне и разрешат потом заглянуть в подновлённый ничейный дом. Я решил сперва пойти к той бабушке, что помладше.
Мне повезло – бабушка сидела на лавке перед домом, рядом с ней вилось четыре кота: один чёрный и три рыжих.
– Здравствуйте, баб Валь, – сказал я, – я правнук Тереньтева Василия Сергеевича. Помните такого?
Бабуля пригляделась ко мне подслеповатыми глазами и вынесла вердикт:
– Похож.
– Пожалуйста, расскажите мне о нём.
– Да что тут рассказывать? Помню только, что пришёл Василий Сергеевич зимой, в шинели и с большим рюкзаком, – сказала баба Валя, – потом целый месяц каждый день всех детишек конфетами угощал. Я его побаивалась, но за конфетами всё равно бегала.
– А потом?
– А что потом? Жил себе, работал. А в сорок седьмом, мне тогда двенадцать было, в город стал мотаться. Там вроде как женился и остался. Ты лучше к бабе Маше сходи – она больше помнить должна.
– Спасибо, – сказал я, собираясь уйти.
– А тебе зачем? – прищурившись ещё сильнее, спросила бабушка.
– Интересно, – пожал плечами я, – да и в школе задание дали о предках своих разузнать – как жили, кем были.
– Это хорошо, – покивала баба Валя, – корни свои надо помнить. Ну беги вон в тот дом, пока баб Маша спать после обеда не улеглась.
– Ещё раз спасибо, – сказал я и пошёл ко второму очевидцу жизни прадедушки.
К бабе Маше стучаться пришлось долго.
– Входи, – услышал я негромкий старушечий голос.
Я толкнул дверь и застыл на пороге.
– Здравствуйте, баба Маша, я правнук Тереньтева Василия Сергеевича, можете мне о нём рассказать?
– Ты бы принёс водички, а то мне тяжело, – сказала бабушка, показывая мне на два ведра, – колодец видел?
– Да, – кивнул я, хватая старые эмалированные вёдра.
– Возвращайся, чай будем пить.
С непривычки провозившись минут пять с колодцем, я всё-таки принёс бабуле воды и поставил чайник. Затем достал из рюкзака бутерброды и два куска пирога.
– Помню, как он пришёл домой в конце сорок пятого, под самый новый год, – не торопясь поведала баба Маша, когда мы сели за стол. – Война кончилась, а его всё не было. Думали – погиб, пропал, ан нет, вернулся.
– А здесь война была? – спросил я.
– Бомбили пару раз нашу деревушку, бомбили. Мы-то в погребах попрятались, а вот дома разворотило. Кому крышу пробило, кому стену снесло, а с десяток домов до угольков прогорели. Но дом Василия беда миновала, словно Бог ладонью накрыл.
– Интересно, как прадед жил, – вздохнул я, думая о доме.
– Ну зайди, там всё как было, так и стоит, – разрешила бабушка, – дом, поди, так и числится за Тереньтевым.
– Он его не продал, не отдал? – удивился я.
– Так он же приезжал потом в Луговую, и не раз – тянуло в родные места, – чуть наклонив голову вбок, значительно произнесла баба Маша. – Побродит денёк-другой, переночует, и снова на год-два пропадёт. Это даже когда матери его не стало.
– А не помните, когда он последний раз приезжал?
– Давно, – махнула рукой баба Маша, – не упомню уже. Только непонятно, кто крышу у дома подновил да краску на него потратил. Не ты случаем?
Я покачал головой.
– А до войны он чем занимался? – продолжал я сыпать вопросами. Бабе Маше, похоже, моё внимание льстило. – Когда в армию ушёл?
– Чем занимался? Наверное, как все – в школу ходил, пахал вместе с родителями в огороде да на полях. Он же старше меня был, не видела я его толком. А как в армию уходил – помню, – баба Маша ненадолго замолчала, словно восстанавливала в голове мозаику прошлого, – я уже начальную школу окончила, тридцать восьмой год был, вот тогда его в армию и проводили. Больше семи лет в Луговой не был, а когда вернулся – я такой невестой была, – баба Маша вздохнула, взгляд её затуманился видениями семидесятилетней давности, – а он, гад такой, так на меня и не клюнул, царствие ему небесное.
Я засмеялся, баба Маша улыбнулась щербатым ртом. Мы замолчали. Бабушка съела кусок пирога, а я разделался и с пирогом, и с бутербродами.
Я встал.
– Спасибо за чай, за рассказ, – сказал я, – пойду дом посмотрю.
– Маме спасибо за пирог передай.
– Хорошо, – улыбнулся я, – до свидания, баба Маша.
Я вышел на улицу и зашагал обратно к дому прадеда. Из-за больших огородов улица была широкой, а дома стояли далеко друг от друга.
К незнакомцам здесь не привыкли; все жители, которых я встречал, смотрели с подозрением, а я приветливо здоровался. Были и те, кто уже прознал о цели моего визита – они кивали мне с улыбкой.
Второй раз во двор я зашёл увереннее. Я толкнул дверь – она не поддалась, я толкнул посильнее – послышался протяжный скрип старых несмазанных петель. Я сцепил зубы и передёрнул плечами – звук был неприятным, словно кто-то провёл ногтём по стеклу.
Я переступил порог и притворил дверь. Внутри дома пахло порохом и пеплом, будто здесь сохранился воздух, когда рядом разрывались бомбы. Мне стало не по себе. Я шагал медленно, привыкая к полумраку. Хоть день и был в самом разгаре, сюда свет проникал только через щели между ставень и единственное окно, где ставня слетела с петель.
Я хотел открыть окна, но, вспомнив, что у меня с собой фонарь, решил оставить дом в покое. Луч высветил кухню со старым растрескавшимся столом, чугунным умывальником и навесным шкафом для утвари. Я прошёл по короткому коридору и остановился около дверных проемов. Я заглянул в один – большая комната была пуста. Побелка с потолка и стен осыпалась, покрыв пол вместе с пылью удушающим бело-серым ковром. Зато в другой комнате стояли кровать, стол, шкаф и сундук. Стены когда-то давно обклеили бумажными обоями, которые за годы пожелтели и отстали по углам.
Пыли здесь было меньше, а в половинку окна, в которую я заглядывал с улицы, врывался полуденный свет. Во рту пересохло, когда я перевёл взгляд на кровать. На матрасе виднелся след, будто на нём кто-то недавно лежал. Я посмотрел на шкаф и застыл, словно поджидая, что из него появится призрак.
На одеревеневших ногах я подошёл к шкафу, вытянул руку и резко распахнул. Меня обдало облаком пыли, закачалась паутина, и я вздохнул с облегчением – шкаф был совершенно пуст.
Я заглянул в ящик стола, в сундук, под кровать, но нигде не было ни одной вещи, которая могла бы мне хоть что-то рассказать о прадедушке. При этом какое-то странное чувство не давало мне уйти, меня будто кто-то держал, просил ещё немного подумать.
Я отодвинул стол и потопал по половицам, простучал стену. Немного отодвинул шкаф и кровать. Если у человека пять дат смертей – у него могут быть и другие секреты. Да, я узнал, что в армию Василий Сергеевич ушёл в тридцать восьмом, а вернулся в сорок пятом, но я ждал большего от этой поездки! Не хотелось возвращаться ни с чем.
Я приподнял со всех сторон матрас, защекотало в носу, и я дважды чихнул. С трудом отодвинул сундук из толстого лакированного дерева и начал стучать ногой об пол. Одна из половиц ухнула вниз и ударила меня по колену. Я вскрикнул больше от неожиданности, чем от боли, и присел на кровать, потирая ушибленное место.
Я аккуратно подошел к провалившейся половице и вытащил её. Под ней лежала закрытая металлическая коробка. Сердце заколотилось, я едва дышал – неужели я нашёл тайник?! Я поднял жестяную крышку и подумал: «Теперь я точно многое узнаю». В коробке лежало шесть рукописных брошюр и губная гармошка.
Глава третья. Из Польши в Бессарабию
В первую секунду, из-за названий книг, я подумал, что передо мной дневники путешествий прадедушки, но увидев даты: тридцать девятый, сороковой, сорок третий года; имена лидеров СССР и Германии – Сталина и Гитлера, слова «наступление», «оборона», «война», я понял, о чём пойдет речь. Мой прадедушка был самым настоящим очевидцем Второй мировой войны. Кажется, меня ждало что-то занимательнее сорокаминутного классного часа в школе на тему «Сталинградская битва».
Я открыл первый дневник с названием: «Из Польши в Бессарабию» и принялся читать.
1 сентября 1939 г.
Начинаю дневник сегодня – в первый день осени. Осень наступила и в душах людей – во всём мире чувствуется страшное напряжение: исчезла Чехословакия, Япония воюет с Китаем, мы воюем с Японией в Монголии, девять дней назад СССР с Германией подписали пакт о ненападении, а я считаю – всё это торговля и игры политиков. Не зря же Сталин говорит: «Взаимное недоверие – хорошая основа для сотрудничества», но это только для них. Здесь, среди солдат, так нельзя.
Мы с Брониславом и Митькой успели побывать в Монголии, но на передовую не попали. И слава Богу. Тяжело воевать, когда не понимаешь за что. Хотя Броник и Митя воюют за Сталина – им плевать куда их пошлют, лишь бы в интересах Иосифа Виссарионовича. Вот и сидим мы теперь здесь, около Польши, ждём приказа из Москвы и присматриваемся. Особенно я, по долгу службы.
Сегодня Германия вторглась в Польшу, и Европа поняла – её захлестнула война. Хотя некоторые, Италия, Швеция и Швейцария, сегодня же объявили о своём нейтралитете. Весь август немецкое население в западной Польше подвергалось несправедливым нападкам, и Гитлер не оставил это без внимания. Не хочу даже думать, что из этого выйдет. И когда в игру заставят вступить нас.
Броник зовёт играть в шахматы. Сейчас я его вздую.
Не вздул.
3 сентября 1939 г.
Великобритания и Франция вступили в войну с Германией. В тот же котёл с кипящей смолой нырнули Австралия, Индия и Новая Зеландия. А мы по-прежнему сидим у границы с Польшей. Митька уверен, что нас погонят на передовую через неделю, Броник настаивает на двух. А я по-прежнему пытаюсь выиграть у Бронислава в шахматы.
5 сентября 1939 г.
Ура! Я выиграл партию у Броника! Но есть ложка дёгтя – Митька уверен, что я смухлевал. Узнали, что США объявили о нейтралитете в германо-польской войне, а Япония и вовсе пообещала никаким образом не лезть в войну в Европе.
7 сентября 1939 г.
Четыре дня понадобилось Франции, чтобы перейти в наступление на пограничную землю Германии – Саар. Видимо, не особенно-то французы хотят защищать Польшу. Оно и понятно – Польша интересна Германии и СССР. У них там Данциг с немцами, у нас – западная Белоруссия и Украина.
Красная Армия каждый день растёт – В СССР началась частичная мобилизация. Мы стоим лагерем, никуда не двигаемся, от шахмат уже башка болит. Перешли на шашки, пока Сталин ждёт, что Германия ослабит всю Европу, и нам будет выгодно ввязаться в войну.
10 сентября 1939 г.
Канада с другой стороны планеты объявила Германии войну. А Митька спор проиграл – мы по-прежнему не воюем.
14 сентября 1939 г.
Вчера немцы оккупировали Варшаву, а сегодня газета «Правда» уже написала: «Польское государство оказалось настолько немощным и недееспособным, что при первых же военных неудачах стало рассыпаться». Думаю, им не оставили выбора.
15 сентября 1939 г.
Сегодня нас муштровали. Многих вне очереди отправили на полевые кухни. Как сказал Броник: «Конец нашему безделью. Расслабились, и хватит».
17 сентября 1939 г.
Броник попал в точку. Сталин объявил о предстоящем походе в Польшу, а в 6 утра мы начали вторжение. Тысячи солдат пересекли границу пешком, мы же ехали претворять в жизнь совместное решение Сталина и Гитлера верхом на мотоцикле. Лидеры решили, что польское государство показало свою несостоятельность и не должно больше существовать.
21 сентября 1939 г.
Тяжело. Воюем под Пинском. Поляки здесь – настоящие бойцы. О безропотной капитуляции не идёт и речи. Другие города сдаются один за другим. Мне, Бронику и Митьке, как всегда, «повезло».
22 сентября 1939 г.
Немцы захватили Брест, а сегодня их генерал Гейнц Гудериан передал его нашему комбригу Семёну Кривошеину по условиям договора о разделе Польши. Даже совместный парад советских и немецких войск устроили – Европа, судя по радиовещанию, обескуражена таким союзом.
В «Правде» трёхдневной давности прочитал, что мы взяли под защиту родственное белорусское и украинское население. Стрельба продолжается, я сам сегодня пулю чуть не словил, а значит о победе говорить пока рано.
По радио новости удаётся узнать быстрее. Тем более моим радиоприёмником удается поймать вещание многих стран: и СССР, и Великобритании, и Франции, и, конечно, Польши – узнаю много интересного.
В двухстах километрах проходит парад, а мы не можем взять Пинск – позор нам и слава полякам. Двух красноармейцев взяли в плен, есть убитые и раненые. Ждём завтра подкрепления.
23 сентября 1939 г.
Заняли Пинск после трёх дней ожесточённых боев. Пленных удалось отбить – ребята живы. А сами взяли в плен 205 поляков. Справились, чёрт возьми.
25 сентября 1939 г.
Немцам надоело ждать, когда оккупированная Варшава сдастся, и они провели безжалостную бомбардировку. Пожалуй, это первая бомбардировка крупного города в истории Европы. Да, война стала другой. Ещё быстрее, ещё злее, и масштабнее. Даже не представляю, какая цель может оправдывать такие средства.
28 сентября 1939 г.
После бомбардировок Варшава сдалась, и мир узнал о советско-германском Договоре о дружбе. Ещё бы! Поделили Польшу, словно пирог.
Что ж, продержаться месяц, когда ты в тисках Германии и СССР – неплохо; тем более реальной помощи от союзников поляки так и не дождались: ни от Франции, ни от Англии. Так, болтовня одна. Мы же взяли под защиту своих братьев, а Данциг с немецким населением теперь под крылом Третьего рейха. Есть надежда, что на этом война и закончится. Тем более СССР и Германия совместно выступили за то, чтобы Англия и Франция прекратили военные действия.
Людей погибло – кошмар. Только у нас больше семисот человек убитыми, а в Варшаве от бомбардировок десять тысяч сгинуло, и это не солдаты, как мы, которые знают, что в любой день могут поздороваться со смертью, а женщины, дети, старики… эх, весь город, поди, в руинах.
1 октября 1939 г.
Сегодня по радио командующий флотом Великобритании, а если по их: Первый лорд Адмиралтейства, Уинстон Черчилль заметил: «То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует, и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать…».
Наша дивизия стоит и ждёт, когда нас отправят разбираться с другими конфликтами. Настроение у солдат отличное, немцев никто не боится, но и союзниками их мало кто считает. Лично мне оставаться до конца службы в Польше очень не хочется. Скука и разруха здесь. Но оставят здесь многих, это и ежу понятно. Недавно захваченные приграничные земли только дурак бросит без присмотра.
Ладно, хватит. На войне обсуждать войну хочется меньше всего. У нас передышка и у Броника снова есть время раз за разом разносить меня в шахматы. Когда же я поумнею? Главное Митька у него выигрывает, а я иногда выигрываю у Митьки, а у Броника – не могу. Нелогично. Буду думать.
7 октября 1939 г.
Вчера Гитлер, произнося шестичасовую речь в Рейхстаге (ужас, как ему удается столько болтать?), завёл речь о мирном урегулировании и о дружбе с Францией, но уже сегодня премьер-министр Франции отклонил это предложение. Недолго же они думали.
Покой всем только снится. Хотя, полагаю, Гитлер предложением «мира» хотел закрепить успех в Польше. Снова болтовня.
Ленюсь писать в дневник – иногда целыми днями ничего не происходит.
8 октября 1939 г.
Воеводства в Польше – это что-то вроде наших областей и краев. Так вот сегодня четыре воеводства полностью, а два частично включились в состав Германии. Неплохое расширение.
10 октября 1939 г.
Сегодня между СССР и Литвой подписан договор о взаимопомощи, и сразу же Литва получила хороший кусок Польши – крупный город Вильно. Я на их месте тоже бы подружился со Сталиным.
14 октября 1939 г.
Два дня назад премьер-министр Великобритании Чемберлен официально отклонил предложение Германии о мире, а сегодня немецкая подводная лодка потопила их линкор. Погибло больше восьмисот моряков – после такого ни о каком мире уже не может быть и речи.
19 октября 1939 г.
Война, похоже, пока что перешла в океан. Немецкие подлодки потопили больше тридцати судов. Митька думает, что их там полсотни, подлодок этих. Я не спорю, хотя знаю по своим каналам, что их всего лишь шесть.
30 октября 1939 г.
Британия могла остаться без военно-морского министра. Подлодки Германии успели и здесь. Линкор «Нельсон» трижды торпедировали, когда на нём находился Уинстон Черчилль. Но то ли промахнулись, то ли взрыватели не сработали, но трагедии для Англии не случилось.
1 ноября 1939 г.
Наша огромная страна стала ещё больше – сегодня Западную Украину и Западную Белоруссию включили в состав СССР. У солдат поднялось настроение – почувствовали, что сражались не зря. Все судачат о том, что Сталин, по-видимому, хочет вернуть все земли, которые раньше принадлежали Российской Империи. Зная товарища Сталина, за ценой он не постоит. Но на то мы и солдаты – служим интересам Родины.