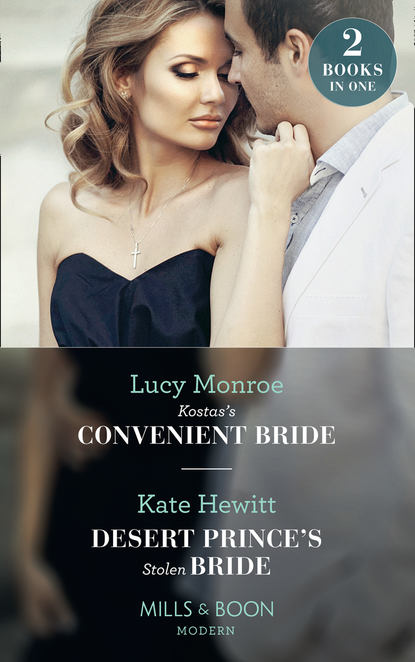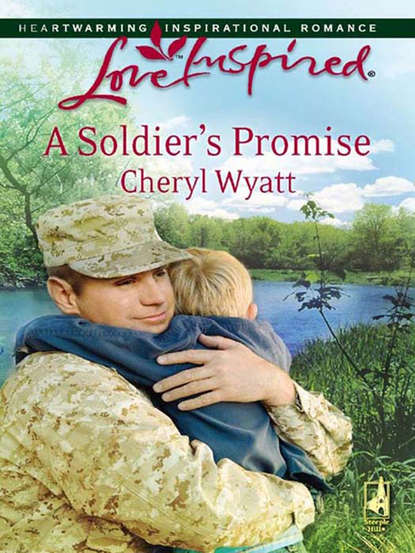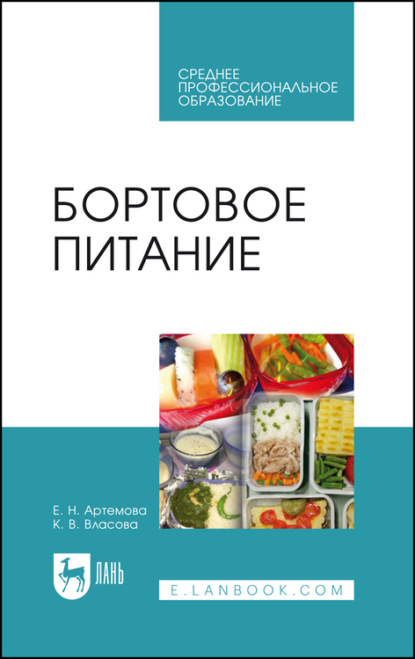- -
- 100%
- +
Нужно наконец набраться мужества и честно ответить себе на этот вопрос, отбросив все самообманы, все религиозные оправдания, все церковные объяснения неудач действием дьявола или недостаточностью веры. Христианство для подавляющего большинства его исповедников является мучением – мучением неотвеченных молитв, которые возносятся годами и десятилетиями в пустоту молчащих небес; мучением недостижимых заповедей, которые осуждают каждую мысль, каждое желание, каждый порыв естественного человеческого существования; мучением отсутствия обещанных плодов Духа, которые должны были бы проявиться в любви, радости, мире, но вместо этого верующий обнаруживает в себе те же гнев, уныние, тревогу, что терзали его до обращения, только теперь к ним добавляется еще и религиозное чувство вины за саму неспособность испытать обещанное преображение.
Это мучение продолжающейся борьбы с теми же грехами, которые должны были быть побеждены силой благодати, но вместо этого продолжают одерживать победу за победой, несмотря на все молитвы, все покаяния, все таинства, все духовные упражнения. Это мучение жизни в постоянном напряжении между идеалом святости, провозглашаемым с церковных кафедр, и реальностью ежедневных падений, которые не прекращаются, не уменьшаются, не теряют своей силы с годами христианского стажа. Это мучение наблюдения за собственной жизнью и жизнью других верующих, где не видно того кардинального отличия от неверующих, которое должно было бы свидетельствовать о действии Божественной благодати в человеке.
Это мучение церковной среды, где под маской любви скрывается осуждение, под покровом единства – раздоры, под видом смирения – гордыня, под именем святости – лицемерие. Это мучение необходимости притворяться счастливым, когда душа изнывает от тоски, изображать радость, когда сердце сжимается от уныния, свидетельствовать о преображающей силе Евангелия, когда собственная жизнь демонстрирует отсутствие всякого преображения. Это мучение слушать проповеди о победе над грехом, зная, что эта победа ускользает от тебя так же, как и от проповедника, который через неделю будет пойман в том самом грехе, против которого громил с кафедры.
И перед лицом этого мучения, перед лицом этой честной оценки реального состояния христианской жизни, возникает каскад вопросов, каждый из которых подобен удару молота по фундаменту веры. Может, так и должно быть? Может, это и есть тот скорбный путь, который обещал Христос? Может, тесные врата ведут именно в это пожизненное страдание, в эту борьбу без побед, в это напряжение без разрешения? Может, слова о радости и мире были поэтическим преувеличением, метафорой будущего блаженства, но не описанием реальности настоящего опыта? Может, обещания Нового Завета относятся к грядущему веку, но не к этой жизни, где христианин обречен влачить существование не лучшее, а часто худшее, чем у неверующих?
Или проблема во мне? Может, я недостаточно верую, недостаточно каюсь, недостаточно молюсь, недостаточно стараюсь? Может, если бы я приложил больше усилий, отдал больше времени духовным упражнениям, глубже погрузился в аскетические практики, строже относился к себе, то обрел бы наконец то преображение, которое ускользает от меня сейчас? Но тогда возникает новый вопрос: если спасение и преображение зависят от степени моих усилий, то где же благодать? Где то действие Божие, которое должно производить в нас и хотение, и действие по Его благоволению? Не возвращаемся ли мы таким образом к пелагианству, которое церковь осудила как ересь?
Или проблема в той церкви, в той традиции, в той деноминации, которая объяснила мне, что такое христианство? Может, православие исказило евангельскую весть своим учением о синергии и обожении? Может, католицизм извратил ее своей системой индульгенций и чистилища? Может, протестантизм обеднил ее своим рационализмом и морализмом? Может, пятидесятничество профанировало ее своими эмоциональными эксцессами и шарлатанством? Но если каждая традиция исказила Евангелие по-своему, то где находится истинное христианство? И как распознать его среди множества конкурирующих интерпретаций, каждая из которых претендует на исключительное обладание истиной?
Или проблема глубже – в самом Боге? Может, Он не есть любовь, как провозглашает Писание, но жестокое божество, наслаждающееся страданиями Своих созданий? Может, все разговоры о Его благости – лишь религиозная пропаганда, скрывающая истинную природу космического тирана, который требует поклонения под угрозой вечных мук? Но эта мысль приводит к бездне, страшнее которой трудно вообразить – к миру, управляемому злым богом, где добро – лишь иллюзия, а зло – подлинная реальность.
Или, наконец, проблема в самом Писании? Может, Библия была извращена поздними редакциями, как утверждают некоторые критики? Может, не тому и не так учил Иисус из Назарета, как это понял граф Толстой, который отредактировал Евангелие, убрав из него все сверхъестественное и оставив лишь моральное учение? Может, апостол Павел исказил простое учение Христа о любви и прощении, превратив его в сложную богословскую систему греха, искупления и благодати? Может, церковь на протяжении веков постепенно удалялась от первоначальной чистоты евангельской вести, добавляя доктрины и ритуалы, которые затемнили простоту истины?
Хватит прятать голову в песок, хватит утешать себя благочестивыми клише, хватит повторять церковные формулы, не соответствующие опыту. Нужно посмотреть правде в глаза, какой бы болезненной она ни была: христианин в подавляющем большинстве случаев – это несчастный, жалкий человек. Жалкий физически – его тело страдает от тех же болезней, что и у неверующих, несмотря на обещания о божественном исцелении. Жалкий психически – его душа терзается теми же тревогами, депрессиями, неврозами, что мучают и атеистов, только к этому добавляется еще бремя религиозной вины. Жалкий духовно – его дух не знает того мира и радости, которые обещает Евангелие, но пребывает в постоянном напряжении между идеалом и реальностью. Жалкий интеллектуально – его разум парализован необходимостью верить в доктрины, противоречащие наблюдаемой реальности, в обещания, не находящие подтверждения в опыте, в систему координат, которая не работает.
А я? Я среди них? Нахожусь ли я в этой массе несчастных, притворяющихся счастливыми, мучающихся, изображающих радость, терпящих поражения, провозглашающих победу? Или я принадлежу к тому ничтожному меньшинству, которое действительно обрело то, что обещает Евангелие? Но если я принадлежу к этому меньшинству, то почему я вижу в себе те же проблемы, те же борения, те же неразрешенные конфликты, что терзают и остальных? А если я не принадлежу к этому меньшинству, если я часть несчастного большинства, то что делать? Продолжать ли это жалкое существование в тусклой надежде, что "с краешку рая посадят", потому что церковь записочки за меня подаст?
Оставить ли все это – веру, церковь, молитвы, надежды на преображение – и признать, что это была ошибка, иллюзия, самообман? Вернуться ли к обычной жизни, которая, возможно, не обещает вечного блаженства, но по крайней мере не наполняет существование постоянным чувством вины и недостаточности? Или продолжать идти этим путем, несмотря на отсутствие видимых результатов, несмотря на мучения, несмотря на разрыв между обещаниями и реальностью, в слепой надежде, что где-то в конце пути, за гранью смерти, все это обретет смысл и оправдание?
Или – и это третья возможность, самая пугающая и самая притягательная одновременно – может быть, проблема заключается в фундаментальном непонимании того, что́ есть христианство, что́ есть возрождение, что́ есть новое творение? Может быть, церкви на протяжении веков проповедовали ложное евангелие, подменив благую весть системой религиозного контроля, заменив свободу во Христе новым рабством под законом, исказив простоту истины сложностью доктрин? Может быть, Писание говорит о чем-то совершенно ином, чем то, что мы слышали с церковных кафедр? Может быть, обещания Нового Завета истинны, но мы не понимали, о чем они на самом деле говорят?
Эти вопросы – не риторические упражнения, не богословские спекуляции, но вопросы жизни и смерти, вопросы, от ответа на которые зависит либо продолжение мучительного существования в религиозной клетке, либо освобождение к подлинной жизни, какой бы она ни была. Честность перед этими вопросами – первый шаг к их разрешению. Именно эта честность, болезненная и пугающая, но необходимая, привела меня к переосмыслению всего, что я знал о христианстве, к погружению в забытые пласты церковной истории, к открытию богословских истин, скрытых под напластованиями традиции. То, что открылось в результате этого поиска, и составляет содержание следующих глав этой книги.
1. Виноват человек?
В бесконечном хороводе церковных проповедей и душепопечительских бесед вращается одна и та же истина, избитая до блеска монеты, стертая от постоянного употребления, но не теряющая своей разрушительной силы: проблема в тебе. Как мантра звучит это обвинение с амвонов и кафедр, из уст старцев и наставников, со страниц духовной литературы и в личных беседах с пастырями. Недостаточно веры – вот твоя беда. Недостаточно решимости – вот корень падений. Недостаточно усердия в молитве, недостаточно строгости в посте, недостаточно ревности в служении, недостаточно любви к Богу, недостаточно ненависти к греху, недостаточно, недостаточно, недостаточно…
Эта теология недостаточности пронизывает христианское сознание подобно яду, медленно парализующему волю и убивающему надежду. Верующий приходит к духовнику с простым вопросом: почему я не испытываю обещанной радости? Почему мир Христов не наполняет мою душу? Почему грех продолжает одерживать победы, несмотря на годы борьбы? И получает ответ, отточенный веками пастырской практики: ты недостаточно стараешься. Молись больше – не пять минут утром, а час. Постись строже – не среду и пятницу, а еще и понедельник. Читай Писание усерднее – не главу в день, а три. Посещай богослужения чаще – не только воскресную литургию, но и всенощное бдение, и акафисты, и молебны.
Словно алхимик, пытающийся превратить свинец в золото добавлением все новых ингредиентов, христианин бросается исполнять предписания. Он встает в четыре утра для келейного правила, простаивает часы на коленях, изнуряет тело постом до головокружения, заучивает псалмы наизусть, совершает земные поклоны до боли в спине. И что же? Приходит ли обещанное преображение? Нисходит ли благодать, как роса на руно Гедеоново? Воцаряется ли в душе тот мир, который превыше всякого ума? Увы! Чаще всего к прежним проблемам добавляются новые: физическое истощение от чрезмерной аскезы, психическое напряжение от постоянного самоконтроля, духовная гордыня от мнимых достижений, или, напротив, отчаяние от очевидных неудач.
И тогда духовник, видя неудачу первого рецепта, выписывает второй, еще более радикальный: проблема не в количестве усилий, а в их качестве. Ты молишься, но без внимания – вот почему молитва не доходит до Бога. Ты постишься, но с ропотом – вот почему пост не приносит плода. Ты читаешь Писание, но без размышления – вот почему Слово не преображает твою жизнь. Нужна не просто молитва, а "умная молитва", не просто пост, а "духовный пост", не просто чтение, а "духовное чтение".
Начинается погоня за неуловимым качеством, за той таинственной "правильностью", которая должна открыть врата благодати. Христианин изучает святоотеческие трактаты о молитве, пытаясь постичь секрет "внимательной молитвы". Он экспериментирует с дыхательными техниками исихастов, сводит ум в сердце, борется с помыслами, отслеживает движения души с параноидальной дотошностью. Каждая молитва становится полем битвы за "правильное" состояние сознания, каждое богослужение – экзаменом на духовную собранность.
Но чудо не происходит. Более того, попытки достичь "качественной" духовной жизни часто приводят к полному параличу. Молитва, которая раньше текла естественно, пусть и "неправильно", теперь застревает в горле, задушенная самоанализом. Простая радость от чтения Евангелия сменяется мучительным копанием в греческих подлинниках и святоотеческих комментариях. Непосредственное чувство присутствия Божия растворяется в тумане богословских концепций и мистических техник.
И здесь церковная педагогика наносит свой коронный удар: проблема в твоем сердце. Не в недостатке усилий, не в неправильной технике, а в фундаментальной испорченности твоей природы. Ты не можешь приблизиться к Богу, потому что любишь грех больше, чем святость. Ты не получаешь благодати, потому что в глубине души не хочешь ее получить. Твои молитвы не услышаны, потому что ты молишься с нечистым сердцем, твои посты не приняты, потому что постишься из тщеславия, твои добрые дела не засчитаны, потому что совершаешь их не из любви к Богу, а из страха наказания или желания награды.
Этот приговор сокрушителен, как удар кузнечного молота. Человек оказывается в экзистенциальном тупике: он должен очистить сердце, чтобы приблизиться к Богу, но очистить сердце может только Бог, к которому он не может приблизиться из-за нечистоты сердца. Круг замыкается, превращаясь в спираль, ведущую в бездну отчаяния. Чем больше христианин анализирует мотивы своих духовных усилий, тем больше нечистоты обнаруживает. Молитва о прощении грехов? Но она продиктована страхом ада – значит, эгоистична. Служение ближним? Но в нем есть желание одобрения – значит, тщеславно. Даже любовь к Богу оказывается загрязненной: не Бога ты любишь, а те блага, которые Он дает или обещает.
Подобно человеку, пытающемуся вытащить себя из болота за волосы, христианин предпринимает все более отчаянные попытки достичь той чистоты намерения, которая сделала бы его достойным благодати. Он кается в своих покаяниях, сокрушается о своих сокрушениях, осуждает свои осуждения самого себя. Каждый новый уровень самоанализа открывает новые глубины испорченности. Как археолог, раскапывающий древний город, он обнаруживает под каждым слоем греха еще более глубокий слой, и конца этим напластованиям не видно.
Святоотеческая литература, вместо того чтобы принести облегчение, лишь усугубляет мучения. Авва Пимен учит: "Если человек не возненавидит два дела, то не может стать монахом. Какие это дела? Покой плоти своей и тщеславие". Но как возненавидеть то, что составляет саму ткань человеческого существования? Преподобный Макарий Великий наставляет: "Душа, не почитающая себя грешнее всякой твари, не может принести истинного плода покаяния". Но как считать себя хуже убийцы, не совершив убийства, хуже прелюбодея, живя в чистоте, хуже богохульника, славя Бога?
Эта духовная акробатика, это насилие над естественным нравственным чувством приводит либо к полному отчаянию, либо к патологическому самообману. Одни, честно признавая свою неспособность достичь требуемого уровня самоуничижения, оставляют попытки духовной жизни, погружаясь в религиозный формализм. Другие, более "успешные", развивают в себе извращенную форму духовности, где психологическое самоистязание выдается за смирение, а невротическая фиксация на собственной греховности – за покаяние.
И над всем этим адским хороводом самообвинений и самобичеваний возвышается, как дамоклов меч, последнее и самое страшное обвинение: ты не имеешь достаточно веры. "Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас" (Лк. 17:6). Но смоковницы остаются на своих местах, горы не сдвигаются, больные не исцеляются, молитвы не исполняются. Значит, веры нет даже с горчичное зерно. Значит, то, что ты принимал за веру – самообман, то, что считал упованием – иллюзия, то, что называл доверием Богу – пустые слова.
Как выработать в себе эту неуловимую веру? Церковь предлагает парадоксальный рецепт: проси у Бога. "Верую, Господи! помоги моему неверию" (Мк. 9:24). Но если у тебя нет веры, то как ты можешь верить, что Бог услышит твою просьбу о вере? Если ты не доверяешь Ему настолько, чтобы сдвинуть гору, то как можешь доверить Ему создание в тебе этого доверия? Опять замкнутый круг, опять логическая петля, затягивающаяся на шее ищущего.
Некоторые пытаются решить эту дилемму волевым усилием: заставить себя верить, убедить себя в истинности обетований, внушить себе уверенность в Божьей любви. Но вера, произведенная самовнушением, рассыпается при первом же серьезном испытании. Болезнь не отступает после молитвы – где вера в исцеляющего Бога? Праведник страдает, а грешник процветает – где вера в справедливость Провидения? Молитвы годами остаются без ответа – где вера в то, что Бог слышит и отвечает?
Изощренная теология находит выход и здесь: Бог отвечает, но не так, как ты ожидаешь. Он не исцеляет тело, но укрепляет душу в болезни. Он не дает просимого, но дает нечто лучшее – возможность духовного роста через страдание. Он молчит не потому, что не слышит, а потому, что молчание – это тоже ответ, призыв к более глубокому доверию. Таким образом, любой опыт, даже самый негативный, интерпретируется как проявление Божьей мудрости и любви. Но это герменевтическое насилие над реальностью не приносит подлинного утешения. Сердце знает разницу между настоящим ответом и религиозной рационализацией его отсутствия.
И вот, после десятилетий такой "духовной жизни", христианин обнаруживает себя в состоянии полного изнеможения. Он перепробовал все рецепты, испытал все методики, изучил все техники. Он увеличивал количество усилий до предела физических возможностей, оттачивал качество до невротического перфекционизма, копался в мотивах до полного паралича воли. И что же? Где обещанное преображение? Где новое творение? Где свобода от власти греха? Где радость и мир во Святом Духе?
Церковь имеет готовый ответ и на этот вопль отчаяния: смирись. Признай свою полную неспособность. Откажись от попыток достичь чего-либо своими усилиями. Предай себя всецело в руки Божии. Но и это "окончательное" решение оказывается ловушкой. Как отказаться от усилий, не прилагая усилий к отказу? Как смириться, не впадая в гордость своим смирением? Как предать себя Богу, если само это предание требует акта воли, который ты, согласно учению, совершить не способен?
Замечательный пример этой духовной эквилибристики представляет учение о "синергии" – совместном действии Божьей благодати и человеческой воли в деле спасения. Православное и католическое богословие особенно настаивает на этой концепции, видя в ней золотую середину между протестантским "только благодатью" и католическим акцентом на заслугах. Но практическое применение этого учения превращается в изощренную пытку для совестливого христианина. Он должен действовать так, как если бы все зависело от него, но верить так, как если бы все зависело от Бога. Он должен прилагать максимум усилий, но не полагаться на эти усилия. Он должен бороться с грехом всеми силами, но помнить, что победа приходит только от Бога.
Эта духовная шизофрения, это раздвоение между действием и упованием, между усилием и отречением от усилия, разрывает душу на части. Христианин становится похож на канатоходца, пытающегося удержать равновесие между пропастью пелагианства (спасение делами) и бездной квиетизма (полная пассивность). Малейший крен в любую сторону грозит падением. Слишком много усилий – впадаешь в гордыню и самонадеянность. Слишком мало – в лень и нерадение. И где та точная мера, тот совершенный баланс, который угоден Богу?
Наблюдая эту картину духовных мучений, невольно задаешься вопросом: действительно ли Бог любви и милости установил такую изощренную систему требований и условий? Действительно ли Христос, говоривший "придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф. 11:28), имел в виду этот бесконечный лабиринт духовных техник и психологических самоистязаний? Действительно ли "благое иго" и "легкое бремя" заключается в этой невыносимой тяжести постоянной саморефлексии, самообвинения, самоуничижения?
История христианской духовности полна примеров того, как искренние искатели Бога доводили себя до полного нервного истощения, следуя этой логике "проблема в тебе". Лютер, прежде чем прийти к своему учению об оправдании только верой, довел себя до грани безумия постоянными исповедями, постами и самобичеваниями. Он исповедовался по несколько часов в день, стремясь припомнить и раскаяться в каждом греховном помысле, в каждом несовершенном движении души. И чем больше он копался в себе, тем больше греха обнаруживал, пока не пришел к полному отчаянию в возможности угодить Богу своими усилиями.
Святая Тереза из Лизье, почитаемая католической церковью как учитель Церкви, прошла через "темную ночь души", когда все ее духовные усилия казались тщетными, молитвы – неуслышанными, а вера – иллюзией. Она продолжала исполнять все предписания религиозной жизни, но внутри царила пустота и мрак. И церковь превозносит этот опыт как высшую форму духовности, как участие в страданиях Христа, как очищение души через оставленность Богом. Но что если эта "темная ночь" – не мистический опыт, а естественный результат невротической религиозности, доведенной до логического конца?
Преподобный Силуан Афонский, о котором уже шла речь, дошел до того, что Христос якобы явился ему и сказал: "Держи ум твой во аде и не отчаивайся". И это считается вершиной православной духовности – постоянно представлять себя в аду, созерцать вечные муки, жить в состоянии перманентного ужаса перед Божьим судом, балансируя на грани отчаяния. Если это путь к Богу любви, то как выглядит путь к богу гнева?
Церковь будет продолжать настаивать на том, что проблема в человеке, даже если это учение приводит к массовым неврозам, духовным кризисам и отпадению от веры тех, кто не выдерживает психологического давления. Она будет продолжать требовать невозможного – совершенной веры от неверующего, чистой любви от эгоиста, полного смирения от гордеца – и обвинять человека в неспособности дать то, что требуется. Она будет продолжать предлагать благодать как лекарство, но обуславливать ее получение такими условиями, которые больной выполнить не в состоянии.
Этот порочный круг, эта уловка загоняет искреннего искателя истины в тупик. Он подобен больному, которому говорят: "Лекарство есть, и оно бесплатно, но чтобы его получить, ты должен сначала выздороветь". Или узнику, которому обещают: "Ключ от темницы твой, но он находится снаружи – выйди и возьми его". Абсурдность ситуации очевидна, но церковь облекает ее в такие возвышенные богословские формулировки, окружает таким ореолом святости и традиции, подкрепляет такими ссылками на Писание и святых отцов, что верующий начинает сомневаться не в системе, а в собственной способности ее понять и правильно применить.
И вот христианин, измученный годами безуспешных попыток, стоит перед выбором. Либо продолжать биться головой о стену, надеясь, что когда-нибудь стена рухнет или голова пробьет в ней брешь. Либо признать поражение и либо уйти из церкви совсем, либо остаться в ней как номинальный член, исполняющий внешние обряды без внутреннего участия. Либо – и это самый опасный путь – убедить себя, что он достиг того, чего не достиг, что он переживает то, чего не переживает, что он изменился так, как не изменился. Этот самообман, эта духовная прелесть часто поощряется церковным сообществом, которое нуждается в "историях успеха" для поддержания веры в систему.
Но есть и четвертый путь, путь радикального переосмысления всей парадигмы. Что если проблема не в человеке, а в той богословской системе, которая создает неразрешимые парадоксы и предъявляет невыполнимые требования? Что если традиционное понимание греха, благодати, спасения нуждается в фундаментальном пересмотре? Что если Евангелие говорит о чем-то совершенно ином, чем то, что из него вычитала церковная традиция за две тысячи лет?
2. Виновата церковь?
Но если не человек виноват в своей духовной импотенции, если дело не в недостатке его усилий и не в испорченности его природы, то, быть может, корень зла таится в той самой институции, которая претендует на роль врачевательницы душ? Быть может, церковь – не госпиталь для грешников, как любят повторять ее апологеты, а фабрика по производству духовных калек? Не ковчег спасения, плывущий по волнам истории, а пиратский корабль, грабящий души под флагом благочестия?
Рассмотрим эту мрачную гипотезу без прикрас и сентиментальности, ибо ставки слишком высоки для вежливого молчания. Если церковь действительно стала препятствием между человеком и Богом, если она превратилась в то самое «горе вам, книжники и фарисеи», которое Христос обличал с такой яростью, то молчание становится соучастием в духовном геноциде миллионов душ.
Начнем с очевидного: церковь как институция подчиняется тем же законам социологии, что и любая другая человеческая организация. Томас Гоббс в своем «Левиафане» описал государство как искусственного человека гигантских размеров, созданного для защиты и управления естественными людьми. Но разве церковь не стала таким же Левиафаном – чудовищем, пожирающим тех, кого призвана спасать? Разве ее иерархические структуры, бюрократические процедуры, финансовые интересы не превратили ее в корпорацию, где духовность – лишь товар, а спасение – маркетинговый слоган?