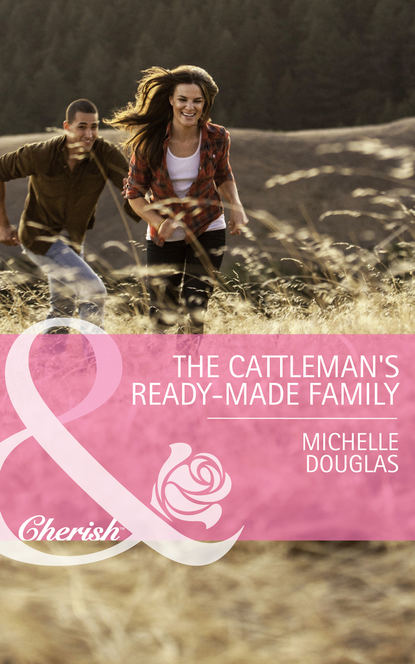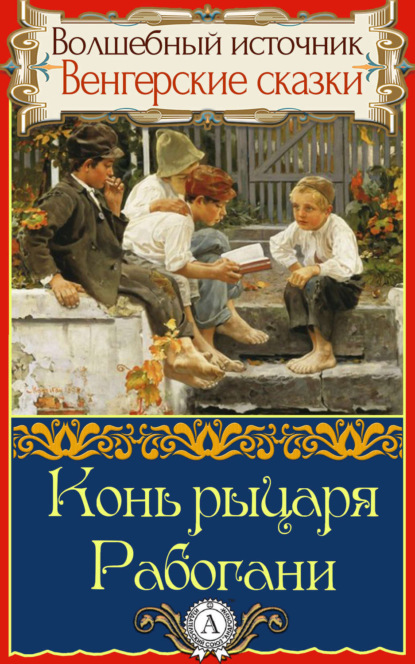- -
- 100%
- +
Анри Ле Со, французский монах-бенедиктинец, принявший санньясу в Индии и ставший свами Абхишиктанандой, с горечью наблюдал этот феномен даже в индуистской монашеской традиции:
«Они отреклись от мира – замечательно! Теперь они принадлежат к локе, «миру» тех, кто отрёкся от мира! Они образуют некое новое сообщество, собственную «группу», становясь своего рода духовной элитой, отделённой от обычных людей и призванной поучать их, словно «книжники и фарисеи», чьё поведение заставляло даже Иисуса, исполненного сострадания, терять самообладание. Затем развивается целый свод правил поведения, даже более жёсткий, чем в миру, со своими титулами, почтительными приветствиями, иерархией и прочим. Шафранные одежды становятся не столько знаком отречения, сколько принадлежности к «ордену свами». Поистине, редки те из них, кто, если и не требует, то хотя бы не ожидает особого уважительного отношения в связи со своим одеянием. Вместе с дикшей они получают доступ в сообщество «духовных лиц» и право получать пищу и все виды севы (служения) от других».
Разве не то же самое происходит в христианских монастырях и приходах? Равноангельный схимник, плывущий над землей в развевающихся одеждах с длиннющей лентой клобука, как фата невесты за спиной, – разве он не упивается своей принадлежностью к духовной аристократии? Великая схима со всеми ее символами, знаками, письменами по всей длине – разве это не парадный мундир воина света, не более реальный, чем световой меч из детского магазина? А эти торжественные собрания, где духовные особы вручают друг другу медальки и шапки разных цветов, алмазные посохи и золотые панагии – разве это не пародия на Царство Небесное, не карнавал тщеславия под маской смирения?
Буддизм, начавшийся с одинокого Сиддхартхи под деревом бодхи, медитирующего на природу страдания и путь освобождения, превратился в разветвленную систему храмов, ритуалов, иерархий. Махаяна создала пантеон бодхисаттв, практически неотличимый от политеистических культов. Тибетский буддизм породил теократию далай-лам с дворцами, армиями, политическими интригами. Дзен-монастыри в Японии стали центрами боевых искусств и политического влияния. Где та простота четырех благородных истин? Где тот срединный путь между аскетизмом и гедонизмом? Утонули в золоте статуй, благовониях храмов, иерархиях лам и ринпоче.
Даосизм, учивший о естественности и спонтанности, о следовании Дао без усилий и претензий, породил религиозный даосизм с его сложнейшей системой божеств, духов, талисманов, ритуалов. Алхимические практики поиска бессмертия, иерархии небесных наставников, магические обряды – все это наросло на простом учении Лао-цзы как ракушки на днище корабля. Институциональная религия пожрала мистическую философию, оставив от нее лишь имя и несколько цитат, вырванных из контекста.
Но христианство превзошло все остальные религии в искусстве институционального извращения изначального послания. Иисус говорил: «Царство Мое не от мира сего» – церковь создала теократические империи. Он учил: «Не можете служить Богу и маммоне» – Ватикан стал одним из богатейших государств мира. Он предупреждал: «Кто хочет быть первым, будь всем слугою» – церковная иерархия воздвигла троны патриархов и папский престол. Он молился: «Да будут все едино» – христианство раскололось на тысячи враждующих деноминаций.
Тридентский собор, созванный католической церковью в ответ на Реформацию, явил миру образец того, как институциональная религия защищает свою власть. Вместо честного исследования библейских оснований протестантских возражений, собор просто декларировал: устные предания равны по авторитету Священному Писанию. Одним росчерком пера любая церковная традиция, любой обычай, любая выдумка клириков получила статус божественного откровения. Истина? Какая истина? Истина – это то, что говорит церковь. Sic dixit ecclesia – так сказала церковь, и точка.
Эта логика самообожествления институции достигла апогея в догмате о папской непогрешимости. Человек, избранный группой кардиналов через политические интриги и финансовые махинации, объявляется неспособным ошибаться в вопросах веры и морали. Абсурдность этого утверждения не смущает миллионы католиков, приученных к повиновению с детства. Церковь сказала, что папа непогрешим – значит, так и есть. Церковь сказала, что Мария была зачата непорочно – значит, так и было. Церковь сказала, что можно покупать индульгенции – значит, покупайте и не рассуждайте.
Православие, гордящееся своей верностью традиции, создало не менее изощренную систему духовного порабощения. Здесь нет единого непогрешимого папы, зато есть непогрешимое предание, которое интерпретируют непогрешимые старцы. Послушание духовнику возведено в абсолют – даже если он велит идти против совести, против разума, против очевидности. «Отсеки свою волю», – учат в монастырях, превращая людей в духовных зомби, неспособных к самостоятельному суждению. «Будь как труп в руках духовника», – наставляют послушников, и они становятся трупами при жизни.
Протестантизм, восставший против католической тирании под лозунгом «только Писание», породил свои формы институционального безумия. Каждая деноминация объявляет свое толкование Библии единственно правильным. Баптисты анафематствуют пятидесятников за говорение на языках. Кальвинисты проклинают арминиан за учение о свободе воли. Лютеране отлучают реформатов за понимание евхаристии. И все они дружно осуждают католиков и православных как идолопоклонников. Sola Scriptura превратилась в bella omnium contra omnes – войну всех против всех.
Механизм институционального порабощения работает безотказно. Сначала церковь объявляет себя единственным посредником между человеком и Богом. Вне церкви нет спасения – extra ecclesiam nulla salus. Затем она монополизирует средства благодати – таинства действительны только если совершены правильно рукоположенным клириком. Потом присваивает себе право толковать Писание – простые верующие не могут правильно понять Библию без руководства церкви. Наконец, узурпирует совесть – церковь знает лучше тебя, что для тебя благо.
Любое сомнение в церковном учении объявляется гордыней. Любая попытка самостоятельного богоискания – прелестью. Любое несогласие с иерархией – бунтом против Бога. Круг замыкается: чтобы найти Бога, нужно прийти в церковь, но церковь не позволяет найти Бога иначе, как через подчинение ее власти. Бог оказывается заложником институции, которая говорит от Его имени, но служит собственным интересам.
Церковная корпорация функционирует по тем же законам, что и любая мирская организация. Главная цель – самосохранение и экспансия. Истина, духовность, спасение душ – все это лишь средства для достижения институциональных целей. Когда интересы институции вступают в конфликт с евангельскими принципами, побеждает институция. Педофильские скандалы замалчиваются для сохранения репутации. Финансовые махинации оправдываются нуждами церкви. Роскошь иерархов объясняется необходимостью поддерживать престиж.
Кастовая система внутри церкви воспроизводит худшие образцы социального неравенства. Епископы живут во дворцах, простые священники перебиваются на копейки. Монахи из аристократических семей становятся игуменами, крестьяне остаются послушниками до смерти. Богословское образование – привилегия немногих, остальным велено слепо верить. Мужчины господствуют, женщины прислуживают. Клирики командуют, миряне повинуются.
Эта система настолько противоречит духу Евангелия, что требуется постоянная идеологическая обработка для подавления когнитивного диссонанса. Христос умыл ноги ученикам – патриарху целуют руку. Христос не имел где главу приклонить – епископы владеют недвижимостью на миллионы. Христос общался с мытарями и блудницами – церковная элита брезгует простым народом. Христос обличал религиозное лицемерие – церковь возвела лицемерие в систему.
Религия стала индустрией по производству чувства вины и продаже утешения. Сначала человека убеждают в его греховности, затем предлагают спасение – за десятину, за послушание, за участие в ритуалах. Это классическая схема: создать проблему, затем продать решение. Фармацевтические компании изобретают болезни, чтобы продавать лекарства. Церкви изобретают грехи, чтобы продавать отпущение.
Но самое страшное преступление институциональной религии – подмена живого Бога мертвой доктриной, превращение мистического опыта в набор правил, замена личных отношений с Абсолютом на подчинение религиозной бюрократии. Церковь встает между человеком и Богом как непрозрачная стена, покрытая иконами и украшенная позолотой, но не пропускающая света. Она говорит о Боге, поет о Боге, учит о Боге – но не дает встретиться с Богом. Более того, она активно препятствует этой встрече, ибо человек, встретивший Бога напрямую, больше не нуждается в посредниках.
Современное христианство продолжает политику духовного империализма. Мегацеркви превращаются в корпорации с миллионными оборотами. Телеевангелисты собирают стадионы и обещают процветание за пожертвования. Православные иерархи благословляют оружие и освящают войны. Католические прелаты прикрывают преступления и защищают педофилов. И все это – во имя Того, Кто сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Религия враждебна Христу – вот горькая истина, которую необходимо признать. Она враждебна Его свободе, Его простоте, Его любви, Его истине. Она создала из Его учения тюрьму, из Его заповедей – кандалы, из Его жертвы – товар, из Его имени – бренд. Церковь-корпорация, церковь-Левиафан не имеет ничего общего с той общиной любви, тем мистическим Телом, о котором говорил апостол Павел.
Но здесь возникает мучительный вопрос: если церковь действительно стала препятствием на пути к Богу, духовной тюрьмой вместо дома свободы – то где искать подлинное христианство? Существует ли оно вообще? Или Евангелие было утопией с самого начала, красивой мечтой, которая не выдержала столкновения с человеческой природой и социальными законами? Может быть, институциональное вырождение было неизбежно, заложено в самой природе религиозной идеи, обреченной на извращение при попытке воплощения в истории?
3. Виноват Бог?
В предвечной тишине, где не существовало еще ни света, ни тьмы, ни времени, ни пространства, где одна лишь Троица пребывала в неизреченном единстве Своей любви, был начертан план всего сущего – план, включающий каждую слезу младенца, каждый вздох умирающего, каждое преступление тирана, каждую молитву мученика. И если мы осмелимся спросить: кто ответственен за эту драму бытия, где переплетаются в немыслимом узоре нити блаженства и агонии, святости и порока, рая и ада? – ответ Писания обрушивается на нас подобно горной лавине, сметающей все человеческие попытки оправдать Творца перед творением.
«В безумии» ответим: да, виноват Бог.
Эти три слова, подобно молнии, рассекающей небосвод благочестивых иллюзий, обнажают ту истину, от которой содрогается религиозное сознание. Не человек с его немощами, не церковь с ее извращениями, но Сам Бог попускает всякое страдание, всякую боль, всякое зло в этом мире – не как творец зла, ибо «Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13), но как суверенный Владыка, попускающий злой воле человека и сатаны совершаться в истории. Ибо написано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7).
Нет ни единой слезы, которая пролилась бы без Его ведома и попущения, нет ни единого стона, который раздался бы вопреки Его воле, нет ни единого мучения, которое совершилось бы помимо Его предвечного замысла. Каждое биение сердца грешника, идущего путем погибели, каждый шаг праведника, восходящего к святости, каждое движение ангела света и каждое действие духа тьмы – все совершается внутри непостижимого круга Его промысла, который объемлет все сущее железными объятиями предопределения.
Современное сознание, пропитанное гуманистическими миазмами, корчится в судорогах протеста против этой невыносимой истины. Человек эпохи прав и свобод, возомнивший себя мерилом всех вещей, создавший идолов из личной автономии и индивидуального достоинства, не может принять Бога, который действует не по правилам демократической этики, не по законам гуманистической морали, не по принципам всеобщего равенства. Он жаждет бога-слугу, бога-исполнителя желаний, бога-гаранта счастья, но сталкивается с Богом-Владыкой, перед волей которого трепещут небеса и содрогается земля.
«Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: что ты делаешь?» (Ис. 45:9). Но именно это и делает современный человек – препирается, судит, выносит приговоры Тому, Кто является источником самого бытия. Он примеряет к Богу свои жалкие представления о справедливости, словно муравей, пытающийся измерить океан своими челюстями. Он возмущается тем, что Бог «ожесточает, кого хочет» (Рим. 9:18), не понимая, что само его возмущение происходит по воле и попущению Того, против Кого он возмущается.
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал?» (Рим. 9:20). Эти слова апостола Павла, подобно обнаженному мечу серафима, отсекают все претензии твари судить Творца, все попытки подчинить Его замыслы человеческим критериям справедливости. Ибо что есть человек перед лицом Того, Кто называет несуществующее как существующее, Кто одним словом вызывает миры из небытия, Кто держит вселенную дыханием уст Своих?
Вот камень преткновения, о который разбиваются волны гуманистического богословия: Бог избирает одних ко спасению и оставляет других идти путями погибели, не спрашивая их мнения, не объясняя Своих действий, не оправдываясь перед Своим творением. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9:21). Эта истина, подобно раскаленному железу, выжигает все претензии человека на моральную автономию, на право судить о добре и зле, на способность определять, что справедливо, а что нет.
Писание не оставляет лазеек для бегства от этой сокрушительной реальности. «От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?» (Притч. 20:24). «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притч. 16:9). «В руке Господа сердце царя, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Притч. 21:1). Каждое движение человеческой воли, каждое решение, каждый выбор совершается внутри абсолютной суверенности Божьего промысла, который охватывает все и определяет все, от падения воробья до падения империй.
Но здесь современное богословие, зараженное гуманистической проказой, начинает свои жалкие попытки смягчить невыносимую остроту библейского откровения. Оно изобретает теории о «попущении», словно попущение не есть форма воли. Оно говорит о «свободе выбора», словно эта свобода существует вне и помимо Божьего предопределения. Оно утешается мыслью о «синергии», словно человек может быть соработником Всемогущего на равных основаниях. Все эти теологические костыли призваны защитить не истину о Боге, но человеческую гордыню, не желающую признать свою абсолютную зависимость от суверенной воли Творца.
Разве может Бог попустить Своей церкви впадать в идолопоклонство, проповедовать ереси, извращать истину Евангелия? Своей Церкви – нет, а вот собранию ряженых может. Более того, Он это делает. «Если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я простру на него руку Мою и истреблю его из народа Моего» (Иез. 14:9). Сам Бог посылает дух заблуждения: «за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2 Фес. 2:11).
Вершина этого откровения о суверенности Божьей воли – распятие Христа. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 2:23). Бог не просто попустил, не просто предвидел – Он предопределил смерть Своего Сына от рук тех самых людей, которых пришел спасти. Иуда с его предательством, Каиафа с его богохульством, Пилат с его трусостью, толпа с ее криками «распни!» – все они, действуя по своей злой воле, исполняли предвечный замысел Триединого Бога. Величайшее преступление истории было одновременно величайшим актом божественной любви.
Если Бог попустил Своему избранному народу – хранителям закона и пророчеств – стать богоубийцами, если позволил первосвященникам превратиться в слуг дьявола, если дал синедриону осудить на смерть Мессию, о котором свидетельствовали все Писания, – то может ли Он попустить самозванной церкви погрязнуть в заблуждениях? Разумеется, может. История христианства – это летопись ересей, расколов, извращений, насилия во имя Христа, предательства Его учения теми, кто называет себя Его служителями.
Здесь разум человеческий стоит на краю метафизической пропасти. Как может благой Бог попускать такое зло? Как может любящий Отец позволять Своим детям блуждать в темноте заблуждений? Как может праведный Судья допускать торжество неправды в Своем собственном доме? Эти вопросы, подобно стаям воронов, кружат над развалинами человеческой логики, не находя места для отдыха.
Но Бог не оправдывается перед нами. Он не объясняет Своих путей в категориях человеческой этики. Когда Иов, праведник из праведников, корчился в пепле, покрытый гнойными язвами, потерявший детей, имущество, здоровье, и взывал к небесам с вопросом «за что?», Бог ответил ему не объяснением, но явлением Своего величия: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь… Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?.. Твоя ли мышца у бегемота, которого Я создал, как и тебя?» (Иов 38-40).
Перед лицом этой абсолютной силы, этой непостижимой мудрости, этого суверенного величия человек может только пасть ниц и воскликнуть вместе с Иовом: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5-6). Не понимание приносит мир, но видение. Не объяснение утешает душу, но откровение величия Того, Чьи пути неисповедимы.
Гуманистическое сознание не выносит этого унижения. Оно требует Бога, который соответствует его представлениям о справедливости, который действует по правилам, установленным Декларацией прав человека, который уважает достоинство личности и принципы демократии. Но библейский Бог сокрушает эти идолы одним дыханием Своих уст. «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9).
Но здесь, в самой бездне кажущегося произвола, в непроглядной тьме божественной суверенности, начинает мерцать иной свет. Ибо Бог, попускающий историческим церквям впадать в столетние и тысячелетние заблуждения, Бог, позволяющий ереси процветать и истине сокрываться, тот самый Бог открывает в определенный момент, избранным Своим, что вся эта непостижимая драма истории есть не что иное, как акт любви – любви настолько чуждой пониманию ветхому Адама, что требует полного переворота сознания для ее восприятия.
«Ибо надлежит быть и разномыслиям (αἱρέσεις – ересям) между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). Апостол Павел, вдохновенный Духом, провозглашает необходимость того, что кажется злом – разделений, ересей, заблуждений. Но эта необходимость не снимает ответственности ни с человека, ни с церкви: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17:1). Парадокс божественной экономии: то, что необходимо по промыслу, остается виновным по исполнению.
Значит ли это, что общее состояние христианства, эта картина духовной нищеты и институционального вырождения, эта пропасть между обещаниями и реальностью – все это попущение Бога? Да. Но Писание говорит о двойной воле: воле попущения зла и воле благоволения добра, которые в конечном итоге исходят из единого источника – любви.
Эта любовь не имеет ничего общего с сентиментальными представлениями современного человека. Это любовь, которая включает в себя гнев – не как противоположность, но как форму своего проявления. Любовь, которая судит – не вопреки милости, но ради нее. Любовь, которая наказывает – не из жестокости, но из желания окончательного блага избранных.
Когда Бог попустил Своему народу распять Своего Сына, когда позволил первосвященникам и книжникам – хранителям закона и пророчеств – стать богоубийцами, Он явил высшую форму этой непостижимой любви. В самом страшном преступлении истории совершилось величайшее благо. В предельном богооставлении открылось предельное богоприсутствие. В абсолютном поражении была одержана абсолютная победа.
Так и с церковью. Бог попускает ей погружаться в пучины заблуждений, тонуть в болоте институционального вырождения, гнить в роскоши и лицемерии не потому, что Ему безразлична ее судьба, но потому, что через это разложение, через эту смерть должно прорасти нечто новое – то, что не могло бы родиться без прохождения через тьму. Как зерно должно умереть в земле, чтобы принести плод, так церковь должна пройти через агонию самообличения, чтобы воскреснуть в подлинной славе.
Избранным, в определенный момент их духовного странствия, открывается иная перспектива. Словно завеса спадает с глаз, и они видят, что все – абсолютно все – было любовью. Каждое страдание, каждое искушение, каждое падение, каждый момент богооставленности был тщательно отмерен, взвешен, определен любящей рукой, ведущей к конечному благу, которое превосходит все временные страдания. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28) – не некоторое, не многое, но все, включая зло, грех, страдание, смерть.
И в этом списке стоит и блуждание во тьме ложных доктрин, которые генерируют собрания, прикрывающиеся Его именем. Блуждание во тьме ложных доктрин и учений есть промыслительный акт Божий, научающий избранных различать свет от тьмы, добро от зла, истину от лжи через горький опыт заблуждения, подобно тому как дитя познаёт опасность огня, обжёгшись о него, а не только слушая предупреждения родителей. Потому и существуют, и попускает Бог существовать лжецерквям, лжеучителям, лжепророкам – не потому что Он бессилен их уничтожить или равнодушен к истине, но потому что через столкновение с ложью Его избранные научаются ценить истину, через опыт духовного рабства познают сладость евангельской свободы, через муки религиозного перфекционизма обретают покой в совершённом деле Христовом, так что даже годы, проведённые в плену заблуждения, не пропадают втуне, но служат педагогическим инструментом в руках Того, Кто "и Египет называет народом Моим" (Ис. 19:25), превращая даже опыт рабства в школу познания свободы.
Здесь человек стоит на распутье. Либо полное смирение перед непостижимостью Божьих путей, принятие того, что «как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших» (Ис. 55:9), и через это смирение – вхождение в покой, в тот субботний отдых, который остается для народа Божьего. Либо бунт – гордый, титанический, люциферианский бунт против Бога, который осмеливается попускать зло, который позволяет страдать невинным, который молчит, когда хочется услышать Его голос, который скрывается, когда нужно Его присутствие.
Третьего не дано. Нельзя принять Бога наполовину, нельзя согласиться с Его благостью, но отвергнуть Его суверенность, нельзя желать Его любви, но не принимать Его судов. Либо Он – всё, либо Он – ничто. Либо Его воля – совершенна во всех ее проявлениях, включая попущение зла, либо Он не Бог, а идол человеческого воображения.
И вот здесь, в этой точке предельного напряжения между человеческим и божественным, между разумом и верой, между справедливостью и любовью, начинает брезжить рассвет нового понимания. Что если все наши мучения о том, "кто виноват" – человек, церковь или Бог – это ложная постановка вопроса? Что если само понятие вины неприменимо к той драме спасения, которая разворачивается в истории? Что если есть иной способ понимания христианской реальности, который выводит за пределы этого порочного круга обвинений и самообвинений?
Да, виноват человек – его воля извращена, его сердце лукаво, его разум помрачен. Да, виновата церковь – она предала Жениха, продала первородство за чечевичную похлебку институциональной власти, превратила живое Тело в мертвый Левиафан. Но за всеми этими винами, словно солнце за тучами, сияет суверенная воля Того, Кто попускает заблуждающимся ходить своими путями, Кто позволяет церкви погружаться в пучины ереси, Кто дает человеку испить чашу его собственного безумия до дна.
Это попущение не есть равнодушие или слабость, но форма того же предвечного замысла, который направлен не к нашему комфорту, не к нашему благополучию, не даже к нашему спасению как таковому, но к единственной достойной цели всего мироздания – прославлению Единородного Сына.