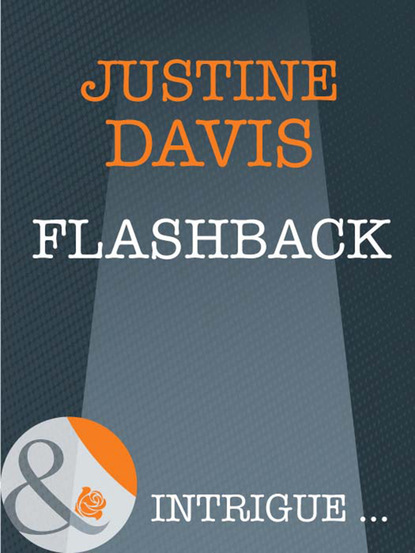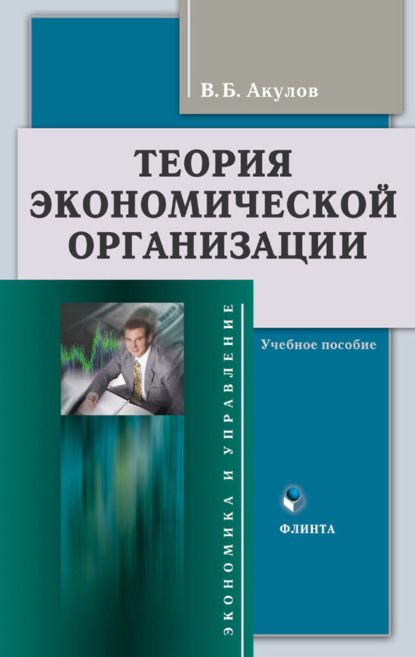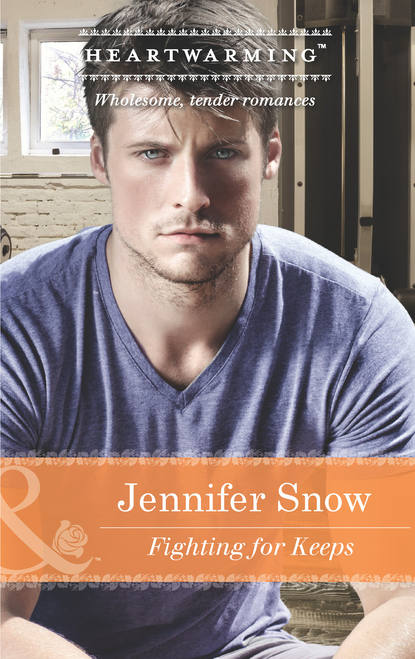- -
- 100%
- +

ПРЕДИСЛОВИЕ
С детства я была очарована сказками. Но в отличие от многих, кто с замиранием сердца следил за подвигами царевичей и добрых молодцев, мое сердце всегда принадлежало другим героям – тем, кого принято называть отрицательными. Бабе-Яге, Лешему, Кикиморе… Мне всегда казалось, что в их историях скрыта какая-то недосказанность, что их «злодейство» – это лишь грубая маска, за которой прячется обида, одиночество или просто инаковость, которую не смог принять мир.
Я до слез переживала и «болела» за них и втайне всегда находя им оправдание. А что, если Баба-Яга такая вредная, потому что у нее от одиночества кости ломит? А если Леший ворчит и сбивает путников с тропы, потому что ему просто не с кем словом перемолвиться? Так, сама того не заметив, я начала видеть доброе и человечное там, где его, казалось бы, нет и в помине.
Возможно, именно это детское чувство и легло в основу этой книги. Здесь вы не найдете классических злодеев. Здесь каждый, даже самый, казалось бы, неприглядный персонаж – будь то бабка с бородавкой, вредная тётка Матрёна или бесёнок, томящийся экзистенциальной тоской, – на поверку оказывается существом с добрым сердцем, просто немного заблудившимся, непонятым или идущим к своему счастью окольными путями. Все они в итоге – положительные. Потому что я верю, что доброта и способность к искреннему смеху над самим собой живут в каждом, нужно лишь разглядеть их под слоем наносных условностей, страхов и деревенских предрассудков.
Эта книга – моя попытка создать мир, где чудеса и абсурд идут рука об руку, а главное волшебство заключается не в заклинаниях, а в доброте, дружбе и умении посмеяться над собой. Мир, в котором даже у самой неприкаянной души есть шанс обрести свой дом и свою любовь.
И пусть эта история началась для меня много лет назад с тихого голоса моего деда, который, как и главный герой этой книги, умел находить волшебство в самых простых вещах. Однажды он написал для своей маленькой дочки – моей мамы – вот это простое стихотворение. Оно стало первой любимой сказкой в моей жизни и, по сути, духовным началом всей этой истории.
Ходит мышка небольшаяЗа горбушкой поспешаяНет ни силы, ни умишкаНо боится Таня мышкуПусть же мышка не форситЕй подсыпали крысидАлебастр еще с мукойЩедрой сыпали рукойНа десерт прожоре-мышке…Точно мышке будет крышка!Съели мышки корма лишку…Не боится Таня мышку!Протянули мыши лапыСочинил для Тани папа.К.И. Федоров
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Скрипнула дверь, распахнулась, и в убогие сумерки горницы ворвался ослепительный столб света, а в нём – округлый женский силуэт. Без стука и приглашения на пороге возникла невысокая девушка с лицом полной луны и большими глазами-вишнями. Одета она была вызывающе по-городскому: легкомысленные розовые джинсы, белоснежные кроссовки и простую футболку.
Уставилась на неё хозяйка – особа преклонных лет с лицом, которое смело можно было бы назвать боевым. Вид имела лихой, разбойничий, а подбородок её венчала главная стратегическая высота – неприглядная, мохнатая бородавка.
Седая грива волос, не признававшая над собой ни власти гребней, ни указок здравого смысла, была сбита в невообразимую причёску, смахивающую на воронье гнездо после урагана. Большой же, гордый бабкин нос и вовсе вёл самостоятельную жизнь: поминутно морщился, вздрагивал и безостановочно поводил ноздрями, будто вынюхивая в воздухе не столько запахи, сколько чужие грехи и свежесобранные сплетни.
– Ты не нашинская, – отрубила бабка, изрекая факт чрезвычайной, по её разумению, важности.
Девушка попятилась, судорожно шаря за спиной рукой в поисках спасительной дверной ручки.
– Не деревенская, – смягчила удар старуха, будто давая понять, что пришелица – не проказа, а так, лёгкая, бытовая чесотка.
– Я, пожалуй, пойду? – пролепетала кареглазая.
– А ну стой! – цыкнула на неё бабка так, что у Ники внутри всё перевернулось. – Ты, значит, дверь ко мне, особую, нашла? – в её глазах вспыхнул неподдельный, почти профессиональный интерес.
Девушка неуверенно кивнула и тут же ужаснулась содеянному:
– Да, дверь… Я, наверное, не в ту дверь зашла… Не по адресу… Я пойду?
– По адресу! – отмахнулась бабка, словно от назойливой мошки. – Раз пришла – значит, в самую точку. Чую я, дела у тебя сердешные, тяжкие. Бежишь ты от них, а они за тобой – топотом, да с таким азартом, что аж ко мне, в такую глушь, загнали. Только учти, приворотов я не делаю! Это против моих принципов и экологической сохранности!
– Ой, нет уж… Я не за этим, – смутилась девушка и густо покраснела, как маков цвет.
– Вот как, – почесала бабка свою стратегическую бородавку. – Как тебя зовут-величают, красавица?
– Ника.
– И имя не нашенское. Ну, да не ты выбирала. Однако, коли не за приворотом… Уж не за остудой ли ты, девонька? Неужто от любви своей отказаться возжелала?! – ахнула бабка, схватившись за сердце, будто Ника предложила ей добровольно отказаться от самогонки.
Ника посмотрела на старуху, и в ней будто что-то щёлкнуло. Все муки, от которых она бежала, накрыли её с новой, неимоверной силой. Она обмякла, ссутулилась и, словно таща на своих хрупких плечах все мировые проблемы, доплелась до стула.
– Садись, садись, девонька, – засуетилась бабка, которую внезапно и до самой глубины души тронули эти немые мучения. – Где ж мои манеры-то подевались? Испей-ка для начала водицы колодезной, прохладной.
Она налила из мутного зелёного графина. Ника выпила залпом, не глядя.
– Вода-то колодезная, она… натуральная, – будто оправдываясь, повела свою линию старуха. – Может, и тиной отдаёт слегка, но зато безо всякой вашей городской химии! Ну и… мало ли что в неё перелётные птахи нагадят. Всё же своеобразное минеральное обогащение… Вынь да пей… Ой, что-то не то я болтаю… Хорошая вода, короче говоря!
Бабка вновь наполнила стакан и протянула его Нике. В этот момент в звенящей тишине раздался настырный скрип – дверь приоткрылась, и в щели показался длинный, явно любопытный нос.
Старуха, не глядя, отмахнулась в ту сторону кривым мизинцем и буркнула что-то злое и бессвязное, вроде: «Чтоб ты добежала только до полпути, а после и двух рулонов не хватило!»
За дверью тут же раздался удивлённо-обиженный возглас, и послышались поспешно удаляющиеся шаги.
– Матрёна, – коротко пояснила бабка, и по тону её было ясно, что это исчерпывающее объяснение для всех мыслимых и немыслимых бед деревни.
А Ника, отпив ещё один стакан этой странной, но на удивление живительной влаги, и впрямь успокоилась. Напряжение отпустило её плечи, дыхание выровнялось. Она сидела на корявом стуле, будто нашла, наконец, то самое место, где можно просто быть.
– Остуда, девонька, дело дюже непростое, – озабоченно посмотрела на неё бабка. – Надежнее всего к берегине твоей обратиться будет.
– К кому?
– К Берегине, милая. В твоём-то роду, поди, была такая – бабка либо прабабка, что приколдовывала. Кто в те времена не колдовал, коли дело к тому шло? Чтобы корова лучше доилась, чтоб муж на лево не заглядывался, урожай чтобы не пропадал… По тебе самой видать, голубка, – сила в роду была. А ты либо не веришь, либо по глупости своей не знаешь, как ею пользоваться. Вот взять хоть твою остуду… Дело, с виду, страшное. Любовью жертвуешь, пусть и безответной. Полюбить уж больше никогда не сможешь, это так. Но ведь ты не просто так отдаёшь – ты взамен можешь попросить! Попроси ума ясного, прозорливости. Волю свою собственную обретёшь, выбирать будешь наконец-то сама, без оглядки. И не так уж она плоха, остуда-то. Сердце утихомирится, плоть мучить перестанет… Полегчает, одним словом. А с другой стороны… Коли ничего не делать, так со своей злосчастной любовью ты ровно свечка истаешь, покуда вовсе не сгинешь.
Проповедуя эту странную смесь житейской мудрости и колдовского фатализма, бабка меж тем споро, с привычной ловкостью, развела под почерневшим котлом огонь. Тот вскоре закипел с таким угрожающим бульканьем, словно предвещал не варку зелья, а некий апокалиптический передел мира. Сама же старуха принялась кружить по избе, сыпля в бурлящую воду то пучки сушёных трав, от которых пахло летним лугом и забытыми обрядами, то корешки, хранившие в себе тёмную, подземную силу.
И тут, словно из самого воздуха, материализовался большой чёрный кот, важный, как президент академии. Возникнув из-за печки, он возложил к стопам хозяйки свою кровавую дань – свежепойманную мышь.
Бабка благосклонно улыбнулась этому подношению, подобрала трофей и с лёгкостью швырнула его в котёл.
– Вот же, Васька, умничка! – с одобрением изрекла она. – Настоящий Учёный Кот, не гнушается и чёрной работой помочь своей старухе. Что бы я без тебя, право, делала?
Пар над котлом, как по волшебству, изменил свой цвет на тревожный сиреневый и загустел до состояния жидкого киселя. Бабка внезапно понизила голос до конспиративного шёпота и скомандовала Нике:
– Гляди в оба, девонька! Сейчас начнётся!
И началось. В клубящихся фиолетовых волнах пара стал проступать образ. Сперва смутный, он быстро приобрёл черты строгой пожилой женщины, в чьём лице было нечто неуловимо родственное Нике. С той лишь разницей, что призрак был рослым, сухопарым и украшенным на всю правую щёку большим чёрным пятном, лежавшим, как печать некой тайны.
– Ты меня узнала? – спросило видение.
Ника оторопело смотрела на неё несколько секунд, а потом часто-часто заморгала:
– Ты – Берегиня? Ты – моя бабушка. Вернее, пра… пра…
– Не пракай. Времени у нас мало. Бабушкой зови. Я знаю всё. Слежу за тобой. Маешься ты, потому я тебя и позвала.
Ника попыталась что-то возразить, но дух прабабушки не был настроен спорить.
– Во сне он к тебе приходит. И сны твои такие сладкие, что готова ты не просыпаться никогда. А на яву каждый день без него тебе всё горше. Вот ты и решила остуду сделать. Дитя неразумное! Даже не представляешь, чем жертвуешь. Точно ли хочешь этого?
Из больших карих глаз Ники вдруг брызнули слёзы:
– Больно, бабушка.
– Тогда помогу, – согласилась Берегиня. – Но торопиться нам надо…
Бабка в углу, уже вовсю слезливо шмыгавшая носом, не вытерпела:
– Берегинюшка, так остуду ж на убывающую луну делают. А до неё две недели. Пожалуй, передумает ещё?
– Не мели, – отмахнулась Берегиня. – Не на луну, а на кровь. Утром у неё уже…
Ника помотала головой:
– Ещё не скоро вроде…
– Не спорь, дитя, – рассердилась Берегиня. – Пожалуй, сама всё сделаю. А то по незнанию делов натворишь. И помни только: сроку у тебя неделя. Я постараюсь дороги ваши развести. Но, если всё же встретитесь – не гляди ему в глаза, а то всё напрасно будет!
На этом напутствия кончились. Прабабушка Ники, будто набрав силу, стала расти, всё выше, до самого потолка, читая нараспев:
Сердце кровью умываетсяСердце кровью обливаетсяКак кровью заплачетВсе станет иначеНеделя пройдет,Сердце покой найдет.В первый день сердце виною наполнитсяВином успокоится.Во второй день тоска неизбывнаяСердце покинула.В третий день тяжкие сны истают как теньЧетвертый день сбудется – ожидание забудется.Пятый день память успокоит, первым покровом сердце накроетШестой день откупной, принесет отступной. Покров на сердце будет второй.Седьмой день – забвение, сердцу спасение. Последний покров сердце льдом скует.Семидница студеная, сердцу прощеномуПокой принесет, кровь беду заберет.Как последняя капля в землю уйдетСгинут печали за семью печатямиНи вода, ни змея, ни пчелаСердце не подточат, не подмочат, не ужалят.Кровь, земля, замок, снежный покров…Марево рассеялось, а вместе с ним испарилась и бабушка-Берегиня, оставив после себя лишь лёгкое дуновение тайны. Ника очнулась и с изумлением обнаружила, что восседает за грубым деревянным столом, вид которого недвусмысленно намекал, что тесали его не столяр, а садист, находивший особое удовольствие в наказании не только провинившихся, но и бездушного дерева.
Перед ней дымилась цветастая чашка, откуда тянуло густым, сладким духом мёда, мяты и ещё чего-то такого, от чего на глаза невольно наворачивались слёзы – пахло точь-в-точь как в детстве, у бабушки в деревне, где даже печенье имело привкус чуда. Воздух в горнице был густ, настоян на травах, вековой древесине и тёплом хлебе, и создавалось стойкое ощущение, что ты не дышишь, а сам медленно таешь, подобно комку сахара в стакане с дымящимся чаем.
Бабка только что закончила ритуал раздувания сапогом самовара – тот шипел и пыхтел, как разозлённый паровоз. Финальным аккордом она швырнула в его жаркую топку еловую шишку. Шишка тут же с радостным треском занялась, и принялась распространять по избе такой хвойно-смоляной дух, что казалось, вот-вот с потолка начнут свисать густые еловые ветви.
– Ну вот, – ободряюще крякнула старуха, плюхнувшись на лавку с грацией экскаватора, присевшего отдохнуть после сноса пятиэтажки. – Чайку попьём, дела обсудим. А меня, кстати, можешь величать бабушкой Яной. Ведьма я. Не пугайся, слово-то нынче опороченное, а суть его позабыли, как пароль от сберкнижки! Ведьма – это, милая моя, не про пакости, а совсем наоборот. Ведаю, значит. Травки, корешки, заговоры от сглазу на молоке… По мелочи, для души.
Она посмотрела на Нику своими живыми, хитрыми и на редкость молодыми глазами, в которых плясали такие весёлые искорки, будто она только вчера вернулась с самого разудалого шабаша и теперь не знала, куда девать нерастраченную энергию.
– Вы… Баба Яга? – вдруг, сама не зная зачем, выпалила Ника. Слова её повисли в воздухе тяжёлым, неловким облаком, и девушка мысленно похвалила себя за неукротимую фантазию и дипломатический такт.
Старушка не только не оскорбилась, но даже просияла. Она кокетливо поправила платочек на голове, приняв позу, достойную обложки журнала «Ведьмовской Vogue».
– Яна Григорьевна Абаба, – с лёгким придыханием поправила она, явно смакуя это имя, как гурман смакует старый коньяк. – А «Яга» – это, значит, абир… абрир… Словом, термин казённый! Для отчётности перед вышестоящими инстанциями, – она беспомощно пощёлкала в воздухе пальцами, будто ловя муху-термин.
– Аббревиатура, – машинально подсказала Ника, чувствуя, как почва под ногами окончательно превращается в воздушный суфле. Неужели… Та самая?
– Ага, она, родимая! – радостно закивала баба Яга, словно Ника только что ввела пароль от отвязавшегося Wi-Fi. – Скучно мне, девонька. Очень я тебе рада. Сижу тут одна, мыши да домовой – не собеседники. Один вечно ноет про сырость в фундаменте, другие – про скудный паёк. А ты, я погляжу, по дверям мастерица? Любую можешь открыть, чтобы уйти в… другое место? Не просто из прихожей в гостиную, а чтоб дух захватило, откинуло к чёрту на кулички, а потом вернуло обратно с попутным ветром и парой диковинных сувениров?
Ника озадаченно кивнула. В её жизни и впрямь встречались двери, ведущие откровенно не туда.
Старый амбар, за дверью которого оказывалась кофейня, где бариста был кот в фартуке и с татуировкой «LIVE FAST, DIE YOUNG»; чёрный ход из библиотеки, выводящий в парк юрского периода с табличкой «Динозавров не кормить, они уже на диете». В далеком прошлом она пережила немало приключений, связанных с дверями. Но как-то постепенно все забылось. А после она и вовсе списывала свои случайные «И теперь, глядя в эти ждущие глаза, она с лёгкой обречённостью, как человек, подписывающий договор с нечистой силой, спросила:
– Куда вам? На пляж? В Париж? Может, в спа-салон?
Баба Яга испуганно замахала руками, словно отгоняя рой назойливых мух размером с добермана.
– Да что ты, родная! Ещё в этот срам, в купальник, наряди меня! Да я в таком-то виде только на Лысую гору являться могу, да и то по большим праздникам! Нет, другое мне надобно. Хочу повидать олуха одного… Внука, можно сказать, по магической линии. Дело у меня к нему важное, наследство всучить, домик энтот. Хороший он, с порядочным домовым, ипотекой и прочими атрибутами счастливой жизни. Обычный, деревенский. С огородом, где сорняки сами себя полют. Библиотека, опять же, с литературой на несгораемой бумаге… Без надзора-то эти молодые колдуны – сами знаете, вместо эликсира вечной молодости сварганят растворимый кофе и будут этим гордиться.
Она многозначительно подмигнула Нике, словно та была её личным ревизором от магического надзора.
– Так что, красавица, – бабка ободряюще шлёпнула ладонью по столу так, что чашки дружно подпрыгнули, сделали двойное сальто и приземлились ровно на свои места, – готова к маленькому приключению?
И тут же, не дожидаясь ответа, Яга стремительно вскочила и принялась рыться в старом сундуке, с грохотом отшвыривая в стороны помело, связки сушёных жаб и прочий магический скарб. Верный бабкин филин Илларион, до этого неприметно сидевший на потолочной балке, пошевелился и свесился вниз. Он, с плохо скрываемым ужасом наблюдал за происходящей кастинговой вакханалией.
– Нет, мантия – это не то! – ворчала она, швыряя под стол расшитый звёздами халат. – Слишком пафосно! Будто ты не завещание вручать, а на шабаш собираешься! А этот плащ?.. Нет, пахнет серой и дурными предзнаменованиями. А надо – чтобы пахло бюрократией и запекшейся кровью чиновничьих чернил!
Илларион испустил тихое, многострадальное «уху-у-у», что в переводе с филинского означало: «А нельзя ли просто накаркать плохую погоду и остаться дома?»
– Молчи и не пререкайся! Ты – пернатый стратегический резерв! Не так уж и часто я тебя гонцом отправляю, – отрезала Яга, наконец извлекая из недр сундука строгий черный лапсердак и ярко надраенные штиблеты. – Спорила я с этим старым Кощеем да с Лешим мохнатым, что… А вот и не скажу что… И на что… Тут что главное: есть у меня один на примете… Без памяти, без роду, без племени. Дурень и увалень… А ты, мой пернатый друг, энтого недотепу и сыщешь!
Она ткнула пальцем в груду одежды.
– Надел – и вперёд, втирать очки будущему внучку! Точнее, втирать завещание!
Процесс превращения был далёк от поэзии. Это было не плавное перетекание форм под аккомпанемент магических вихрей, а нечто среднее между переодеванием ёлки на Новый год и попыткой запихнуть возмущённого кота в кофеварку.
– Лапы… то есть, руки – в рукава! Не вырывайся! Хвост подбери, он под пиджаком пуговицы отстёгивает!
Илларион недовольно шипел, когда Яга натягивала на него брюки, и пытался клюнуть её, когда дело дошло до галстука.
Но самый трогательный и одновременно комичный момент настал, когда Баба-Яга водрузила ему на клюв пенсне. Филин замер. Две лупы огромного размера исказили его и без того не маленькие глаза до размеров блюдец. Он неуверенно покрутил головой, и пенсне съехало набок.
– Ничего, привыкнешь! – ободряюще хлопнула его по спине Яга, отчего Илларион чуть не слетел с табуретки.
– Главное – смотри сурово и говори мало. Твоё кредо теперь: «Здравствуйте, я нотариус. У меня для вас известие». И никаких «уху»! Ты теперь не птица, ты – олицетворение канцелярской мощи!
Она сунула ему в лапу-руку кожаную папку, сверкнувшую красным отливом.
– Вот твой щит и меч! И запомни, – тут Яга понизила голос до конспиративного шёпота, – если что-то пойдёт не так, просто начни медленно моргать и смотри в пространство с вселенским безразличием. Люди всегда боятся того, чего не понимают, а вид невозмутимого человека-совы понимания не прибавляет. Проверено!
Илларион, тяжко вздохнув, посмотрел на своё отражение в самоваре. Из него смотрел крайне озадаченный джентльмен с совиной внешностью. Он попытался принять величественную позу, но пошатнулся и чуть не вылетел из блистающих штиблетов.
– Иди, мой пернатый гонец судьбы! – с пафосом провозгласила Яга, распахивая дверь. – Неси наследство и смущение в мир обывателей! И чтоб без фокусов! А то знаю я твою любовь в дороге погонять мышей… Ты теперь лицо официальное!
Бабка, смахнув умильную слезу, обернулась к Нике.
– Ну, девонька, открывай дверь моему посланнику! Время твоего мастерства пришло!
Ника знала, как открыть дверь «куда надо». Для этого нужно было четко представить желаемое место, остановить ход мыслей – и просто открыть дверь.
Девушка тяжело вздохнула, протиснулась мимо низкорослой ряженой птицы, замерла на миг на пороге и… открыла дверь в ослепительно белый, стерильный коридор…
Илларион, ничему не удивляясь, пробурчал что-то невнятное и шагнул за порог. Ковыляя и путаясь в собственных ногах, с зажатой подмышкой красной папкой он пошел прочь. С каждым его шагом, темный силуэт филина вытягивался и все больше становился похожим на человеческий…
…А в это самое время за окном сказочной избы, в мире, который принято называть реальным, происходило нечто диаметрально противоположное.
Воздух, наэлектризованный искрами грядущего, сгустился до состояния киселя.
Где-то там, далеко, в царстве стерильных белых стен, безжалостного света люминесцентных ламп и воздуха, пропахшего тоской и антисептиком, «наследник» вполне еще живой бабки даже не подозревал, что его ждет.
Невысокий, тучный, нелепый мужчина, занятый попыткой вспомнить, что такое «я», и не подозревал, что его судьба уже несётся к нему по больничному коридору в обличье бывшего филина в видавшем виды костюма, с кожаной папкой наперевес и пенсне на клюве.
Именно таким – неуклюжим, помятым и невероятно серьёзным – новоиспеченный нотариус Илларион и предстанет перед изумлённым взором Николая Филипповича, чтобы одним росчерком пера превратить его из безымянного пациента в Колдуна, наследника и главную, хоть и невольную, надежду деревни Авоськино.

НАСЛЕДСТВО С ПРИВРАТНОСТЯМИ
Очнулся поименованный «внучок» в палате белой, до одури чистой, до тошноты стерильной. Чистота здесь была такого разнузданного свойства, что даже микробы, если бы им вздумалось здесь завестись, должны были бы являться в бахилах и с персональными дезинфекторами, дабы не нарушать установленный порядок.
Свет, струившийся из бездушных люминесцентных ламп, преследовал одну-единственную цель: заставить любой живой организм – от пациента до залётной мушки – почувствовать себя прозрачным, как стёклышко, и готовым к вскрытию, да-с, именно так, в лучших традициях патологоанатомического театра.
Воздух же, густой и неподвижный, представлял собой классический коктейль под названием «Хлорка с намёком на безысходность». От него в горле першило с таким постоянством, словно там обосновался мелкий, но принципиальный демон, а во рту возникал стойкий привкус, напоминающий тому, кто помнил, детские опыты с батарейкой на язык или запретную сладость облизывания перил в метрополитене.
Первое, что он ощутил, была, извольте, не боль. О, нет! То была величественная, гулкая пустота в черепной коробке. Пустота столь абсолютная, будто мозги его аккуратно извлекли, пропылесосили все извилины, отполировали до ослепительного блеска и водрузили на место, запамятовав, однако, загрузить туда какую бы то ни было операционную систему.
Второе – раскрыв веки, он узрел лицо. Лицо незнакомого эскулапа, приближенное на столь опасное расстояние, что можно было не только разглядеть каждую пору на его коже, но и с изрядной долей вероятности определить, каким именно салатом – столичным или оливье – он предавался накануне.
– Ну-с, как самочувствие, пациент? – осведомился врач с той натянутой, деланной бодростью, с какой принято обращаться к дрессированным тюленям в цирке или к особо несговорчивым родственникам на семейном торжестве.
Страждущий попытался было изречь нечто. Мысленный приказ был отдан речевому аппарату, но сей последний, по-видимому, пребывал в затяжном, ничем не оправданном отпуске. Вместо внятной речи горло его издало звук, сходный со скрипом несмазанной двери в заброшенном сарае, где, если верить местным легендам, некогда скончался от неприличной скуки доисторический ящер.
Он не помнил ровным счётом ничего. Ни имени своего, ни того, как очутился в сем заведении, ни того, что вкушал на завтрак, если таковой вообще имел место. Амнезия его была столь тотальной и выхолощенной, что он без малейшего труда мог бы пройти проверку на детекторе лжи, с одинаковой искренностью утверждая, что он – и Наполеон Бонапарт, и, на худой конец, заварочный чайник в отставке.
Впоследствии, улавливая обрывки фраз медсестёр, которые, не стесняясь, перемывали косточки всему свету прямо над его неподвижным телом, он смутно уразумел, что его долго и тщетно пытались опознать по так называемым «особым приметам». И чего только в ход не пускали! Шрам на колене, причудливо напоминавший схему метрополитена главного российского города; родинка на лопатке, имевшая вид треугольника, выведенного неумелой рукой первоклассника; и, наконец, отсутствие двух верхних зубов мудрости, что красноречиво намекало на общий дефицит оной в жизни субъекта. Результат, увы, был плачевен. Он являл собою чистый лист бумаги, на котором какая-то канцелярская сволочь поставила жирный, фиолетовый и безапелляционный штамп: «НЕИЗВЕСТНЫЙ».