Исповедь иеромонаха. Тайное откровение Часть1
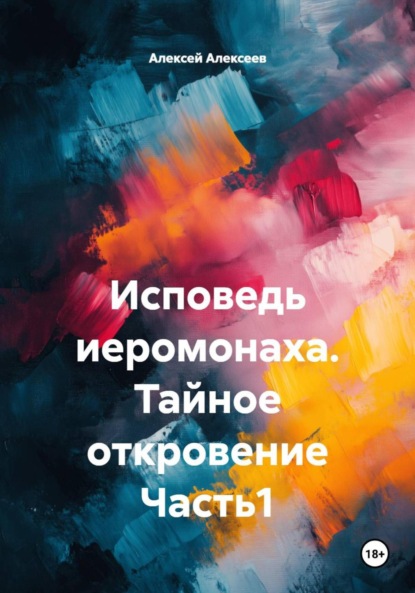
- -
- 100%
- +

Эта рукопись не имеет автора. Вернее, её автор предпочёл остаться в тени. На мою электронную почту пришло интересное письмо , которое отправил один иеромонах , который служит священником в одном из приходов. Это похоже на личную исповедь человека, который долгие годы в своём храме служит Литургии, панихиды и исполняет Таинства Церкви, принимая исповеди тысяч людей. Как оказалось , у него ещё было благословение на проведение чина изгнания бесов. Отдельным файлом прилагался манускрипт с описанием событий, историй, драм, исцелений, падений и побед в этой духовной брани его прихожан. В конце письма – маленькая просьба: …. “ по возможности откорректировать и опубликовать....дабы спаслись многия….Пусть эта тетрадь станет моим очередным послушанием. Не тому монастырю, стены которого хранили меня, но тому человечеству, чью боль я так долго ношу в себе. Потому что увидел: мы все живём в одном огромном монастыре, стены которого – наши страхи, а обет молчания – наше неумение говорить о самом главном.Я записывал это не для памяти. Я записывал, чтобы помочь каждому изгнать из себя демонов отчаяния, блуда, гордыни, уныния. И теперь я понимаю: чтобы изгнать их окончательно, нужно не запереть их в тетради, а вынести на свет. Чтобы они, увиденные глазами читателей, потеряли свою силу.... И если, закрыв вашу книгу, люди почувствуют не злорадство, а со-страдание, не осуждение, а дрожь узнавания – значит, я не зря нёс этот крест”.....
Глава 1. Отчитка. Не ищите беса- ищите боль
Свеча догорала, оставляя на подсвечнике наплыв застывшего воска, похожий на карту неизвестной страны. Тишина храма после многолюдной, шумной отчитки была особой – густой, насыщенной, как бы вобравшей в себя все крики, все стоны, все слезы и обратившей их в безмолвную молитву.
Я смотрел на этот воск и думал о всех тех душах, что прошли через этот храм. Не о бесах, что кричали их устами, – о них думать не надо. Я думал о людях.
Мы ищем чудес и страшных историй. Нам кажется, что изгнание нечистой силы – это некое сражение, подобное тем, что показывают в кино, с метанием святой воды и громоподобными молитвами. Но главная битва никогда не происходит здесь, у аналоя. Она происходит потом. В тишине. В том, как человек, получивший пронзительный опыт встречи с Благодатью, будет теперь жить. Сможет ли он простить? Сможет ли он отказаться от той страсти, что так долго глодала его изнутри? Сможет ли он полюбить Бога больше, чем свою боль?
Отчитка – это не финал. Это начало долгого, трудного пути домой. Это хирургическая операция, вскрывшая гнойник. Теперь рану нужно лечить. Постом, молитвой, исповедью, Причастием. И самое сложное – смирением.
Он вошел в храм не как все. Не с робким шагом и опущенным взглядом, а вразвалку, его плечи будто бы раздвигали воздух, а взгляд скользил по иконам с вызывающим безразличием. Высокий, крепкий мужчина лет сорока. Успешный. Тот, кого называют «сильной личностью».
Он подошел ко мне после службы.
–Батюшка, мне нужно на отчитку. – Голос был низким, твердым, но в его глубине я уловил стальной отзвук – словно кто-то другой говорил изнутри него.
–А что случилось? – спросил я, как всегда.
–Не знаю. Жить не хочется. Все бесит. Семью разрушил. Пью. Будто что-то во мне есть, что все ломает. Все знакомые говорят – сглазили. Надо, наверное, отчитать.
Я посмотрел ему в глаза. В них не было страха, лишь усталая, привычная злоба. Он был уверен, что проблема в каком-то внешнем «проклятии». Так всегда. Гораздо проще поверить в злой глаз соседки, чем признать, что годы гордыни, обиды и пьянства выжгли в душе пустыню, в которой теперь гуляет ветер отчаяния.
«Не ищите беса за каждым углом, – хотелось мне сказать ему. – Ищите свою боль. Ту самую, первую рану, которую вы когда-то не захотели исцелить прощением и смирением. Она-то и стала той щелью, через которую в вашу жизнь вошла тьма».
Но я не сказал. Он бы не услышал. Ему нужно было дойти до дна. До того момента, когда его «сильная личность» сломается, и он поймет, что не контролирует даже себя. И только тогда, в этом сокрушении, он будет готов к тому, чтобы его душа, наконец, закричала о помощи не мне, не знахарям, а Богу.
– Хорошо, – сказал я вслух. – Приходите в субботу. Но готовьтесь к исповеди. Это главное.
Он пришел в субботу. Тот самый мужчина – назовем его Сергеем. Храм был полон. Разные лица – от искаженных гримасой до окаменело-безразличных. Сергей встал в стороне, скрестив руки на груди, как будто наблюдал за странным спектаклем, в котором был вынужден участвовать.
Чтение началось. Молитвы, звучавшие веками, наполняли пространство, тяжелые и плотные, как свинец. Сначала ничего не происходило. Только шепот общих молитв да трепет свечей. А потом… это началось не с него. С другой стороны зала женщина лет пятидесяти с рыданием опустилась на колени, крича что-то хриплое, не свое. Сергей смотрел на это с презрительной усмешкой. Я видел его взгляд: «Со мной такого не будет. Я сильнее».
Но молитва – это не физическая сила. Это тонкий скальпель, который входит в самую суть, в самую сердцевину души, в ту самую боль, что ты так тщательно прятал. Он входит туда, куда не добирался ни один психотерапевт, потому что он касается не памяти ума, а памяти духа.
Мы дошли до Евангелия. Я читал о том бесноватом, которого исцелил Христос. И в этот момент я увидел, как Сергей перестал улыбаться. Его тело напряглось. А потом он просто сел на пол. Не упал, а именно опустился, будто все кости разом лишились твердости. Он сидел, сгорбившись, уставившись в каменную плиту перед собой.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа… – прозвучали знакомые слова заклинательной молитвы.
И он закричал. Но это был не тот истеричный крик, что я слышал до этого. Это был глухой, животный рев, полный такой первобытной ненависти и боли, что по коже пробежал холодок. Он не корчился, не бился. Он сидел, сжавшись в комок, и этот звук вырывался из самой глубины его существа, из той пустыни, что он в себе носил.
– Выйди, дух нечистый, из создания Божия! – я продолжал, чувствуя, как каждое слово дается мне с огромным трудом, будто я толкаю перед собой тяжеленную каменную глыбу.
– Уйди! – просипел он своим, но искаженным до неузнаваемости голосом. – Это мое! Он мой!
И в этот момент я понял, с чем мы боремся. Не с неким мифическим существом с рогами. Мы боремся с самой тьмой. С духом самоуничтожения. С духом гордыни, который шептал Сергею годами: «Ты сам себе хозяин», загоняя его в одиночную камеру его собственного «Я». С духом уныния, который превратил его жизнь в бессмысленный круг. Эта сущность так срослась с ним, что уже считала его своей законной территорией.
Молитва усиливалась. Люди вокруг плакали, молились, чувствуя незримую брань. А Сергей вдруг замолк. Он поднял голову. И я увидел в его глазах не злобу, а что-то совершенно иное – животный, ничем не прикрытый ужас. Ужас самого Сергея, который впервые за долгие годы увидел бездну внутри себя. Ту самую боль, с которой все началось.
Слезы потекли по его щекам. Тихие, беззвучные. Это уже плакал не бес. Это плакал он. Израненная, затравленная, но его собственная душа.
Когда мы закончили, он еще долго сидел на полу. Подойти к кресту он не смог – его тело била мелкая дрожь, как в лихорадке. Он был опустошен, вывернут наизнанку.
Он ушел, не глядя ни на кого. Но я знал, что самый главный шаг он сегодня сделал. Не бес вышел из него. Впервые за много лет из своего кровавого, выжженного подвала на секунду выглянул он сам. И этот первый взгляд на развалины собственной души был для него страшнее любого кошмара.
Но именно с этого взгляда и начинается исцеление. С мужества увидеть свою боль и назвать ее по имени.
Он пришёл через неделю. В тот же храм, к концу вечерней службы. Я заметил его, стоящего в тени у столпа, – будто призрак, застрявший между мирами. Тот вызывающий стержень в осанке исчез. Плечи были ссутулены, а в глазах читалась растерянность человека, внезапно очнувшегося после долгого сна.
Когда народ стал расходиться, он медленно подошёл ко мне.
–Батюшка… – его голос был тихим и хриплым, лишённым прежней металлической опоры. – Я… не знаю, что со мной было. После… того дня.
Он не мог подобрать слов. Как описать ощущение человека, который двадцать лет носил панцирь, а потом его с него сорвали, обнажив свежую, нежную кожу? Весь мир для него стал слишком громким, слишком ярким, слишком острым.
– Всё болит, – прошептал он, глядя куда-то мимо меня. – Внутри. Как будто меня избили. И… стыдно. Мне за тот крик… за всё…
– Это хорошо, – сказал я.
Он посмотрел на меня с недоумением,даже с обидой.
–Хорошо? Это ужасное состояние. Я не могу спать. Воспоминания лезут… такие, о которых я забыл. Детство… обиды…
– Это хорошо, – повторил я. – Потому что это твоя боль. Твоя, человеческая. Не чужая, не наведённая, не бесовская. Твоя. И теперь ты её чувствуешь. Раньше её заглушала та сила, что кричала тобой. А теперь ты остался с ней один на один. Это и есть начало исцеления – когда душа, наконец, обретает способность чувствовать свою собственную рану.
Он молча слушал, и по его лицу было видно, как в нём борются привычное недоверие и робкая надежда.
– Я не знаю, что с этим делать, – признался он. – Эта боль… она съедает меня изнутри.
– Теперь ты знаешь, где твой враг. Не в соседке-ведунье, не в порче, а здесь, – я мягко указал ему на грудь. – И теперь ты знаешь, куда и к Кому нести эту рану. Ты вспомнил, что у тебя есть душа. А у души есть Творец. Врач.
Мы договорились, что он придёт на исповедь. Не общую, торопливую, а на ту, что называется «с открытым сердцем», когда есть время выговорить всю накопившуюся грязь, все те обиды и грехи, что и стали питательной средой для тьмы.
Он ушёл, всё так же не глядя по сторонам, но уже по другой причине – ему было неловко, стыдно и… странно светло. Это тот самый этап, когда душа, как прокалённая в горне сталь, становится мягкой и уязвимой, но именно в этой уязвимости таится её будущая крепость.
Я остался в опустевшем храме. И глядя на ту самую плиту, где он сидел неделю назад, подумал: самое страшное в одержимости – не крики и не судороги. Самое страшное – это иллюзия, что тебе не больно. Что ты сильный. Что ты сам по себе. И самая великая милость Божья – это позволить человеку, наконец, почувствовать свою боль. Услышать стон своей собственной души. Потому что пока он не слышит своего стона – он не услышит и Бога.
Глава 2. Ящик Пандоры
Сергея сменила Валентина. Ей было около шестидесяти, и привела её на отчитку дочь – отчаявшаяся женщина с испуганными глазами. «Мама стала другой, – шептала она мне, – злая, грубая, по ночам разговаривает чужим голосом… Психиатры разводят руками, лекарства не помогают».
Валентина стояла с каменным лицом, губы сжаты в тонкую ниточку. Она не сопротивлялась, не упиралась – она просто отключилась. Когда читали молитвы, её тело оставалось неподвижным, лишь пальцы судорожно сжимали и разжимали край кофты. Казалось, ритуал не производит на неё никакого эффекта.
Но я уже научился смотреть глубже.
После отчитки её дочь подвела ко мне:
–Батюшка, скажите, почему она не кричала? Может, не помогает?
– Помогает, – ответил я. – Процесс идёт. Не всегда тьма уходит с боем. Иногда она уходит тихо, как вода в песок. Дайте время.
На следующую неделю Валентина пришла снова. И снова – никакой видимой реакции. Но на третьей неделе, когда я подошёл с крестом, она вдруг отшатнулась. Не резко, а плавно, как бы нехотя.
– Не надо, – прошептала она.
–Что не надо, матушка? – спросил я мягко.
–Не трогайте… меня… – её голос дрожал.
И тут я увидел в её глазах не злобу, а страх. Глубокий, детский, животный страх. Именно он годами прятался за маской чёрствости и раздражения.
После службы она осталась сидеть на скамье, не в силах подняться. Я подсел рядом.
– Страшно? – спросил я.
Она кивнула,не глядя на меня.
–Расскажите, чего боитесь.
И тут открылся ящик Пандоры.
Она заговорила. Сначала тихо, сбивчиво, потом слова полились рекой. Вся её жизнь – как оживание мумии. Рассказывала о послевоенном детстве, о голоде, о смерти младшего брата, о матери, которая запила с горя. О первом муже-алкоголике, о втором – тиране. О детях, которых она поднимала одна, о работе на трёх работах. О бесконечной усталости, о невыплаканных слезах, о непрощённых обидах.
– Всю жизнь я должна была быть сильной, – говорила она, и слёзы наконец потекли по её щекам. – Нельзя было показывать слабость. Никому. Слезам не было места. А потом… потом я просто окаменела. Чувствовать стало слишком больно. Я запретила себе чувствовать.
И я понял. Тьма, вселившаяся в неё, была не какой-то инородной сущностью. Это была её собственная, вытесненная, непрожитая боль. Боль, которая со временем обрела голос, обрела форму, стала жить своей жизнью. Она стала тем «чужим голосом», что звучал по ночам. Это была её тень, её вторая натура, порождённая годами непрожитого горя.
Отчитка не изгоняла нечто внешнее. Она по капле растапливала лёд, которым Валентина сковала своё сердце. И теперь, когда лёд тронулся, наружу хлынуло всё, что было сковано им десятилетиями.
– Я боюсь этой боли, – призналась она. – Боюсь, что она меня убьёт.
–Она не убьёт, – сказал я. – Она уже пыталась убить вас, превратив в камень. Теперь вы оживаете. Это больно. Как больны замёрзшие пальцы, когда их отогревают. Но это – боль жизни.
Мы договорились, что она будет приходить не только на отчитку, но и просто разговаривать. Иногда достаточно было просто сидеть рядом в молчании, давая ей пространство для слёз.
Прошло несколько месяцев. Валентина менялась на глазах. Каменное выражение лица сменилось живым, хоть и печальным. Она начала улыбаться. Её дочь со слезами благодарности рассказывала, что мама стала мягче, начала интересоваться жизнью внуков.
Однажды после службы Валентина подошла ко мне:
–Батюшка, а ведь эта… тьма… она была моей защитой, да?
–Да, – кивнул я. – Но какая это защита – превратиться в камень, чтобы не чувствовать боли? Бог дал нам сердце не для того, чтобы окаменевать, а для того, чтобы любить. И любить – значит быть уязвимым. Значит – чувствовать. И боль в том числе.
Она задумалась, потом медленно кивнула:
–Лучше чувствовать боль, чем ничего не чувствовать.
В её случае исцеление шло не через изгнание, а через возвращение. Возвращение к самой себе. К той девочке, которая когда-то плакала над могилой брата, но потом решила, что слёзы – это роскошь, которую она не может себе позволить.
Бог позволил.
Глава 3. Демон тишины
Если Сергей был бурей, а Валентина – подтаявшим айсбергом, то Артём стал для меня самой сложной загадкой. Его привела мать, худая, испуганная женщина с руками, вечно складывающимися в молитве.
«Он не выходит из комнаты, батюшка. Месяцами. Свет гасит, на стенах чёрные рисунки… И молчит. Почти не ест. Шёпотом иногда говорит… ужасные вещи».
Артём вошёл в храм, как призрак. Движения его были плавными, почти бесшумными. Лицо – красивое, но абсолютно безжизненное, маска из белого мрамора. Он не смотрел по сторонам, а будто сканировал пространство внутренним, чужим взглядом.
Когда началась молитва, он не упал, не закричал. Он просто… замер. Стоял посреди храма, не двигаясь, и смотрел в одну точку. Но воздух вокруг него гудел от напряжения. Казалось, сама тишина в его радиусе становится плотной, вязкой, ядовитой.
Я подошёл ближе с крестом. Его глаза медленно, против воли, перевелись на распятие. И в их зелёной глубине на секунду вспыхнула такая бездонная, холодная ненависть, что по спине пробежал холодок. Это была не человеческая злоба. Это была древняя, безличная ненависть ко всему живому, ко всему светлому, ко всему, что дышит и надеется.Но губы его не шевелились. Он молчал.
«Выйди, дух нечистый, из создания Божия!»
Тишина в ответ. Лишь судорога пробежала по его скуле.
«Запрещаю тебе именем Господа нашего Иисуса Христа!»
Он медленно, очень медленно покачнулся, будто под тяжестью невидимого удара. Но не упал. Казалось, сама тьма внутри него впилась когтями в его душу и не желала отпускать.
После службы его мать в слезах:
–Ничего не изменилось! Он так же молчит!
– Изменилось, – возразил я. – Он отреагировал. Молчание – это тоже ответ. Это его форма борьбы. Самая опасная.
Я попросил Артёма остаться. Мы сидели в пустом храме. Минуту, пять, десять… Полчаса. Он не двигался, глядя в пол.
– Тебе не обязательно говорить, – сказал я наконец. – Но я буду здесь.
Ещё пятнадцать минут тишины. Потом он вдруг поднял на меня глаза. И в них не было той бесовской ненависти. Была человеческая, леденящая тоска.
«…помогите…» – это был не звук, а всего лишь движение губ, беззвучный шёпот души, раздавленной невыносимой тяжестью.
И я понял. Его демон – не тот, что кричит и бьётся. Его демон – это демон отчаяния. Дух самоуничтожения, который шептал ему в тишине его комнаты, что он – ничто. Что мир – это боль. Что надежды нет. И этот шёпот был страшнее любых криков.
Мы стали встречаться регулярно. Иногда он молчал всю встречу. Иногда выдавливал из себя одно-два слова. По крупицам складывалась картина: одиночество, травля в школе, предательство друга, неразделённая любовь, разочарование в себе. Каждая рана была тщательно законсервирована и отравлена ядом той самой тьмы, что убедила его – он этого заслуживает.
Его исцеление стало самой медленной, кропотливой работой. Это была ювелирная очистка души, залитой чёрным бетоном безнадёжности. Молитва здесь была скальпелем, а исповедь – пинцетом, с помощью которого мы по крупице извлекали осколки ядовитых установок.
Прошло почти полгода, прежде чем он впервые вслух, чётко произнёс:
–Я… не хочу умирать.
Это была его первая, самая главная победа. Не над нечистым духом, а над тем отчаянием, что слилось с ним в один узел.
Артём научил меня, что самая страшная одержимость – это не когда в тебе живёт кто-то другой, а когда ты позволяешь тьме убедить себя, что ты – это она. Когда твой собственный голос становится голосом отчаяния.
И самое великое чудо – не когда бес кричит и уходит, а когда человек, потерявший собственный голос, находит его в тишине и шепчет: «Помогите». И в этом шёпоте – уже начало спасения.
Глава 4. Зеркало для священника
Летом в храм привезли девушку. Её звали Ирина, и её случай был самым тяжёлым из всех, что я видел. Её не вели – её несли на руках двое крепких мужчин, родственников. Тело её выгибалось дугой, пальцы скрючились в когти, а из горла вырывались звуки, не поддающиеся описанию – не животные и не человеческие, будто ржавые шестерни ломающегося механизма.
Её положили на скамью, придерживая, и началась молитва. То, что началось потом, не поддавалось логике. Она выла, плевалась, её тело билось в конвульсиях с такой силой, что державшие её мужчины с трудом справлялись. Но самое страшное было в её глазах – в них не было ни капли её самой. Только чёрная, бездонная пустота, вращающаяся воронка ненависти.
Я читал молитвы, обливаясь холодным потом. Каждое слово давалось с боем, будто я физически толкал перед собой неподъёмную глыбу. Воздух в храме стал тяжёлым, густым, им было трудно дышать. Некоторые из присутствующих не выдержали и вышли.
В какой-то момент, когда я поднёс крест к её лицу, она замерла. Конвульсии прекратились. Она медленно повернула голову в мою сторону, и её губы растянулись в улыбке – неестественной, чужой, леденящей душу.
И она заговорила. Голос был низким, скрипучим, абсолютно чужим.
«А ты думал, ты сильный? Святой? Смотри, как ты дрожишь. Ты боишься. Ты боишься нас. Ты боишься, что мы покажем тебе тебя самого».
Я продолжил читать, стараясь не смотреть в эти глаза.
«Помнишь твой гнев? Твою гордыню? Твои тёмные мысли? Ты ведь такой же, как мы. Только притворяешься. Носишь рясу, прячешься за крестом. Но внутри… внутри ты такой же грешник. Хуже. Ибо они» – голос кивнул в сторону других людей – «не притворяются святыми».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



